Российского гуманитарного
научного фонда (грант 12-04-12003 в.)
1
Л. Н. КОТЛЯРЕВСКОЙ
[1838 — 1839]
Милая Любинька! Желаю тебе доброго здоровья и благодарю тебя за письмо. Вариньку благодари за письмо, которое она мне написала. И кланяйся Саше, благодари его за поклоны его мне. Матвей Федорович скончался, мне его ужасно жаль. Илья Иванович пред смертью его совершенно одурел, так поразила его внезапная перемена болезни. Любинька тебе кланяется. Николай Чернышевский.
P. S. Матвей Федорович умер в четвертом часу пополудни.
2
А. Ф. РАЕВУ
3 февраля 1844 г.
Александр Федорович!
Еще раз благодарю вас, очень благодарю за ваше одолжение. Но объясните, сделайте милость, мне:
1) В каком объеме будут спрашивать ответов на предложенные в программе вопросы. (Я думаю, подробнее, чем в семинарии преподают, особенно из истории и физики, или нет?) Определите это, пожалуйста, как можно поточнее.
2) Какие учебники приспособлены к этим вопросам или (я думаю, все то же) какие употребляются в гимназиях С.-Петербургского округа?
3) Из математики (о, камень претыкания у воспитанников духовных семинарий!) будут ли спрашивать доказательства на предложения, теоремы, правила и пр.?
4) Из языков только ли перевод будут спрашивать, или еще и грамматику? Не заставят ли декламировать наизуст (как написано в программе саратовской гимназии), наизуст по лучшему отрывку из прозы и стихов? (Никакую грамматику, признаться, никак не могу привыкнуть долбить наизуст; спасибо, что во все 11/3 года только раз спрашивали.) Если перевод, нельзя ли сде-
5
лать, что заставят переводить только с французского и немецкого на русский, а не обратно, как написано в программе? Если же уж это невозможно (впрочем, пишите, пожалуйста, если худо или трудно только), то в какой степени будут требовать чистоты и правильности перевода? Если же как бог вложил в мысль заставят переводить на русский, этого мы не боимся.
5) Из какого класса семинарии поступать в университет, можно ли из философского, или только из богословского? Если можно из философского, то по окончании ли курса, или пробывши только год?
Отвечайте, сделайте милость, покорнейше прошу вас (синонимы, содействующие, по мнению «словесности», большей силе, выразительности, полноте, обилию, живости и занимательности речи) на все эти вопросные пункты, и так, чтобы ничего не оставалось сомнительного или обойденного (влияние оной же вышереченной наставницы мудрых ораторов). В самом деле, сделайте милость, объясните все это мне получше. Я буду вам очень благодарен.
6) Может ли недостаток баллов в одном предмете вознаграждаться излишеством в другом и в какой мере? Может ли вознаграждаться в одинаковом предмете?
7) На какие предметы особенно обращается внимание? т. е. в каких строже экзаменуют и баллы важнее?
Сделайте милость, не пожалейте труда и часа времени. Очень одолжите.
Не подумайте, однако, — из того, что я так настоятельно спрашиваю, — что я уже еду к вам. Ничего не знаю, как и прежде. Куда бог даст. Allen, wenn es nur um meien Wollen werden sie befragen mich, so gehe ich der höchsten Freude und nämlich in Facultät der orientalischen Sprachen*. Напишите, какие языки преподают в восточном факультете и, чтоб поступить, требуется ли знание какого-либо из этих языков? Какие там профессора и адъюнкты? Пожалуйста.
Разумеется, скучно в семинарии, но не так, как в гимназии: здесь не учат наизуст уроков, хоть это отрада. Уж если разобрать только, то лучше всего не поступать бы никуда, прямо в университет, но ведь бог знает, можно ли еще будет. В таком бы случае ни рыба, ни мясо. А уж в семинарии что делается, и не знаю. Было житье раньше, а ныне уж из огня да в поломя. Об учениках уже и говорить нечего: в класс не пришел — к архиерею. Но и между собою перекусались. Ректор на профессоров к архиерею, инспектор тоже на И. Ф. — поздно ходит в класс. Дрязги семинарские превосходят все описание. Час от часу все хуже, глубже и пакостнее.
Приезжал преосвященный — на исторический класс. Гордея
Семеновича ученики так обрезали [отрезàли?], что объявил благодарность, а мы отделали И. Ф. так, что и теперь еще, я думаю, лихорадка бьет. Терсинским ученики восхищаются. Но ректор не дал ему ни одного хорошего ученика, а дрянь всю свалил к нему.
G. S. умеет только ругаться, а толку от него ничего нет. По-латине переводят курам насмех, и того же ругает, кто так, как должно, переводит.
Утешаюсь тем, что лучших взять негде.
В гимназии случилось важное происшествие. Директор промотал тысяч 30, и учителя, подписывавшие три года книги не глядя, стали к нему в декабре приступать, чтоб освидетельствовать сумму. Он во вторник утром вышел и с тех пор не возвращался домой. Спохватились, нигде не нашли. Открылось, что ездил на извощике в городок за Волгой, во вторник и среду. В среду поехал назад, отпустил извощика на средине Волги и сказал, что пройдет пешком. Его остерегал извощик, говоря, что выступила в иных местах вода, чтоб он так доехал уже. Он не послушался. С тех пор его нигде не видели. Большею частью говорят, что он утопился. Бог знает, может быть, утонул, может быть, где-нибудь скрывается. Но директора уже прислали нового, уже будет с неделю, на его место по донесению о пропаже его инспектора и учителей. Прислали и ревизора, свидетельствовать сумму.
3
РОДНЫМ
[19 мая 1846 г.]
Милый папенька! Пишем к Вам из Мариинской колонии, где остановились кормить лошадей; доехали мы сюда очень благополучно и, как видите, очень тихо. Ночевали мы в Ольшанке. Извозчик наш пока очень хорош: каков-то, бог даст, вперед будет: а, кажется, можно надеяться, что нам нельзя будет быть им недовольным. Приехали сюда в Мариинскую колонию в 11 часов утра, застали Ивана Андреевича еще в церкви, служащим, по окончании обедни, молебен комуто. В 2 или 3 часа выезжаем; куда успеем ныне доехать и где будем ночевать, не знаем пока еще, но до Аткарска, как бы нам хотелось, верно уже не доедем. Прощайте, милый папенька, целую Вашу ручку.
Сын Ваш Николай.
19 мая 1846 г., воскресенье, в 2 часа пополудни.
P. S. Здесь у Ивана Андреевича нашли мы одного из топографских чиновников, воспитывавшегося в Петер. унив., Федора Семеновича Кена. Он поляк. Такой, кажется, добрый и ласковый: Иван Андреевич очень хвалят его. Он надавал мне множество советов о поступлении в университет и ведении себя там и проч., обещался дать и дал уже письмо к инспектору университета, ве-
7
лел писать оттуда себе: жаль, что время так коротко: от него бы, кажется, можно было узнать много такого, что очень и очень пригодилось бы. Маменька просили его зайти к Вам, когда он будет в Саратове, и он обещался. Прощайте, целую Вашу ручку. Н.
Милые сестрицы мои Любинька, Варинька и Евгеньичка!
Осушили ли вы свои слезы? А мы, как простились с вами, так и отерли их; сначала кое о чем говорили, кое чему смеялись, а потом маменька заснули; но мы с Устиньею Васильевною неукоснительно не смыкали глаз до самого ночлега; да и тут я не мог уснуть до часа ночи. Прощайте, будьте здоровы. Целую вас, поцелуйте и вы за меня ручку у бабиньки. Брат ваш Николай Ч.
Милый друг и брат мой Саша! Как ты находишь, поверят ли англичане, так тщеславящиеся своими скаковыми лошадьми, что у нас в России простые извозчичьи лошади, пара с 15 пудами клади, могут нестись с быстротою трех с двумя третьими (32/з) верст в час? А это факт, брат: именно с такою быстротою несемся мы. Поверь уж мне. Впрочем, меня утешает в этой быстроте разрешение уравнения
х = 1 800 — 43,
из которого выходит, что х, число верст, которые остается нам проехать, = только 1757. Не меньше меня утешают и два других уравнения х´ : 1 = 1757 : 43, из которого выходит, что нам остается ехать только
43 ![]() 41
41![]() 4124̸43 дня или 5 6
дней и около 111̸2 часов.
4124̸43 дня или 5 6
дней и около 111̸2 часов.
67
43
24
И наконец: х´´ : 1 = ну, да не остается места, так сообщу тебе это любопытное уравнение в другой раз. Прощай. Cura ut valeas**.
Целую тебя, брат твой Николай Ч.
4
Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
Понедельник 20 мая [1846 г.], Аткарск.
Милый мой папенька!
Пока едем мы все, слава богу, благополучно: только одно маленькое приключение оразнообразило наше путешествие и помешало нам доехать ночевать в Аткарск: у одной из наших спутниц
у повозки сломался сердешник, только что мы выехали было из Корякина; это было часов в 6 вечера; часа два провозились извозчики с этим, а между тем солнце уже совсем подвинулось к закату: нечего делать, принуждены были остановиться в Корякине, кормить лошадей, часу во 2-м ночи выехали и в 7 или в 8 приехали в Аткарск. Часу в 1 или 2-м выезжаем опять и хотим проехать верст 30 до ночлега. Извозчики очень хорошие, но лошади очень что[-то] тяжелы на ногу: по 5 верст в час не едут; все обещаются, впрочем, наши извозчики ехать скорее, да, верно, дух бодр, а плоть немощна. Впрочем, езда наша покуда хороша. Прощайте, папенька, целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.
5
РОДНЫМ
Ольшанка. 22 мая, среда, 81̸2 ч. у. [1846 г.]
Милый папенька! Пишем Вам из Ольшанки, за 45 верст от Балашова, потому что не знаем, успеем ли написать в Балашове.
Вот наш маршрут:
Первую ночь провели мы в Ольшанке, 12 верст от Саратова.
19-го числа обедали в колонии у Ивана Андреевича — 27 в., ночевали в Корякине — 17 в. Всего в воскресенье проехали мы — 44 в. 20-го обедали у тетеньки в Аткарске — 24 в. Ночевали в Белгазе — 40 в. В понедельник всего 64 в.
21-го — обедали в поле, подле села Колена (в селе не стали потому, что погода была прекрасная) — 27 в. Ночевали в Крутце — 29 в. Всего во вторник проехали 56 верст.
Теперь мы сидим в прекрасной избе, белой и чистой, а те все три ночи ночевали мы с маменькою в черных избах; впрочем, в избе ночевали до сих пор только мы с маменькою: Устинья Васильевна и все прочие товарищи наши спят в повозках. Теперь и маменька решаются ночевать в повозке, если будет хорошая погода; а теперь со 2 часа ночи идет дождь, хоть и не слишком большой, но сопровождаемый сильным и довольно холодным ветром; в повозке у нас, впрочем, хорошо.
Утром ныне, в три с половиною часа, проехали мы 19 верст, из Крутца до Ольшанки, куда приехали в половине седьмого. Хотели было ныне приехать в Балашов, но погода, должно быть, заставит ночевать нас за 26 верст отсюда, 19 верст не доезжая до Балашова. Я думаю, напишем еще с ночлега или из Балашова.
Прощайте, папенька, будьте здоровы; целую Вашу ручку.
Сын Ваш Николай Ч.
Милые мои сестрицы Любинька, Варинька и Евгеньичка!
Здоровы ли вы и весело ли без нас поживаете? Мы пока, слава богу, здоровы.
9
Когда погода и дорога хороши и мы сидим в повозке, маменька все укоряют себя, что не взяли тебя, Любинька; а как становиться ночевать или обедать в курной черной избе, то благодарят бога, что ты осталась дома.
Впрочем, мы как-то веселы и беззаботны: то ли уже толчки, которые со всех сторон получаем, когда едем, и усталость от них и голод, когда приедем на ночлег, не дают ни о чем думать, кроме дороги и еды.
Поцелуйте за меня ручку у бабеньки и пожелайте им здоровья.
Прощайте. Целую вас. Брат ваш Николай Ч.
Милый братец Саша!
Что, брат, каково поживаешь без нас? Что, теперь, я думаю, не с кем уже дома поиграть в шахматы? Не знаю тебе (едва ли, впрочем), а мне уже хоть бы в шахматы поиграть с кем, да кусаешь локоть, да не достанешь. Теперь мы проехали 19 верст в 31̸2 часа: это по вашей саратовской математике выйдет 53̸7 в час, а по-нашему, кажется, что мы едем верст по 25 в час.
Да вот теперь, кажется, придется сидеть не у моря, в избе у болота, да ждать погоды, т. е. хорошей. А небо так обложило облаками, что, кажется, придется ждать этой хорошей погоды, дондеже отымутся власы; впрочем, недели через три народится новый месяц, и тогда погода, верно, переменится, а три недели куда ни шло!
А знаешь ли, ведь года через три будет железная дорога из Петербурга в Саратов: не подождать ли уже ее? А то что тянуться по 7 верст в день: ведь не раньше дотянешься, а только бока натрудишъ (а по-твоему, небось, надо бы вместо ера написать ерь? К чему это, я век на это не соглашусь).
Прощай, целую тебя, пиши же ко мне. Брат твой Николай Чернышевский.
Смотри, какой прекрасный карандаш я взял у тебя.
6
РОДНЫМ
Балашов, 23 мая [1846 г.]
Милый папенька!
Доехали мы сюда, слава богу, благополучно; выехавши из Китовраса в 4 часа утра, въехали в Балашов в 9 часов; квартира, на которой мы стали, так хороша, что едва ли не останемся тут ночевать; тем больше, что и утром уже проехали очень довольно. Повозка наша, сначала довольно тряская, теперь так укаталась, что читать в ней можно совершенно свободно, даже не только по-русски, но и по-немецки, все равно как в комнате; нет, здесь есть то важное различие, что в комнате читаешь кое в каком положении, сидя или стоя, чуть захочешь прилечь, сейчас и назо-
10
вут лежебоком; да и укладываться поспокойнее очень трудно, а здесь я пользуюсь беспрекословно правом лежать 14 часов в сутки в повозке, а остальные 10 на лавке в избе: прелесть! Поэтому я и ничуть не скучаю дорогою: я думал, что дорогою нельзя делать дела, а выходит напротив: очень и очень можно.
В повозке нашей с каждым днем производятся улучшения, и с каждым днем спокойнее и спокойнее нам ехать. Провизии, которой мы с собою набрали, достало бы не только до Воронежа, но и в оба конца, туда и оттуда, в Петербург; впрочем, мы ею не беспокоимся: переклали ее на козлы кучеру.
Удивительно расширяется круг моих географико-топографических познаний: теперь я совершенно убедился в истине, которой и не подозревал в Саратове, что горы не кончаются Соколовыми и Лысою горами в Саратове, а идут везде, по всей нагорной стороне. Балашов нам очень понравился; не в укор и обиду Саше, Вариньке и особенно Евгеше, не чета Аткарску.
Мы все покуда, слава богу, здоровы и веселы.
Прощайте, милый папенька, будьте здоровы и благополучны. Целую Вашу ручку.
Сын Ваш Николай.
Милые сестрицы мои Любинька, Варинька и Евгеньичка!
Только теперь я опомнился от восторга, в который привел меня вид Аткарска с его бесчисленными лужами, напоминающими лагуны Венеции (Саша скажет вам, впрочем, что лужа и лагуна одно и то же, происходят от одного корня и значат одно и то же), с его бесчисленными хорами лягушек, которые имеют, по-моему, то довольно важное преимущество пред соловьями, что поют лето и весну и осень все, и днем и ночью, и не чуждаются людей, не бегут в рощи от них, как соловьи, а преспокойно распевают во всяком болоте, будь оно хоть среди шумного, многолюдного, деятельного, кипящего жизнью и движением Аткарска, не удаляются от тебя, пока нога твоя не занесется над ними, да и тут преспокойно и обязательно только отпрыгивают за поларшина и продолжают услаждать слух неблагодарного, посягавшего на спокойствие и жизнь их, своею гармоническою песнью. И теперь только могу писать об Аткарске. Ну просто прелесть, а не город: Венеция и Лондон вместе: Венеция — по своему положению, Лондон — по многолюдству, деятельности, важности в политическом и торговом отношении.
Кстати о торговле. Въезжая в Аткарск, мы довольно долго стояли на улице пред домом, где живут, пока ходили узнавать наши, здесь ли живут Николай Дмитриевич. Повозки наши все, все были закрыты, только у нашей была полуотдернута закрышка, так, впрочем, что не видно было в ней меня. Маменька и Устинья Васильевна вылезли уже прежде и шли пешком. Больные, высунувшись из окон больницы, спросили извозчиков, кто
11
это приехал, не видя никого и думая, что никого нет. — Сестра Александры Егоровны, — отвечали извозчики. — Что же это ее, что ли, товары-то? На базар, видно, их привезла? — Да, — отвечали смущенные такою догадливостью и проницательностью извозчики.
Прощайте, милые мои сестрицы, будьте здоровы и веселы, так, как мы. Целую вас. Что бабенькино здоровье? Целуйте за меня их ручку.
Брат ваш Николай Ч.
Милый друг Сашинька!
Вот, говорят, путешествие лучшее средство образовать себя во всем: правда, точно правда! Как многому тут научишься! Вот я, хоть не люблю хвалиться, а, признаюсь, многому выучился. Есть такие булки, каких в Саратове никто бы меня не заставил есть, разве собственный только указ его императорского величества: черствые, мятые и перемятые, запачканные иногда, но на все это смотришь хладнокровно, да ешь их с удовольствием еще с чаем!
По дороге пришло мне в голову множество новых и богатых мыслей о улучшении дорог, экипажей и прочего: как буду министром путей сообщения (теперь я решился согласиться занять пока и это место), то буду приводить их в исполнение. Тебе, как человеку известному своею скромностью, передам хоть одну из них или и две, если позволит место.
По всем дорогам должно устроить галлереи крытые; начать, разумеется, с тракта между Аткарском и Иткаркою: это будет не то, что длинная3 (т. е. в 3-ей степени, т. е. превосходной, выговаривай — длиннейшая), а длинная333333 галлерея, построенная из дикого камня и кирпича, смотря по удобствам местным, и крытая железом или черепицею, тоже смотря по местным удобствам, шириною сажен в 5, вышиною сажени в 21̸2, мощеная хоть чугунными плитами. От Петербурга до Саратова постройка ее будет стоить миллионов 15; зато в ней будет уже решительно не то, что как [в] комнате, а как во дворце: можно, пожалуй, хоть топить ее: печи будут стоить ок[оло] 100 000 рублей, а топка тысяч 200, зато уже какая прелесть!! И она будет освещена не газом, а Друммондовым светом, который почти так же ярок, как солнечный! Не правда ли, богатая мысль? Надеюсь на твою скромность. Прощай. Будь здоров и счастлив. Целую тебя.
Брат твой Николай Ч.
7
А. Н. ПЫПИНУ
[30 мая 1846 г.]
Милый брат и друг мой Сашинька!
«Нечего писать»!! Да возможно ли только сказать это? Неужели ты во всю эту неделю не думал ни о чем, не делал ничего, ни одна новая мысль не пришла тебе в голову? В Саратове нет новостей, да если и есть, то они не занимательны ни для тебя, ни
12
для меня, да ты и не знаешь их; нет новостей и во внешней жизни твоей; да кто же и требует от тебя таких новостей? Если уж кто и требует, так наверное не я. Посмотри на дерево летом: есть ли хоть одна минута, в которую не произошло в нем перемены к лучшему или худшему? Останавливается ли хоть на миг его развитие? Так и душа человеческая, особенно в наших летах с тобою: не проходит дня, чтобы не развилась насколько-нибудь наша душа; с каждым новым днем в наши лета или начинаешь понимать и постигать что-нибудь, что прежде было для тебя непостижимо, или начинаешь задумываться над тем, что прежде и не приходило в голову, или начинаешь не понимать того, что казалось простым до того, что не над чем и голову ломать. Все равно теперь умственные очи наши теперь ежедневно постепенно делаются сильнее и зорче, как изощрялось бы зрение, если стал смотреть в зрительные трубы и микроскопы, выбирая друг за другом их все лучше и лучше. Смотришь простым глазом: движется что-то, а что — решить невозможно; берешь порядочную трубу: человек; еще получше — вот на нем такое-то и такое-то платье; еще лучшую — это вот тот-то твой знакомец; еще лучшую — и различаешь каждую порошинку на его платье, каждый его волосок. Так с каждым днем теперь, при развитии души нашей, становится понятнее, ближе то, что прежде было непонятно; прежде ты смотрел, конечно, хладнокровно на эту точку, а теперь ты, узнавши в ней своего приятеля, интересуешься им, смотришь с участием; так знание возбуждает любовь: чем больше знакомишься с наукою, тем больше любишь ее. Теперь наоборот: смотришь на каплю воды, на листок зелени, простым глазом; над чем тут задуматься? без цвета, без вкуса, без запаху: берешь микроскоп, и эта капля бесцветная, мертвая, оживает под ним: в ней видишь ты целый мир, миллионы существ, наслаждающихся и дорожащих бытием своим, защищающих и сохраняющих его; что тебе прежде было в этой капле? Капля, так капля и есть, что в ней толку, интересу? А теперь как она интересна для тебя! Что было в ней непонятного, занимательного? А теперь сколько вопросов об этих существах, сколько трудных вопросов у тебя в голове! И эта [капля] интересует тебя, представляя тебе, сколько в ней темного, загадки и вопросы. Так ясное и потому не интересовавшее нас прежде, почти всегда становится темным и, по тому самому, интересным для нас при развитии сил души нашей...
Ну, записал, да негде кончить теперь; если не скучно, то доведу до конца в след. письме, а дело в том, что ум твой развивается и потому везде являются для него новые интересы, а интересное для тебя может ли быть неинтересно для любящего тебя? Как же тебе не о чем писать? Нет, ты должен всегда находить много, о чем писать: может у тебя не быть время, охоты писать, но не может не быть предмета, о котором бы писать к любящему тебя Николаю Ч.
13
РОДНЫМ
Воронеж. 1 июня, суббота, 1846 г.
Милый папенька! Приехавши в Воронеж в 8 часов вечера в четверг, мы пятницу все говели, а ныне бог сподобил нас причаститься св. таин. Говели в той церкви, где покоятся мощи св. Митрофана. В других церквах ни в одной и не были, потому что некогда было. Поэтому о внутреннем благолепии церквей, кроме монастыря св. Митрофана, и не могу ничего сказать, а что касается до наружного великолепия и огромности, то, исключая опять монастырь св. Митрофана, ни одна из них не может быть и сравнена ни с одною из саратовских (Старой Вознесенской-Горянской я уже не считаю в числе церквей настоящих): самая лучшая и большая из них меньше и хуже самой последней из саратовских. Нынешний даже кафедральный собор (Смоленской богоматери) и менее, и хуже в[о] всем даже Никольской церкви, не то что уже нашей Сергиевской или Троицкой. Монастырь св. Митрофана очень широк, но в длину менее (этак сажен 12 ширины и 7 длины), вообще втрое менее нового собора; к тому же стеснен столпами. Да вот как можно судить о его пространстве: человек сот семь или, много, тысячу (нет, не будет) народу, и уже до того тесно, что негде занести руки перекреститься. Шире, но едва ли длиннее нашей настоящей Серг. церкви, а от столпов чуть ли и не теснее ее. Иконостас мне понравился: белый (впрочем, уже довольно почернелый от времени), с огромными золотыми колоннами, проходящими от боковых дверей прямыми, а от царских полукруглою колоннадами, по три колонны с каждой стороны, поперек амвона; на колоннах навес, так что двери как бы в углублении или нише, образуемой рядом колонн, идущим от них. Вообще собор должен бы быть несравненно великолепнее. Даже самая рака, в которой покоятся мощи, не слишком богата. Позолочена, балдахин малинового бархату, чугунная решетка кругом, и все тут. Уже, кажется, если нет средств поразить, ослепить изумляющим великолепием, богатством, блеском, то лучше бы уже поразить величественною простотою. А то так ни то, ни се.
Очень хвалят здешний напев, искусство в пении монахов, трогательность их пения. Мне кажется, напротив. Напев точно в некоторых словах иной песни церковной отзовется чувством, но вообще неестественен] и странен, потому что не смотрит на мысль и чувство, заключающиеся в словах: протягивают и возвышают слог, имеющий ударение в первом слове этого отдела, не знаю, как назвать, т. е. 1 отдел Взбранной воев. поб. (1) яко изб. от зла (2) благод. возн. ти р. тв. бог (3), а прочие все как-то скороговоркою: А-а-а-лли-лу-й-я. (Так что ли хотя слова и слоги написать.)
14
Нет, вообще напев саратовский несравненно лучше, богаче чувством и более сообразуется с содержанием песни и мыслию. Монахов стоит на каждом клиросе по 10 (ровно) человек, у иных хорошие голоса, но поют они очень нестройно, как заметно, без чувства и любви (должно быть, они утомлены физически беспрестанным пением). Четыре порядочных дьячка у нас в Саратове, ставши на один клирос, поют лучше. Впрочем, певчих здешних мы не слышали.
Однако, вот что мне нравится: вместо Аллилуия, пропевши коротенький причастен (напр., в память вечную) скоро, как певчие поют его пред концертом, поют, вместо концерта на причастие, ирмосы канона, не спеша и не вытягивая, однако, слишком, так что пропоют 7, 8 или и все 9 песней. Вот еще особенность в монастыре св. Митрофана: первый лик стоит на левом клиросе, а не на правом, как у нас; левый клирос поет: «Господи, помилуй» — на первой эктении в литургии, «Единородный сыне», «Херувимскую», «Верую» начинает, поет «Господи воззвах» в вечерню, первую песнь канона; одним словом, все, что поет у нас правый, а правый поет то, что у нас левый.
О пути нашем не беспокойтесь: извозчик наш дороги не знает, лошадьми править не умеет вовсе, хуже Павла, но добрый, смирный и послушный: с дороги, даст бог, не собьемся, да и сбиться нельзя, лошади сильные и смирные, даст бог, доедем благополучно; он обещается доехать до Москвы (530 верст) в 7 дней.
Уже как я благодарен Устинье Васильевне, что она поехала с нами: теперь маменька за нею спокойны во всем, что только может от нее зависеть, ну а без нее... Ай, ай, ай-бы. И вынет все и уложит, и все, и все.
Не беспокойтесь, папенька, даст бог, доедем благополучно. Маменьке дорога ничуть не вредна и не тяжела, хоть нельзя сказать, чтобы и спокойна была.
Если еще не послали книг, оставшихся дома, то пришлите только одну программу, а лексикон может остаться; там очень можно пользоваться им, да если и нельзя было, то покупка обойдется не дороже пересылки.
Прощайте, милый папенька, будьте здоровы и благополучны. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.
Завтра (воскресенье, 2 июня) после ранней обедни хотим ехать.
Милые сестрицы мои Любинька, Варинька и Евгеньичка!
О Воронеже писать вам нечего: Любинька сама была, больше его видела, чем мы, которые приехали, когда было уже темно, а с квартиры только и ходили, что раз к Смоленской: некогда решительно было; она вам все расскажет лучше, да и сами вы, Варинька и Евгеньичка, даст бог, когда-нибудь здесь побываете.
Нечего [сказать], город лучше Саратова.
Да, скажите папеньке, что преосвященный Антоний почти ни-
15
когда не служит: если и служит, так и то в Крестовой, а в монастыре никогда. Посещения и посетители, говорят, ему в большую тяжесть, и он редко выходит и принимает их.
Одна из наших спутниц, дочь Авдотьи Петровны, Фаяна Васильевна, ровесница тебе, Варинька, такая же веселая, как ты; другая старше (как зовут, извини, не знаю; родня зовет ее Катя), такая же высокая, тонкая, как ты, Евгеньичка; она внука, только не знаю, как уже, Авдотье Петровне.
Мы едем на Задонск, оттуда на Елец (130 верст от Воронежа).
Картины у нас в комнате пречудные: платье сделано из шелковой материи и налеплено на картину, со всеми сборками, складками, выпуклостями, как должно сидеть оно на человеке, а лицо и руки рисованные. Пречудно!
Живем мы в двухэтажном доме, 9 и 7 окон, комната прекрасная.
Прощайте, дорогие мои. Поцелуйте за меня ручку у бабеньки. Будьте здоровы и веселы. Маменька накупили вам множество образочков и колечек. Целую вас. Брат ваш Николай Ч.
9
РОДНЫМ
[Москва. 12 июня 1846 г.]
Милый папенька! Приехали мы в Москву, слава богу, благополучно. Что писать Вам о Москве? Может быть, самим Вам даст бог побывать здесь, ну, это так, а описывать ее невозможно. Впрочем, мы видели только незначительную часть ее: ходили в Кремль, мимо университета и экзерциц-гауза, были в своей приходской церкви Воскресения у Никитских ворот и только, больше писать решительно некогда: сейчас иду в почтамт за Вашими письмами и несу это: ныне утром почта в Саратов. Прощайте, милый папенька, будьте здоровы и благополучны. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.
Москва. 12 июня, 8 ч. утра.
Милые сестрицы и брат! Извините, решительно некогда написать вам ничего, кроме того, чтобы бог дал вам самим побывать в Москве. Прощайте. Целую вас. Брат ваш Николай Ч.
10
Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
Москва, 14 июня [1846 г.], 2 часа пополудни.
Милый папенька! Приехавши в Москву, направили мы путь свой прямо к Григорию Степановичу Клиэнтову и попросились у него жить. Это капля в каплю вылитый Моисей, бывший епископ Саратовский: шутит, смеется, несмотря на то, что мы ужасно
16
стеснили его, что страшится боли своей в груди — не за себя, а за детей своих. На извозчика вышло до Москвы 240 рублей, так что в остатке 40 только; он едет в день по 50 верст, маменька должны содержать его тройку лошадей, овес полтора рубля мера, поэтому выходит на них в сутки 6 или 7 рублей, а к Петербургу все еще дороже. Проехали бы 700 верст мы с ним 14 дней, да в Москве день, к Троице день, оттуда день, там два, всего вышло бы 20 дней, выйти должно бы по расчету 140 р. на лошадей, по крайней мере на него рублей 10 или 20, на дорожные расходы рубля по два (обедать — за комнату плати двугривенный, ночевать — другой), в постоялых дворах гадость, мерзость, пьянство, и все-таки на эту пресквернейшую дорогу вышло бы не менее 150 рубл., наших, следов., денег зашло бы за извозчика рублей 130 (за шоссе еще 20) да сверх того еще неудовольствия с извозчиком, от которых маменька плакали раза по три в день: он, каналья, нарочно грубит, ни в чем не слушается, почти ругает маменьку; поэтому решились бросить его и бросили, полюбовно согласившись оставить у него забранные деньги, и наняли дилижанс.
![]() Si vis, alias etiam causas tibi adduco: A
perpetuo motu in rheda nostra, carente elasticis sustentaculis (рессор), meum
quoque pectus et
totum
corpus conflictabantur et aegrotabant: quid de matre
dicam? Dei gratia sani sumus, sed valde motu in rheda conflicti (растрясены) quae
omnia in diligenti locum habere non possunt*.
Si vis, alias etiam causas tibi adduco: A
perpetuo motu in rheda nostra, carente elasticis sustentaculis (рессор), meum
quoque pectus et
totum
corpus conflictabantur et aegrotabant: quid de matre
dicam? Dei gratia sani sumus, sed valde motu in rheda conflicti (растрясены) quae
omnia in diligenti locum habere non possunt*.
Итак, мы завтра (15-го суббота) едем в дилижансе, чрез трое суток, 18-го (которого и выехали из Саратова), во вторник, будем в Петербург. Весь проезд с пищею и проч. и проч. станет в 500 рубл.
Прощайте пока, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.
Москва, июня 15 [1846 г.] (суббота) 8 час. утра.
Милый папенька! В четыре часа пополудни мы отправляемся. Ныне в университете здешнем акт. Начало хоть и назначено в 11 часов, но будет в час; едва ли мне удастся побывать на нем: время не дозволяет. Университет с полверсты от того дома, где мы остановились; проходя отсюда в Кремль или к Иверской, проходишь мимо его. У Иверской, когда ни заходи, всегда толпа народу; нет времени, чтобы не было там 20 человек, хотя каждый проводит там только несколько секунд: перекрестится, поклонится, приложится и назад; все идущие и едущие мимо или по близлежащим улицам непременно заходят; каждый день перебывает не [менее] 3 тысячи человек. Прощайте пока, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Деньги Михаила Ивановича и два письма Ваши других получили из почтамта; других посылок нет? Да и не нужно.
Милые мои сестрицы Любинька, Варинька и Евгеньичка!
Бывавши в почтамте, каждый раз проходил я по знаменитому Кузнецкому Мосту; странное дело, моста так, как нарочно, нигде и близко и в духах не бывало. Не шутя. Жители не знают, что отвечать, когда спросишь, почему же это место называется Кузн. Мостом, когда тут вовсе нет моста. Снаружи магазины великолепны, а внутри уже не знаю: не был. В Москве очень мало деревянного строения. Особенную прелесть придают городу бульвары. Одна линия улицы вдруг вдается сажен на двадцать или больше, и до линии вытянут бульвар в один ряд на версту и больше; уже не чета нашего: густота дерев удивительна. Воду мы пьем, какой в Саратове не приводил еще бог: громовую, проведенную из Мытищева; чистота и приятность вкуса и мягкость ее удивительны. Привыкшие к ней жители не могут пить чаю с москворецкою водою, хотя и она очень хороша. Прощайте, желаю вам побывать в Москве не на три дня, как мы, а на три месяца и с 30 000 денег в кармане, своих, разумеется, и целую вас. Поцелуйте за меня ручку у бабеньки.
Брат ваш Николай Ч.
Милый брат Саша! Что же ты ничего не пишешь? Гимназии здешней я не видал, а гимназистов нескольких видал — по виду все такие миленькие и хорошень[ки]е, не знаю, что на деле. Студенты универ. составляют, кажется, половину народонаселения: до того часто мелькают их голубые воротники: не пройдешь 20 сажен, не увидевши хоть одного, и это еще большая половина разъехалась. Ну что, ведь у вас начались уже каникулы? Едешь ли в Аткарск? Так поклонись ему от меня и скажи, что очень многие села по дороге лучше его. Эх, брат, некогда, а то много бы можно написать. Я все как-то не мог свыкнуться с мыслью, что мы в Москве. Чудно кажется. Народ здесь в физическом отношении гораздо лучше саратовского: выше, стройнее, здоровее: почти у всех краска в лице (это относится к низшему и среднему классу: высшего еще не приводилось видеть). Кажется, лучше и в нравственном отношении. Здесь съестные припасы дороже вдвое и втрое противу Саратова. Поэтому, если мало денег, как у нас, так лучше жить там, но если пять, семь тысяч дохода, то нет никакого сравнения: в Саратове и на 30 000 нельзя иметь таких удобств жизни, как здесь на 10, не говоря уже об умственных наслаждениях: народ здесь весь несравненно образованнее саратовского, но образованность эта имеет, кажется, очень мало дурных следствий, а почти все одни хорошие, наоборот против того, что говорят о Париже например. Прощай, милый друг мой, да смотри, писать! Целую тебя. Брат твой Николай Ч.
18
11
Г. И. ЧЕРНАШЕВСКОМУ
[19 июня 1846 г., 2 часа пополудни.]
Милый папенька! Решительно некогда ничего более писать к Вам, кроме того, что мы живы и здоровы и теперь до смерти рады своему приезду в Петербург и тому, что нашли Александра Федоровича, который так очень радушно нас принял. Он Вам кланяется. Прощайте, милый папенька, целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.
12
РОДНЫМ
СПБ., 21 июня 1846 г.
Милый папенька! Приехавши в Петербург рано утром 19 числа (среда), мы, как город проснулся, отправились искать Александра Федоровича; нашли скоро его квартиру, но не застали его дома; но дождались и с его помощью нашли квартиру, где теперь живем; слава богу, живы и благополучны.
На Невском проспекте (он недалеко от нас), кажется, в каждом доме по книжному магазину; серьезно: я не проходил и 3-ей доли его, а видел, по крайней мере, 20 или 30 их; да сколько еще пропустил мимо глаз!
Пустое говорят, что в Петербурге дурен климат: конечно, не Италия, но все хорош.
Об университете, экзаменах, приготовлении и проч. все собираю сведения; пока они благоприятны. Приготовление из истории я кончил дорогою.
Исакиевский собор еще внутри не кончен, а снаружи совсем, и главы или, лучше, глава (одна только большая) вызолочены уже чрез огонь: прелесть! Он господствует над всем окружающим его огромным строением: из нашего окна вид как раз на него. Памятник Петру I прямо против него. Этот грех похвалить.
Жить здесь и, особенно, учиться, превосходно; только надобно немного осмотреться. Я до смерти рад и не знаю, как и сказать, как Вам благодарен, милый папенька, что я теперь здесь.
Серьезного теперь о себе я не могу написать еще ничего, но в среду или особенно в будущую субботу надеюсь. Теперешнее время очень важно для решения судьбы моей.
Прощайте, милый папенька, целую Вашу ручку. Сын Ваш
Николай.
Сейчас получены ваши письма к Александру Федоровичу и к нам.
Милые сестрицы мои! Когда у меня будет 50 000 годового дохода (это время, кажется, довольно близко), тогда квартира наша будет превыгодная для вас (ведь вы приедете в таком случае сюда?), она в двух шагах от Английского магазина. Невский
2*
19
тоже недалеко, и мы будем с вами прогуливаться там каждый день с 2 часов вечера до 4; в это время на нем прохода нет от гуляющих, как за 50 лет, говорят, не было хода судам по Волге от множества рыбы. Мы живы и очень здоровы. Прощайте, целую вас. Ужасно некогда. Брат ваш
Николай Ч.
Милый Саша! А ты все-таки ничего не пишешь. Что ты в классе был, когда писали письмо, это не оправданье. Ведь ты должен знать, что почта отходит утром, когда ты в классе должен быть, и потому тебе надобно приготовить письмо с вечера. Смотри, чтобы вперед этого не было. А то, знаешь, ведь мы, петербуржцы, управляем вами, провинциалами: теперь ты у меня совершенно в руках, что хочу, то и сделаю с тобою. Брат твой
Николай Ч.
13
РОДНЫМ
СПБ. 28 июня 1846 г., пятница.
Милый папенька! Живем мы здесь, слава богу, живы и благополучны. Квартира наша саженях в осьмидесяти от Александр Федоровичевой. Александр Федорович очень много оказал и оказывает нам услуг: мне достал он нужные математические книги; приготовление из математики идет гораздо легче и скорее, нежели я думал: если бы заниматься им часов 10 в день, то в 5 суток я кончил бы его. Но и теперь 11̸2 недели слишком довольно. Рука моя еще неровнее обыкновенного, как оттого, что я, кроме писем, ничего не пишу (это очень полезно для меня, как я чувствую), так и оттого, что стол наш, исправляющий должность письменного, немного стеня и трясыйся (Саша может спросить хоть у Николая Гавриловича, не может ли и теперь на свете быть потомков Каина, хоть по женской линии; в таком случае сильное подозрение, не из них ли кто его делал: ведь сам Каин столярничеством не занимался, так нечего и клепать его).
О том, что слышали маменька, что в университет не принимают некончивших в семинарии курса, нечего вам беспокоиться: Олимп Яковлевич Рождественский сам нарочно за этим ходил к ректору университета, когда маменька, видевшись с ним у Колеровых, сказали ему свое сомнение, и ректор сказал ему, что это вздор, что даже и самое то, хорош или нет аттестат семинарский, не имеет влияния. Олимп Яковлевич 9 июля едет в Саратов, хотел быть там у Вас: кто много говорит, у того, кажется, всегда сердце доброе.
Когда Вы получите это письмо, мы будем знать Петербург лучше коренных его жителей: в неделю узнал я, кажется, почти столько же его, сколько знал Саратов, т. е. прохожу мимо своей квартиры не чаще того, как проходил в забывчивости мимо своих ворот в Саратове.
20
Погода здесь не слишком уже ужасна, не целые сутки и день и ночь идет дождь; ну что на него никто не обращает внимания, это правда; да, серьезно говоря, и не стоит он того, грязи нет, если моросит, то не замочит вас, все равно, что туман, а если пойдет крупный, то сейчас спрячешься под подъезд (ворот в самом городе и не увидишь), прождешь много пять минут, и он уже прошел, и ты пойдешь, как ни в чем не бывало. Солнце светит так же часто, как и в Саратове. Ночей почти нет. Без свечи нельзя читать много три часа.
Исакиевский собор отделывается внутри; снаружи кончен уже, и главы вызолочены через огонь, так и светят на солнышке; странно и прекрасно отражение солнца в маленьких его главах: оно так же дрожит, как свет звезд или свечи, когда издалека смотреть на нее. Собор этот очень высок: куполов других церквей не видно, а его купол почти отовсюду.
В деньгах, кажется, у нас надобно быть изобилию: против нас из окон в окна отделения банка, а в двух шагах направо и самый банк.
Казанский собор, где чаще всего мы бываем, великолепен; к нему ведет с Невского такая же колоннада полукругом, как, помнится, в «Живоп. обозрении» у храма Петра в Риме. Перед нею стоят памятники Кутузову и Барклаю де Толли (Кутузов погребен в Каз[анском] соборе; беспрестанно молится народ у того места, под которым лежит он; надобно сказать, что Каз[анский] собор запирают только в 10 часов вечера, а весь день он отворен). Ну, признаюсь, они довольно оправдывают насмешливые стихи и анекдоты про них; вообще статуи не произвели на нас благоприятного впечатления. Памятник Александру один только мне понравился. Казанский собор несравненно ниже и меньше Исакиевского, но от западных дверей до амвона больше 30 сажен (он расположен крестом). 500 человек стоят, а незаметно их: думаешь, что нет в церкви никого почти, и только по окончании службы увидишь по тому, как долго выходит народ в огромные двери, что его было очень много. Стены вполовину покрыты знаменами. Поют здесь прекрасно. Напев, впрочем, отличается довольно много от саратовского и кажется мне хуже.
Письмо и книги Ваши получены Александром Федоровичем.
Где прикажете Вы оставаться мне жить, когда уедут маменька? Жить с Александром Федоровичем будет стоить, как мы рассчитывали, на настоящей его квартире, когда мы возьмем еще другую комнату, не дороже 60 рублей в месяц; зато квартира его прекрасная. Его хозяин имеет в семействе только жену и сына лет 14. Он приехал года два или три из Франции, где жил до того времени; жена его, по словам Ал. Ф., еще почти не говорит по-русски, да и сын плохо-таки. Главные пред другими квартирами удобства те, что выучишься говорить по-французски так, не теряя ни денег, ни времени, и что еще, кажется, лучше,
21
жить мы будем тогда почти одни: жена француза этого живет гувернанткою или компаньонкою у одного здешнего протоиерея и бывает дома только с 4 часов вечера субботы по 8 утра понедельника, 11̸2 суток во всю неделю. Сам Аллез (фамилия Ал. Ф-ва хозяина) дает уроки и потому уходит в 10 часов утра и приходит в 10 вечера. (Здесь и ложатся, и встают часом или 11̸2 позднее саратовского), так что дома-то живет собственно один сын. Алекс. Ф. стоит не на хозяйском столе и чаю, а чай у него свой, а кушанья берет он у кухмистера (прислуга, разумеется, хозяйская). Теперь они с товарищем платят 35 в месяц за квартиру. Ал. Фед. говорит, что такую спокойную и удобную квартиру найти очень трудно; и точно, сколько мы сами смотрели, и другие говорят, очень, очень трудно. Хорошо ли жить в университете, этого мы еще не знаем.
Прощайте, милый папенька. Будьте здоровы и благополучны. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.
Милая бабенька! Мы, слава богу, здоровы. Погода у нас в Петербурге хорошая и по-саратовскому, не то, что уже по-здешнему. Третьего дня мы видели митрополита: мы шли по улице, а он ехал навстречу нам [в] карете; сидит и благословляет народ. Но царской фамилии пока мы еще не видали: она вся в Петергофе (25 верст от Петербурга). Там у них готовится свадьба: Ольга Николаевна выходит замуж, обручение уже было.
Видели мы и паровоз; идет он не так уже быстро, как воображали: скоро, нечего и говорить, но не слишком уже. Нева река чудесная, по крайней мере в полверсты; этак, как до косы от Женского монастыря. Вода чудесная, какой в Саратове нет: так чиста, что дно видно сажени на полторы. Самая река и проведенные по улицам каналы обделаны гранитною чудеснейшею набережною; потом на ней чугунная решетка в аршин. Спуски со ступенями, все гранитное. Купаться в реке не позволяют, а если угодно, то купайся в купальне. Колодезей что-то не видно, да и не нужно: везде есть вблизи каналы из реки.
Прощайте, милая бабенька, желаю Вам здоровья и целую Вашу ручку. Внук Ваш Николай Чернышевский.
Милые сестрицы мои Любинька, Варинька и Евгеньичка! Как скоро у нас с Сашею будет по 50 000 дохода (а это будет очень скоро, уверяю вас: здесь денег куры не клюют), так вы будете жить с нами здесь: это будет прелесть; ну, а до тех пор, говори по волку, да говори и на волка: и прелестно, и нет. Конечно, это зависит от того, как будешь смотреть на вещи; но я боюсь, что вы будете смотреть с самой положительной точки зрения. С 50 000 здесь все прекрасно, а без них и то и се, хоть движение, напр., т. е. перемена места (говорю философским языком): кареты здесь ныне пошли на лежачих рессорах; не знаю, есть ли они в Саратове? Невысоки, никогда не могут опрокинуться.
22
легки и так спокойны, не тряски (протрясшись 21 день с Савельем Димитриевичем на долгих, я ныне всегда обращаю прежде всего внимание на то, тряско или нет будет ехать; обожжешься на молоке, станешь дуть на воду), что хоть пиши в ней путевые впечатления (это слово принимайте в переносном, а не в материальном смысле: физических впечатлений, каких мы натерпелись на долгих и следы которых остаются еще-таки у нас на боках, тут быть не может); ну, а ходить пешком, конечно, с одной стороны, смотреть на это прекрасно (я всегда и захожу на эту сторону, когда хочу смотреть): моцион здесь необходим, грязи не может быть, идешь по одному пути с такими прелестными людьми, что смотрел бы, везде, куда ни взглянешь, продается чего душе угодно; ну, а с другой, не так-то: тротуары каменные, жестко, переходя через улицу, повывихаешь ноги по неровно набитым камням мостовой, что ни говори, а 15 верст, которые почти каждый день приведется сделать, уже слишком, кажется, для моциона; прекрасные лица все, с позволения сказать, разбиты ногами, как наша черная лошадь: с ужасом смотришь на их ковылянья и ждешь и себе подобного хроманья на обе плесны в будущем; из прелестных вещей (напр., для меня книг, для вас платьев и шляпок и проч.) купить почти ни одной нехватает денег (если б хватало, то и не пошел бы пешком) и тому подобные мрачные вещи и мысли. Не знаю, сможете ли вы отбиться от них, как я; если сможете, так нечего медлить: скачите сюда (только не на долгих, заклинаю вас всем святым и драгоценным для вас в мире), а если чувствуете, что не сможете, то подождите, пока у меня, как выше сказано (зри строку 1) будет 50 000 доходу; ручаюсь вам, что ждать этого недолго: стриженая девка косы не заплетет. С уверением в этом остаюсь брат ваш Николай Чернышевский, пока отставной козы барабанщик (эта должность 48 класса, по мундиру 34-го, а по пенсии 1-го).
Милый друг мой и брат мой Саша. Эх, брат, признаюсь тебе, дали мне тут орех, сижу одиннадцать недель и 3 дня и не раскушу его; не поможешь ли уж хоть ты, а то приведется, видно, к[ак] Илье Муромцу, сидеть мне добру молодцу сиднем 30 лет: я дал себе слово не сходить со стула, пока не решу этой задачи, да что-то не дается; помоги хоть ты, только на тебя и надежда на одного. Вот она.
![]() Квадрат
всякой стороны во всяком треугольнике равен сумме квадратов двух других сторон,
т. е.
Квадрат
всякой стороны во всяком треугольнике равен сумме квадратов двух других сторон,
т. е.
или как хочешь черти, хоть лучше этого (это и нетрудно), а все
АВ2 = АС2 + ВС2; АС2 = АВ2 + ВС2; ВС2 = АВ2 + АС2.
23
Вот тебе и доказательство, как мне передали. Учили вы или нет Пифагорову теорему? Если не учили, то вот она.
 В
прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, т.
е.
В
прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, т.
е.
(чертить пером неловко) положим, что угол
при А острый; будет:  ВС2 = АВ2 + АС2.
ВС2 = АВ2 + АС2.
Доказательство можешь видеть хоть у Лежандра, найди такую фигуру
Ну так вот, с помощью ее они, канальи, и доказывают это. Возьмем какой-нибудь ∆ АСВ. ∆ АCD прямоуг. будет, АС гипотенуза, AD и CD катеты
 будет квадрат
каждой стороны его равен сумме квадратов двух других сторон; во-1-х хоть АС2 = АВ2 + ВС2. В
самом деле опустим
перпендикуляр на ВА: будет по
Пифагоровой теореме:
будет квадрат
каждой стороны его равен сумме квадратов двух других сторон; во-1-х хоть АС2 = АВ2 + ВС2. В
самом деле опустим
перпендикуляр на ВА: будет по
Пифагоровой теореме:
АС2 = АD2 + СD2 (I).
Но по ней же будет в ∆ прямоугольном BCD (ВС гипот.) ВС2 = СD2 + ВD2, следов. СD2 = ВC2 — ВD2.
Поставим в уравнение (I) вместо CD2 то, чему равно оно ВС2 — BD2 будет: АС2 — AD2 + ВС2 — BD2 (II).
Итак, АС2 — ВС2 = AD2 — BD2 (III).
Но АD = АВ + BD, след. AD2 — BD2 — АВ2.
Подстановляя в ур. (III) вм. AD2 — BD2 равную ему АВ 2, будем иметь АС2 — ВС2 = АВ2.
Перенося ВС2 на конец АС2 = АВ2 + ВС2.
Итак, точно квадрат АC равен квадрату других двух сторон. Bo-2-x хоть ВС2 = АВ2 + АС2.
Опустим опять ^ CD, будет опять по Пиф. т. ВС2 = ВD2 + СD2 (I)
(∆ BCD прямоуг., угол D прямой, ВС гипотенуза).
24
Но по ней же в другом прямоуг. ∆ ACD гипотен.
АС2 = AD2 + CD2, поэтому СD2 = АC2 — AD2. Поэтому из урока (I) выйдет:
BС2 = ВD2 + AС2 — AD2 (II).
Но по строению АВ + BD = AD, след. AD2 — АB2 — BD2 = 0 след — BD2 + AD2 = — АВ2 или по перенес. — АВ 2 ║ — BD2 + AD2 + АВ2 = 0.
Вставляем это в ур. (II), выйдет:
ВC2 = BD2 + AС2 — AD2 — BD2 + AD2 + АВ2 — 0 или
ВС2 = BD2 — ̸ 2 — / 2 + / 2 + АС2 + AB2 = АС2 + AB2.
Только я не вижу, где второе, что-то плохо клеится, должно быть, переврали, но первого я не могу разрешить; а должно быть, тут где-нибудь обман; открыв его, ты много обяжешь любящего тебя брата твоего Николая Чернышевского.
14
РОДНЫМ
СПБ. 6 июля (суббота) [1846 г.]
Милый папенька! Слава богу, мы здоровы.
Карта из Лихтенбергова атласа получена с почты Алекс. Федоровичем. Получивши ее, я отнес Шмицдорфу 65 коп. сер.; в получении их выдали расписку, хоть я вовсе и не думал о ней. Книжная лавка его из немецких здесь, кажется, первая, но библиотека для чтения не стоит того, чтобы подписываться: одни повести, романы, путешествия и театральные пьесы; серьезных книг очень немного в каталоге, который я нарочно просматривал с большим вниманием: ищешь той, другой серьезной книги европейской славы: нет почти ни одной; нет даже ни Герена, ни Шеллинга, ни Гегеля, ни Нибура, ни Ранке, ни Раумера, нет ничего; о существовании их библиотека и не предчувствует. Только решительно и нашел я из истории и философии, что несколько сочинений (а не полное собрание их) Гердера и автобиографию Стеффенса, отрывки из которой были в «Москвитянине». Но что касается до беллетристики, то она действительно должна быть богата: в ней тысяч 13 томов. Условия подписки: если брать домой по 4 тома, то 9 рубл. сер. в год, а если по 6 томов, то 12 рубл. и залога, кажется, рубл. 9 или 10. Не знаю, не хороша ли разве библиотека у Беллизара: я у него еще не был; надобно сходить и посмотреть каталог. А хорошо бы ходить к Шмицдорфу: ближе, чем от нас (в Саратове) до почтовой конторы. Впрочем, и Публичная библиотека недалеко: версты не будет, ближе чем от нас до семинарии. Но она, кажется, закрывается на вакационное время, когда никого здесь нет: Краевский, напр., издатель «Отеч. записок», на даче, Сенковский в Москве, одним словом, все в раз-
25
броде. По крайней мере, я раз 5 хотел итти в Публ. библиотеку за билетом, но каждый раз находил ее запертою. Здание прекрасное, но не замечательное особенно ничем.
Был в книжной лавке Грефа: она на углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади (на этой площади Зимний дворец, Адмиралтейство, Исакиевский собор, Синод и Сенат, памятник Петру. От нее, как от центра, идут главные улицы, она у Невы). Из русских книжных магазинов здесь лучший Ольхина (там контора «Библиотеки для чтения»), Смирдина, Ратькова (тут контора «Отеч. Записок»). Лучшая типография здесь из частных должна быть Эд. Праца. Все книжные магазины недалеко от нашей квартиры.
Кажется, целая половина Петербурга гранитная. Собор Исакиевский, нечего сказать, чудесный. Жалко только, что здесь церкви все без колоколен таких, как у нас в Саратове; не знаю, не допускает ли строить их род архитектуры или дороговизна. До креста Исак., собора 46 сажен: какова же была бы колокольня!
Нева, нечего сказать, река, достойная того, чтобы стоять на ней Петербургу: довольно того, что и после Волги можно смотреть на нее, любоваться ею и удивляться широте ее. А вода, так уже нечего сказать, мы и понятия не имели в Саратове о такой воде: так чиста, что нельзя и вообразить: у нас в Саратове прочищенная сквозь уголь, и родниковая, никак не может сравниться с нею. Мосты чрез Неву на судах. Делают, кажется, и постоянный.
Прощайте, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш
Николай.
Милые сестрицы мои! Ну, что вам писать о Петербурге? Скоро сами его увидите, если только захотите увидеть; это очень возможно, с 10 000 дохода, которые скоро у нас с вами будут.
В ожидании их целую вас. Брат ваш Николай Ч.
Милый братец мой Егорушка!
Здоров ли ты, милый друг мой? Есть ли у тебя теперь пуля? У нас теперь очень много можно бы иметь их: вчера я проходил мимо Арсенала: пропасть их там, огромнейшие кучи. Если будешь слушаться и сидеть дома, то тебе маменька, пожалуй, привезут пулю или хоть что другое, чего тебе хочется. Вели написать, если тебе чего хочется. Здесь ничего не дают даром, это правда, но только кроме денег: их, сколько хочешь: у каждой будки кучи, одна — золотых денег, другая серебряных, третья медных; кто сколько хочешь, столько и бери. Славно. Будь послушлив и здоров.
Прошай. Целую тебя. Брат твой Николай.
За то, что ты мне часто не писал, не пишу и я тебе теперь, Саша. Вот и знай да думай.
26
Милый папенька! Честь имею поздравить Вас со днем Вашего ангела. Дай бог Вам провесть этот наступающий год счастливо и благополучно. Дай бог Вам видеть в продолжение его одни радости. Дай бог, чтобы он и тянулся [не] слишком долго и для Вас и для меня. Может быть, по истечении его нам можно будет свидеться.
Сын Ваш Николай Ч.
15
РОДНЫМ
8 июля 1846 г. СПБ., понедельник.
Милый папенька! Олимп Яковлевич оказывает нам здесь такое расположение, какого редко можно встретить: я уже писал, что он нарочно ходил к ректору университета, чтобы вывести маменьку из сомнения насчет поступления моего, и вообще все слова его дышат таким радушием и сердечною добротою, что удивительно. Говорит так откровенно, что прелесть. Иван Петрович справедливо хвалил его и велел мне с ним познакомиться.
Маменька, слава богу, здоровы. День ото дня примиряются более и более с Петербургом, а сначала и смотреть на него не хотели.
Петербург серьезно не слишком велик. Собственно город лежит на левом береге Невы, верст 8 длины и 5 ширины. Васильевский остров застроен версты полторы и в длину, и в широту; немного поболее застроено на другом острове, повыше его, известном под именем Петербургской стороны, и только почти. Я, впрочем, далеко нигде не был, только ходил к Таврическому саду, версты 4 от нас. Дня через 4, числа 12 подам прошение. Математические книги брал для меня Александр Федорович у племянника нового саратовского губернатора. Он тоже приготовляется поступить в университет, и, если мы оба выдержим экзамен, то будем товарищами.
Ныне престол в Казанском соборе. Мы, разумеется, были там. Служил архиерей, только не знаю, какой именно. Народу было, по крайней мере, тысяч 5, и все просторно еще! Нельзя подумать, что так много, но целых два часа (11̸2 часа благовестили) шел народ туда в таком множестве, что в дверях была почти давка, хоть их пятеро. Здесь в церквах вообще очень много народу. Даже по будням в Каз. соб. бывает человек, по крайней мере, сот семь, да и в прочих церквах уже не менее, как по сту.
Учреждается компания на акциях для устройства железной дороги от Москвы до Саратова; дай бог, чтобы это сделалось поскорее. Даже маменька, увидевши машину в ходу (станция, откуда она идет, версты две от нас, подле церкви Семеновского полка, Введенской, новой и прекрасной; певчие из солдат и их детей поют напевом, схожим более, чем в других церквах, с нашим
27
саратовским), убедились, что езда эта не опасна. Довольно того, что царская фамилия из Петергофа и Павловска в Петербург и из Пет. туда всегда ездит по ней.
Прощайте, милый папенька, будьте здоровы и благополучны. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.
Милые сестрицы мои Любинька, Варинька и Евгеньича!
Успокойте Сашу: при наступающем выборе в Палату депутатов я употреблю все влияние свое у избирателей, чтобы склонить их к выбору кандидатов, благоприятствующих Дому Пипина и Карла Великого.
Вообразите (это за тайну): вдруг подъезжает к нашему крыльцу раззолоченная карета, выходит французская харя вся в звездах и входит к нам. Я был, к счастью ее, дома и один. «Что вам угодно?» — «Позвольте узнать, вы родственник Александра Николаевича Пыпина?» Э, брат, видим, куда подъезжаешь! — «А вам, верно, известно, что я скоро еду в Париж, и вы предлагаете себя в спутники?» Так и изменился весь в лице, несмотря на свои румяна и дипломатику. «Позвольте узнать, по собственным или нет делам вы едете?» (Это спрашивает он у меня.) «Я привык дела своих родственников считать собственными. Да, по своим». — «В таком случае французский посланник приказал просить вас к себе». — «С удовольствием бы, но не имею решительно времени. Но, если угодно, могу принять их превосходительство у себя в таком-то часу». Приедешь, брат, сам, да и не раз. Тебе меня нужно, а не мне тебя. Знает кошка, чье мясо съела. Видно, Людовик-Филипп кое-чьих прав на французский престол побаивается. За две минуты до назначенного времени, смотрю, приезжает, извиняется, рассыпается в комплиментах, просит сказать, не отнял [ли] у меня времени нужного. «Да, ваше прев., время у меня точно очень дорого теперь: чрез трое суток еду...» — «В Париж?» — «Да, и потому я просил бы вас прямо приступить к делу, приведшему вас сюда».
Переминался, переминался, все хотелось, чтоб я начал, но я будто не понимаю, о чем он хочет говорить и что ему нужно, довел-таки до того, что он принужден был прямо сказать, что Людовик-Филипп, слыша то-то и то-то о моем родственнике, предлагает ему 25 миллионов франков. «Это за что и к чему?» И так, и сяк вилял, вилял мой француз, но я прямо с ножом к горлу: за что, да и кончено. «За уступку мнимых своих прав». Ну, мнимых ли, это еще вопрос, и это решит французский народ. Если вы хотите продолжать переговоры об этом, то первым условием должно быть признание титула королевского высочества за претендентом. «Я отнесусь об этом к своему двору». Я отвечаю: «Если чрез 25 дней не будет получен ответ утвердительный и полномочие для вас переговариваться об этом, то я должен спешить в Париж, посмотреть на Пале-Ройяль и Гревскую площадь. Может быть,
28
приведется побывать и в Тюйльри. Прощайте». Чем пахнет? Эта уступчивость даром? Должно быть. В чаянии будущих благ целую вас, брат ваш Николай Ч.
16
РОДНЫМ
10 июля [1846 г.], среда.
Милый папенька! Слава богу, мы здоровы. Маменька хотят, чтобы я подал просьбу в пятницу, послезавтра, в день своего рождения. Вчера мы послали к Вам еще письмо с Олимпием Яковлевичем Рождественским; не знаю, то или это прежде дойдет до Вас. Ол[импий] Як[овлевич] служит корректором во II отделении собственной его имп. величества канцелярии, получает с наградными тысячи полторы рубл. сер. в год жалованья; место видное, спокойное и независимое.
Публичная библиотека на каникулярное время закрывается; когда откроется она, 1 августа или 1 сентября, пока я еще не знаю. У Беллизара быть было еще некогда. Да и неприятно расхаживать теперь без нужды: жары такие же ужасные, как в Саратове: смерть!
Вчера познакомились мы с братом секретаря Виноградова: я застал его у Алекс. Феод., и потом мы все отправились к нам, отрекомендовать его маменьке. Его цветущее лицо порадовало маменьку: они понемногу уверяются, что и в Петербурге можно жить здорову и, пожалуй, растолстеть.
Прощайте, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш
Николай.
Милые сестрицы мои Любинька и Варинька! Вчера мы получили письмо, в котором вы извещаете нас, что тетенька уехали и увезли Сашиньку, Егорушку и Евгеньичку. Да, просите папеньку продолжать адресовать письма в квартиру Алекс. Федоровича прямо, а не в университет: это лишняя ходьба и только.
Писал ли я вам о том, какое впечатление произвел на меня Петербург, не помню — решительно никакого. Как воображали себе город с огромными домами, так и есть, только и всего. Пока мы еще нигде не были в окрестностях; ныне или завтра гулянье на Елагином (от нас верст 8), вечером будет удивительнейшая иллюминация и давка. Там будет кататься и царская фамилия; мы там едва ли будем, хоть за неделю и уговаривались итти туда. То-то и дурно, что маменька, если там не будут, пожалуй, и не увидят царской фамилии: после гулянья она вся, говорят, разъезжается: государыня отправляется в Крым, государь за границу.
Маменька идут к. обедне и потому не успели ничего написать, да по-настоящему пока еще и нечего написать. Впрочем, может быть, успеют еще воротиться от обедни. На этот случай оставляю для них место и прощаюсь с вами. Брат ваш Николай Ч.
29
17
Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
13 июля 1846 г.
Милый папенька! Пишем это письмо в день Вашего ангела, пришедши от обедни. Поздравляю Вас с ним и целую Вашу ручку.
Вчера я подал просьбу о принятии в университет. Принял ее какой-то седенький старичок в партикулярном сюртуке, в присутствии, стоя у окна, заваленного сейчас принятыми им просьбами. В петлице какой-то орденок. Должно быть, ректор. В программе не велено уволенным из дух[овного] зв[ания] прилагать аттестат, а одно свидетельство об увольнении. Я понес и его на всякий случай. Спрашиваю его, не нужно ли аттестата. «Не нужно, но приложить не мешает». Я подал ему. Прочитавши, он сказал, что лучше приложить и его. Я и приложил аттестат свой.
Ал. Феод. уехал дней на пять на дачу к товарищам, на радостях, что ему вывернулась свободная от дел неделя.
Узнать, когда будет назначен экзамен, велели приходить 22[-го] числа. Университет недалеко от Исакиевского моста.
Прощайте, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш
Николай Чернышевский.
18
РОДНЫМ
[16 июля 1846 г.]
Милый папенька! Мы, слава богу, здоровы.
Александр Феодорович просит Вас, милый папенька, передать Петру Феодоровичу его совет, чтобы он не спешил решением и ни на что не решался бы без Вашего и его совета; пусть, говорит Ал. Феод., он проживет вакацию так еще, хоть в Вязовке; и он, и я между тем можем лучше обдумать; торопиться не к чему: еще успеет. Алекс. Феод. не видит причины, почему бы не итти ему в учителя: разве уже архиерей не даст ему хорошего места в учителях. Он (Ал. Ф.) не может еще привыкнуть к мысли, чтобы ему выходить сию минуту в светскую службу. Решительно будет он писать Петру Ф. сам, когда П. Ф. пришлет ему уведомление, студентом ли кончил он курс, и прочее, и прочее, о своем положении и надеждах своих. Ал. Ф. просит Вас ему сказать, чтобы он скорее писал ему об этом.
Прощайте, милый папенька. Когда Вы получите это письмо, уже начнется экзамен. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.
Милые сестрицы мои Любинька и Варинька! И некогда и негде ничего писать вам, да и нечего: вздору, конечно, можно написать пропасть, да что толку? Прощайте, целую вас, и больше ничего. Брат ваш Николай Ч.
30
19
Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
20 июля, час [1846 г.]
Милый папенька! В половине первого ныне узнали мы, что экзамен назначен 2 авг. (это объявлено в здешних ведомостях), и желающие поступить могут приходить в унив., чтоб узнать дальнейшие подробности. Спешим сообщить это Вам. Ныне прием кончается в 2 часа. Поэтому некогда писать ничего больше. Надобно спешить, чтоб поспеть. Чем дальше отложено, тем лучше можно приготовиться. Все, как нарочно, устраивается так, как мне нужно бы и хотелось бы.
О квартире, о том, как и когда и в каком случае полезно и в каком случае вредно итти к проф., это напишем после. Теперь скоро и не найдешь их: они на дачах все. Если итти, так пред самым началом экз. Нужно это или нет, увидим. Это решат обстоятельства, т. е. начало экзамена. Некогда совершенно писать, прощайте, целую Вашу ручку, милый папенька. Сын Ваш Николай.
20
РОДНЫМ
Пятница, 26 июля [1846 г.] 7 ч. веч.
Милый папенька! Ныне утром был я в университете, узнать о экзамене покороче и побольше. Экзамен начнется 2 августа, будет продолжаться до 14 августа. Так поздно и растянут он в первый раз еще. Мне приходится быть в 3 комиссии. Экзаменующихся разделят на 3 партии, по порядку букв алфавита, с которых начинаются их фамилии. Ныне от А до И в 1-м отделе, от К до П в 2, от Р до Я в 3-ем; в числе этих и я. Эти отделы называются комиссиями. И предметы, из которых экзаменуют, тоже делят на 3 отдела; ныне так: 1 отдел: русская словесность и языки; 2: закон божий, логика, история и география; 3: математика и физика. Все три комиссии держат экз. в одно время, каждая из особого отдела наук. Первой комиссии прежде всего держать экз. из наук 1 отдела, 2-ой комиссии из 2-го, 3 из 3-го. Потом 1-я держит из 2-го, 2-я из 3-го, 3-я из 1-го. Наконец 1-я держит из 3 отдела, 2 из 1-го, 3-я из 2-го. Дни экзаменов назначены 2-го, 7-го и 12-го авг[уста], с 9 до 2 часов; итак, той комиссии, в которой буду я держать экзамен: 2-го авг. из математики и физики, 7-го из словесности и языков, 12-го из зак. б., логики, истории и географии.
В среду мы были у Райковского, маменька прежде отправились к нему одни, потом он велел им прийти со мною. Хорошо это или худо они сделали, покажут последствия. Но, кажется,
31
этого точно было не нужно делать. Впрочем, принял ничего, хорошо.
Ныне получили мы Ваше письмо от 16 июля. Александр Феодорович очень благодарен Вам, милый папенька, за сообщение о том, как кончил курс Петр Феодорович.
К профессорам, кажется, не должно итти: сам Райковский (законоучитель) и не намекнул на это; да я думаю и незачем и не нужно, если б и можно. Как угодно, невольно заставишь смотреть на себя, как на умственно-нищего, идя рассказывать, как ехали 1 500 верст мы при недостаточном состоянии и прочее. Как ни думай, а какое тут можно произвести впечатление, кроме худого. Да едва ль и выпросишь снисхождения к своим слабостям этим; ну, положим, хоть и убедишь христа-ради принять себя, да вопрос еще, нужна ли будет эта милостыня? Ну, а если не нужна? Если дело могло б и без нее обойтись? А ведь как угодно, нужна ли она или нет, а прося ее, конечно, заставляешь думать, что нужна. Как так и пойдешь на все 4 года с титулом: «Дурак, да 1 500 верст ехал: нельзя же!» Так и останешься век дураком из-за тысячи пятисот верст. А вероятно, и не нужно ничего этого делать. Не должно — это уже известно. Маменька, впрочем, довольны, что были у Райковского.
Мы теперь, слава богу, здоровы. Я был бы очень весел, если б не маленькая забота о том, что будет. Впрочем, я и так весел. По крайней мере, веселее, чем дома был. Бог знает, покуда все именно так располагается, как хотелось бы.
Да, чуть было не позабыл! С нового учебного года в университете не будет жить никого. Тем, которые были до сих пор на казенном, будут давать рублей сот пять (верно, еще не узнали мы сколько) стипендии или вроде этого. Поэтому о житье в унив. со взносом, а не на квартире, нечего и думать. Это сказал Райковский. Не верить невозможно. Чья эта реформа, министра или Пушкина, я не знаю. По духу, кажется, Уварова. Ему дали графа. Студенты, почти все его удивительно любящие, радовались этому донельзя. Если б, говорит один, мне самому дали генерала, или даже графа же, я, кажется, не был [бы] рад столько.
Библиотека публичная открывается с 1 авг. Ныне слышал я, что туда чем-то (вроде, должно быть, помощника директора) поступает князь Одоевский, наш известный писатель, до сих пор служивший в II отделении собств. е. и. в. канцелярии, где служит Олимп Яковлевич (он, я думаю, приехал давно уже?).
Вы велите писать о людях. Мы их мало видели; сколько видели, все такие же, как в Саратове. Ни одного людоеда еще не попадалось. Тоже и ангелов во плоти, должно быть, так же, как в Саратове, наперечет: раз, да и обсчитался. Один человек (почти старик), с которым я с одним здесь имел не дела, а что-то вроде начатия разговора или знакомства в книжном магазине, мне удивительно понравился. Больше, кроме Василия Степановича, кото-
32
рый, несмотря на предубеждение мое, мне тоже понравился, Олимп Яковлевич, тоже понравившийся мне (это, должно быть, добряк в глубине сердца, но с порядочным запасом, не знаю, как сказать, суетности или тщеславия, что ли), не здешний, а саратовский. Только и видел я здесь людей.
 Теперь
хочу и нет итти к Беллизару; кажется, теперь некогда; уже по окончании
экзамена, если будет нужно. Его книжный магазин, как и все книж. магазины и
Публичная библиотека, недалеко от нас, версты не будет. Все книжные магазины
сбиты между началом Невского и Аничковым мостом (верста, может быть) на
Невском; только Шмицдорф, просивший Вас продолжать адресоваться к нему,
забился, не знаю зачем, в Мещанскую, где ни одного магазина, ни одной лавки, ни
одной вывески. Должно быть, с немецкою аккуратностью расчел, что дешевле.
Вообще здесь лучшие магазины не в Гостином дворе, а в частных домах. Поэтому в
Гостином дворе только из хороших книжных лавок Исакова (французская,
прекрасная) и Свешникова. Вот как живем мы к Невскому и книжн. лавк.:
Теперь
хочу и нет итти к Беллизару; кажется, теперь некогда; уже по окончании
экзамена, если будет нужно. Его книжный магазин, как и все книж. магазины и
Публичная библиотека, недалеко от нас, версты не будет. Все книжные магазины
сбиты между началом Невского и Аничковым мостом (верста, может быть) на
Невском; только Шмицдорф, просивший Вас продолжать адресоваться к нему,
забился, не знаю зачем, в Мещанскую, где ни одного магазина, ни одной лавки, ни
одной вывески. Должно быть, с немецкою аккуратностью расчел, что дешевле.
Вообще здесь лучшие магазины не в Гостином дворе, а в частных домах. Поэтому в
Гостином дворе только из хороших книжных лавок Исакова (французская,
прекрасная) и Свешникова. Вот как живем мы к Невскому и книжн. лавк.:
а) Казанский собор, великолепнейший, невероятный
b) Наша квартира
c) Гостиный двор
d) Публ. Библиотека
e) Лавка Грефа (ученая)
m) Беллизара
n) Лавки Смирдина и Иванова
о) Лавка Ратькова
v) Ольхина (близко)
Да, лавка Ольхина дальше немного, сажен сто, против Аничкина (пустого) дворца.
Книги Саше, которые нужны для 5 класса (что перейдет он, про это говорить нечего), Среднюю историю Смарагдова и еще там не вспомню, может быть, есть, привезут маменька назад; ведь они к сентябрю воротятся, а раньше и не кончится в гимназии экзамен. Мне их здесь не нужно будет.
Прощайте? милый папенька; целую Вашу ручку. Сын Ваш
Николай.
Милые сестрицы мои Любинька и Варинька!
Нет, вам в Петербург ехать без того, чтобы проживать здесь тысяч 5 или 6 в год, не годится. На эти деньги, на 6 тысяч и то здесь семейством надобно жить так же, как в Саратове на 1 500
3 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
33
или меньше. Другое дело, если тысяч сто дохода, здесь жить гораздо дешевле, чем в Саратове. Мне, конечно, не то: главный расход на пищу, а одному ее немного нужно. Если вы приедете в Петербург годами четырьмя или пятью позже, это лучше для вас же: Петербург становится год от году великолепнее. При нынешнем государе особенно много строят. Через Неву делают великолепный постоянный мост: быки (их 7) и арки будут гранитные. Несколько быков уже выведено: удивительно, говорят. Колонны Каз. Собора, например, из гранита, огромные, из одного куска, разумеется; иностранцы не хотели верить, что это из камня: думали, обклеены бумагою и подделаны, а теперь пришлось верить, когда на их глазах обделывают колонны для Исакиевского собора, еще вдвое больше. Знаете, во Франции с год только и слов и шуму и крику на всю Европу было о[б] ужасной величине, колоссальности Лукзорского обелиска, который привезли в 30-х годах в Париж; а колонны Исак. соб. много выше его; тот из нескольких кусков, а эти цельные. Потом года два собирались этот обелиск ставить, шуму и крику было еще больше, когда, наконец, поставили такой колосс; а исак. колонны по крайней мере вдвое тяжеле его. Да поставлены еще и около купола, сажен на 18 от земли! И кажутся премаленькими: кругом купола дюжины две или три, в портиках тоже, в церкви самой еще, всех чуть ли не до сотни. А Париж носился года три с обелиском, который в подметки ни одной не годится ни по величине, ни по красоте камня и отделки. Поставить его на землю — это чудо механики, а поставить на 18 или 20 сажен от земли несколько десятков колонн, перед которыми он кажется именно иголкой (один обелиск зовут игла Клеопатры), об этом здесь и ни слова не сказали! Тогда-то приезжайте, когда кончат Исак. собор (на него каждый год отпускают по миллиону), и полюбуйтесь! Его купол повыше Ивана Великого сажени на три. А легок, удивительно легок! Уморительно, как мелки кажутся люди между огромными здешними зданиями! Улица, напр., сажен двадцать или тридцать, а по виду не больше шести сажен шириною. Площадь маленькая, а идешь, идешь, да [со]скучишься. Дом огромный, а кажется вовсе не велик. Впрочем, Петербург не слишком велик. Прощайте, милые сестрицы. Целую вас. Брат ваш
Николай.
21
РОДНЫМ
2 авг. [1846 г.] 7 час. веч.
Милый папенька! Ныне, как Вы и должны знать, начался экзамен нашей комиссии, первый из физики и математики. Я держал ныне из физики и, кажется, хорошо: Ленц остался доволен, сказал «очень хорошо», спросил, где я воспитывался. Он человек пожилых лет, но еще не седой, и здоровый и свежий. Завтра, бог даст,
34
буду держать из математики; не знаю, успею ли написать Вам о следствиях: прием до 2 часов, едва ли успею до этого времени кончить. Ныне начался экз. в 9 часов, чрез минуту пришел попечитель и ректор. Экзаменовали четыре профессора вдруг, на 3 столах. Ленц экзаменовал на среднем, как председатель комиссии. Когда пришли ректор и попечитель, сели за этим же столом, но справа от Ленца, а Ленц остался на первых креслах. Налево, подле его кресел, кресла для экзаменующегося. При попечителе вызывали по порядку алфавитного списка; когда он ушел, вызывать перестали, а каждый подходит сам, раньше или позднее, как угодно, вроде того, как подходят исповедываться. Желающий держать экз. подходит к столу, поклонится, профессор тоже ему; потом экзаменующийся берет билет, прочитывает его вслух, потом садится в кресла, поставленные налево от экзаминаторских (это на главном столе из физики, а на двух других, где экзаменуют из математики, кресла эти по обе стороны, так что экзаменуются двое или трое вдруг; там это можно, потому что экз. больше письменный), и экзаменуется, потом дожидается, сколько поставят ему (но мне было слишком неучтиво нагибаться к самой бумаге, чтоб рассмотреть, тем более, что сам Ленц близорук, должно быть: очень низко нагибается писать), потом кланяется и уходит. Попечитель сидел часа два, до меня при нем ряд не дошел. Вслед за ним ушел и ректор. Прощайте, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.
22
РОДНЫМ
6 августа [1846 г.], вторник, СПБ.
Милый папенька! В субботу, 3 числа, держал я экзамен из математики: пока все хорошо. Из алгебры и тригонометрии даже лучше, чем должно было надеяться мне. Главное, точно, бойкость, но не все можно сделать с одною бойкостью, но очень многое, по крайней мере, от нее зависит. Завтра будет экзамен из словесности и языков; не знаю, успею ли написать завтра об последствиях; экзамен начинается с 9 (ровно) часов и продолжается до трех или четырех. Как кто кончит, уходит. (В общем балле из математики и физики, должно быть, 4 или 4 1̸2; 3 или 5 едва ли — завтра, может быть, узнаю. Просто хоть очки надевай: профессор нарочно при тебе ставит, чтобы видел, тебе ли точно поставил он, не ошибся ли в фамилии, а ты не видишь.)
На экзамене в первый день увиделся я с Благосветловым, но ни я ему, ни он мне не догадались дать своего адреса; потому и не успели видеться до сих пор в другой раз; завтра, я думаю, увидимся.
Прощайте, милый папенька, целую Вашу ручку. Сын Ваш
Николай Ч.
3*
35
Милые сестрицы мои! Маменьке Петербург теперь нравится уже: они говорят даже, что согласились бы, ничего, здесь жить, если бы сюда перевели папеньку; говорят, для этого стоит только попросить Михаила Павловича, он в дружбе с митрополитом, и Антоний ни слова не скажет. Особенно маменьке нравится хрусталь здешний: или бы весь его закупила, сказали они ныне, или бы весь... Нынче ходили было они в Преображенский собор, полковую церковь Преображенского полка: сказали, что там будет развод, а на разводе император; но ни развода, ни императора не было. А церковь от нас версты четыре; это недалеко. Маменьке удивительно нравится Казанский собор; они зовут его своим. Я не знаю, оттого ли, что дурак, как говорят маменька, или оттого, что мало люблю вас (кажется, ни того, ни другого), только решительно нисколько и не думаю скучать по Саратове. Так как Саша, пока до вас дойдет это письмо, будет уже почти в 5 классе и станет скоро учить психологию, то спросите, отчего это, у него. Серьезно, я почти и не думаю о Саратове. Скоро, впрочем, когда буду повторять географию, поневоле припомню его, с его лысыми (или, по Леопольдову, Ласьими) горами. Нева, конечно, мне тогда покажется в сравнении с Волгою ручейком. Прощайте. О том, что трудно побывать в Петербурге, и не думайте: ничего не бывало. Целую вас. Брат ваш Николай Ч.
Ты мне, Саша, ничего не пишешь, и я тебе тоже не напишу ничего — вот и все. Французский посланник, к сожалению, куда-то уехал, остался один поверенный в делах. Н. Ч.
23
РОДНЫМ
10 авг[уста], субб[ота, 1846 г.]
Милый папенька! Пока экзамен идет хорошо: я кончил из математики, физики, словесности и языков; в общем балле пока должно быть 4 или 41̸2. Только из французского получил я 3, из матем. и лат. 4, из физ., слов. и нем. 5. Теперь остается держать из зак. бож., логики, истории всеобщ, и русской и географии. Экз. из них будет, как Вы знаете, 12 и 13 в понед. и. вторник.
Мы, слава богу, здоровы. Маменька не так уже ненавидят Петербург, как прежде. Срок их билету 26 августа, а около 21 они надеются быть в Москве. Поэтому едва ли нужно отсрочивать их билет.
Александр Феодорович не слишком доволен тем, что Петр Феодорович хочет выходить из дух. звания. Он вам кланяется.
Экзамен был 2 и 3 из физики и математики. 2 я держал из физики, 3 из математики; из арифм., геом., алгебры и тригонометрии берут по билету, из каждой из этих четырех частей математики получают особый балл, потом эти баллы складываются, и составляется из них общий один балл. Из словесности и языков был
36
экз. 7 и 8. 7 я держал из словесности и латинского. Из слов, должно написать на тему. Мне досталось «Письмо из столицы». Потом я отвечал на несколько вопросов из истории русской литературы. Из лат. должно было перевести на латинский. Экзаменовали Фрейтаг и Шлиттер. Собственно экзаменовал Фрейтаг (он издал между прочим первые песни Илиады с лат. и греч. комментариями), но так как он не говорит свободно по-русски, то Шлиттер служит переводчиком, если экзаменующийся не говорит по-немецки. Я сделал здесь 3 глупости: первое, мне бы должно заговорить с Фрейтагом по-латине, а я не догадался, а когда догадался, было уже поздно, потому что он уже занялся с другим; второе, должно было взять не перевод, а сочинить; но это не в употреблении, потому должно было мне самому сказать, что я могу сочинять, а не дожидаться, что меня спросят об этом; третье (но я это узнал после из немецк. экзамена), должно было спросить, нет ли у них здесь Тацита или Горация или другого автора, чтобы мне перевести без приготовления. Но я не знал, что это было бы хорошо. Но все-таки я получил 4, этого слишком достаточно, а с Фрейтагом еще успею познакомиться. Из немецкого экзамен был преуморительный. Я взялся сочинить: досталось «о благословенных плодах мира». Когда я кончил и прочитал Свенске, который экзаменовал, он спросил, говорю ли я по-немецки. Я отвечаю ему по-немецки, что сам не знаю, что сказать ему на это: говорить, как видит, говорю немного, а что говорят другие, того почти вовсе не понимаю, потому — не привык слышать, как говорят по-немецки. Таким образом он стал расспрашивать меня (как и всегда всех расспрашивает), кто я, откуда, когда и у кого и где учился по-немецки; он говорит по-русски, я отвечаю ему по-немецки, объясняю на его вопросы, какие читал я, между прочим, книги, потом перевел несколько немецких стихов; ему показалось странно, что я довольно хорошо говорю, перевожу без приготовления трудные стихи, а не понимаю, что говорят другие. Тут, между прочим, был проф. греч. языка Соколов; он дожидается, не станет ли кто экзаменоваться из греч. языка, но так как никто не экзаменуется, то он ходит по зале, то подойдет к тому столу, то к другому, то к экзаменующимся, которым объясняет, что и как писать. Он предобрый. Тут он подошел к столу, когда я рассуждал по-немецки с Свенске, который спрашивал меня по-русски, спросил, по какому я факультету. Я сказал, что по общей словесности. — Не хотите ли экзаменоваться по-гречески? — Я отвечаю ему прямо, что не хотел бы, потому что плохо знаю по-гречески. Он говорит: — Нужды нет. Заставил перевести меня что-то: конечно, я отвечал довольно плохо; потом подошел Фрейтаг, велел перевести с греч. на латинский. К счастью, одно слово греческое только было незнакомо; я спросил его, перевел потом и в заключение попросил, чтобы Соколов, зная теперь, что я по-гречески знаю не слишком хорошо, не
37
ставил мне, если можно, балла, как будто я не экзаменовался. Соколов сказал, что я знаю еще порядочно, что он дурного балла не поставит, а подумает, ставить или не ставить. Я так и не знаю, поставил он или нет. Во всяком случае, как бы плохо ни знать по-гречески, хоть только уметь читать, это не может иметь никакого влияния, кроме хорошего; предполагается, что поступающий вовсе не знает греч. языка. Балл может принести только пользу, но мне не хотелось бы, чтоб Соколов знал, как я знаю по греч., а когда нужно уже было выказать, что плохо знаешь, то так и быть. Он такой добрый, что во всяком случае я рад, что он узнал меня. По-французски я в одном месте поставил не тот предлог, в другом пропустил член. Кроме того, ничего особенного не было.
Прощайте, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш
Николай Ч.
Целую ручку у крестного папеньки своего, Феодора Степановича.
Благодарю Якова Феодоровича за то, что он помнит нас. Маменька очень были обрадованы его припискою нам в Вашем письме от 30 июля.
Милая тетенька! Надеюсь, что Вы еще в Саратове. Недели чрез полуторы или, может быть, через две выедут к Вам в Саратов и маменька. Дай бог только им благополучно доехать до Саратова. Недель чрез пять Вы увидитесь с ними. Александр Феодорович очень обрадовался Сережину поклону: велите ему чаще, каждый раз писать к нему. Прощайте, милая тетенька, целую Вашу ручку. Племянник Ваш Николай Ч.
Милая сестрица моя Варинька! Кажется, мы с тобою были дружней всех, а вот ты именно ничего и не пишешь мне. Утешают ли тебя куры своим послушанием и любовью к тебе? Цыплята, верно, выросли уже? Вот вы скоро ездить станете за яблоками; хоть об этом напиши. А то только Любинька одна и отвечается за вас. Ее за это целую, а вас с Сашею, кажется, не следует до исправления. Прощайте. Брат ваш Николай Ч.
10 авг. суббота.
24
Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
[14 августа 1846 г.]
Милый папенька! Слава богу, я принят в университет, и довольно хорошо. Прощайте. Спешу на почту, не знаю, успею ли. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай Ч.
38
25
РОДНЫМ
СПБ. 16 авг[уста 1846 г.], пятница.
Милый папенька! Ныне получили мы Ваше письмо с 50 рубл. сер.; благодарим Вас, милый папенька, за присылку их. Маменька хотят выезжать на следующей неделе на долгих с человеком Капитона Степановича, о котором писали Вам маменька. Антон Филатьевич очень хвалит его.
В университет я принят, как уже писал Вам. Особенного ничего при этом не было. Форма университетская несколько изменена: вместо черных кантиков по воротнику темнозеленые, и еще что-то, еще менее важное. Лекции начнутся около 25 авг.
Шляпу и шпагу заказали; они будут готовы во вторник (20). За ту и другую вместе 10 рубл. сер. В Гостином дворе есть подешевле, шпаги рубля в 3, шляпы рубля в 4 сер., но гораздо хуже, и эти вдвое прочнее. Тех шляп надобно две в год, а эту одну. Сюртук закажем ныне после обеда. Здесь по большей части не берут сукна сами, а заказывают положить во столько-то рублей портному. Тот, у которого мы были (Брунст), берется сшить к 1 сент., но зато он известен своею честностью и искусством. Сюртук из сукна в 12 рублей стоит у него рублей 95. У него и закажем. Что делать, что маменька уедут, не увидевши меня в своем сюртуке. Шинель из 10-рублевого сукна, теплая, на байке, стоит 138 руб. Кажется, надобно будет заказать ему же холодную сшить к весне, если будут деньги.
Теперь, милый папенька, пишите на мое имя. Адрес тот же: у Каменного моста, в доме князя Вяземского, квартира № 47. В университет не пишите: там швейцару совестно давать за письмо менее 10 коп. сер., а здесь платим 3. Остаюсь я с Алекс. Феодоров. пока на этой квартире; в октябре Аллез хотел перейти ближе к унив., а может быть, останется и на этой. Мы будем с ним неразлучны. Теперь в унив. 16 минут ходьбы, 960 моих двойных шагов; от нашего дома до семинарии 12 минут и 685 шагов; итак, видите, что и по-саратовски это недалеко, а по-здешнему и вовсе близко (только 1 верста и 300 саж.); немногие живут ближе. И на Васильевском острову трудно нанять ближе. Но главное: самим быть хозяевами нельзя теперь, а таких хозяев, как Аллезы, которые никогда не могут ничем обеспокоить, да и не захотят, потому что очень благородны и внимательны, очень трудно найти.
Я, слава богу, здоров; маменька сами пишут, что и они здоровы. Прощайте, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай Чернышевский.
Милая сестрица моя Любинька! Что для меня восхитительно в великолепном Петербурге из его зданий и чудес — это Исакиевский и Казанский соборы, а особенно златая глава Исак. собора.
39
Все прочее хорошо, но не удивительно. Хороша, например, Академия художеств (я, разумеется, видел ее только снаружи), 3 или 4 этажа, по фасаду окон 35, по боковым сторонам — столько же, так что это здание квадратное. Ее строил при Екатерине архитектор Какоринов. Университет, бывшая биржа двенадцати коллегий, в ширину только 4 окна, а в длину, я думаю, длиннейшее здание в Европе. Сколько именно, сказать не могу, в длину он, а не менее 175 сажен; может быть, и 200 сажен будет; одним словом, длина его невообразима. Это будто бы двенадцать сряду поставленных одинакового размера и фасада домов. Снаружи он не слишком великолепен. Аудитории невелики. Кадетский первый корпус подле унив. и Воспитательный дом также принадлежат к огромнейшим. Маменька, впрочем, привезут вам или я после пришлю план Петербурга. В порядочных частях города домы идут сплошь бок с боком. Заборы очень редки. Двор также со всех четырех сторон обнесен сплошными зданиями в несколько этажей, так:

Дом, в котором живут тысяча, полторы тысячи человек, вовсе не редкость. Таков дом кн. Вяземского, в котором живет Ал. Феод. (он вам кланяется) и буду жить я, в числе прочих достоинств. Брат твой Николай Чернышевский.
9 час. веч[ера].
Милый папенька! Сюртук из сукна по 12 р. стоит 100 руб., из сукна по 18 р. — 112 рублей. Разница всего 12 руб., а сукно несравненно лучше и прочнее; я решился велеть поставить по 18 р. Теплую шинель заказали; она стоит (из 10 руб. сукна) на байке 140 р. Холодную перешьем из старой, это будет стоить рублей 20. Образчик сукон повезут к Вам маменька: на следующей неделе они выедут. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай Ч.
Милая Любинька, поцелуй за меня ручку у бабеньки.
Милый друг мой Саша! Ты, верно, перешел уже или скоро перейдешь в пятый класс: поздравляю тебя вперед с наградою. Пиши, переведены ли будут Чесноков, Бахметьев (про этого нечего, кажется, спрашивать; про Кочкина и вовсе; кланяйся им всем от меня. Василию Дмитриевичу я буду писать), Зейдер, Никитин, Аргамаковы, Захарьин и другие твои товарищи, которых я
40
знал. Пиши, кто какие получил награды и проч. Через три года тебе должно быть в Петербурге: это кончено. Может быть, и скорее; этого я еще не знаю.
А между тем ты начнешь учиться логике; так вот тебе пример для силлогизма (это слабое подражание силлогизму одного придворного Марка Антония).
Всякий человек есть некоторый человек. Но у некоторого человека на носу три бородавки, а на левом глазу бельмо. Следовательно, у всякого человека (ведь всякий человек есть некоторый человек) на носу три бородавки, а на левом глазу бельмо.
Тут, должно быть, что-нибудь да не так. Да, логику Рождественского учи хорошенько; да это, впрочем, само собою разумеется, что ты все станешь учить хорошо. Она, наперекор системе Гегеля и здравому смыслу, an sich (в сущности своей) пуста и глупа, конечно, a für sich (в действиях своих, в отношениях своих к другим существам и вещам) важна и является или считается умною. Прощай. Целую тебя. Брат твой Николай Чернышевский.
26
Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
[23 августа 1846 г.]
Милый папенька! Маменька выехали. 20 числа вечером хотели было выехать, но не успели, потому что подрядчик замедлил доставкою клажи тому извозчику, который повез их: они поехали на так называемых здесь троешных до Москвы; из Москвы тоже хотели ехать на долгих. С ними поехал живший у Антона Филатьича человек Капитона Степановича, Александр; он человек очень надежный и хороший: можно надеяться, что маменька не увидят слишком много беспокойств в дороге. Выехали они в 3 часа пополудни 21 апреля (в среду); мы с Александром Феодоровичем провожали их до заставы. Они, слава богу, расстались со мною гораздо спокойнее, нежели я думал. Почти даже не плакали. Мы для подкрепления их твердости показывали самое веселое лицо, смеялись над репою, которой они купили себе в дорогу, и тому подобными вещами. Дело и кончилось почти весело. Обещались не тосковать обо мне и не думать много, а только молиться богу и играть в карты с Устиньею Васильевною (она ужасно рада тому, что едет домой). Я обещался им быть непременно здоровым. В Москве будут они 31 авг. или (это поздно уже) 1 сентября. До Москвы заплатили они по 20 руб. ассигн. с человека (Александр до Москвы мог заплатить, а из Москвы маменька станут платить за него: его услуги очень стоят каких-нибудь 20 рубл. лишних). В Москву я буду им писать.
Если Вам угодно знать мои баллы на экзамене (сейчас получил Ваше письмо от 12 авг.), то вот они: (нужно в общем балле
41
три, в каждом частном из отдельного предмета 2, не менее, из латинского, закона божия и русской истории и словесности 3 непременно):
Физика 5, математика 4, словесность 5, латинский язык 4, немецкий 5, французский 3, логика 5, география 3, закон божий 5, история: всеобщая 5, русская 5.
Нужно для поступления всего 33 балла и не иметь единицы. Всех баллов можно иметь (высшее число) 55.
Кстати уже, если писать цифры. G собою маменька взяли около 250 рублей. В Москве останется у них около 200 или 180. Я говорил, взять больше, но они не хотели. У меня оставили около 385. Портному, который шьет сюртук и шинель, надобно будет отдать 271 (всего следует ему 292, но 21 отданы в задаток), еще 14 рубл. асс. другому, который перешивает старую шинель. У меня остается около 100 рубл.; за квартиру должно будет до 5 октября (за полтора месяца) отдать 71̸2 рублей серебром и только. Остается у меня еще на другие расходы (пищу и проч.) до 5 октября, на полтора месяца, около 70 или 65 рублей асс.: этого довольно, а полтора месяца дело теперь для меня великое. В продолжение их может (да и должно) произойти для меня много выгодных перемен.
Благословите меня, милый папенька, на успешное окончание того, что теперь я начинаю.
22 числа (в четверг, в день коронации) был молебен. Студенты собрались к обедне и молебну этому и царскому в университетскую церковь. Служил законоучитель протоиерей Андрей Иванович Райковский (сын его ныне, кончивши курс в 4 (лучшей, кажется) гимназии петербургской, поступил в студенты унив. и идет по юридическому факультету); по окончании молебна он говорил речь студентам.
После молебна секретарь прочитал список кончивших курс, переведенных и принятых. Наконец ректор университета, Петр Александрович Плетнев (его все удивительно любят и уважают), сказал прекрасно род наставления, как должно вести и держать себя студентам университета, и объяснения тех отношений, в каких стоят они к начальству университета и обществу. Попечителя ни при этом, ни при молебне не было. 23 (ныне) в пятницу начались лекции.
В первом курсе филолог. отделения и в пятницу, и в субботу их три.
В пятницу 1 часы (9 — 101̸2) латинская словесность. 2-ые (101̸2 — 12) один из новейших языков (фр., нем., английский или итальянский; я избрал английский). 3-ьи свободны; 4-е (от 11̸2 до 3) всеобщая история.
(Этой лекции нынче не было. Куторга, профессор истории, еще не приехал, а приедет 24 в субботу.)
В субботу первые часы (9 — 101̸2) латинский язык. Вторые
42
(101̸2 — 12) всеобщая история (завтра будет первая лекция ее, говорят, очень любопытная и занимательная всегда). Третьи [часы] пять свободны.
Четвертые (11̸2 — 3) богословие. На эти лекции (богословские) собирается весь первый курс, изо всех факультетов. Лекций в другие дни я еще не запомнил.
Ничего другого об университете сказать я еще ничего не могу.
Я слишком занят своими настоящими делами и будущими отношениями по университету и вне его, чтобы скука или что-нибудь вроде этого, могло не выйти у меня даже из памяти. Не думайте, впрочем, милый папенька, чтобы эти мысли мои о будущем были грустны или мнительны: кажется, ничего, кроме хорошего, мне ожидать нельзя, я и не ожидаю, все раздумье только о том, в таком или таком виде явится это хорошее? То или другое хорошее придет? Такое раздумье, конечно, не заключает в себе ничего, кроме приятного.
С понедельника (26) начнутся серьезно лекции и занятия.
По-латине мы будем переводить «Cato major» Цицерона и «Trinummus» Плавта: как видите, пустые вещи, вовсе не трудные. Что еще будет, не знаю пока.
Прощайте, милый папенька, целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай Чернышевский.
P. S. Александр Феодорович Вам кланяется; он, впрочем, сам хотел приписать Вам в моем письме.
27
РОДНЫМ
30 авг[уста 1846 г.], утро.
Милый папенька! Вот уже неделя, как начались лекции, а я все еще не могу ни себе, ни другим сказать ничего порядочно, основательно о здешнем университете и профессорах.
Главные профессора филологич. факультета: Грефе, пр. греч. яз.; Фрейтаг, пр. лат. яз.; Фишер, пр. философии; Куторга, пр. всеобщей истории и Устрялов — русской. Грефе и Фрейтаг не читают в первом курсе, а латинский читает преподаватель Шлиттер, греческий — Соколов. Ни о ком еще я ничего не могу сказать.
Я начал учиться по-английски, как уже писал Вам. Купил грамматику, лексикон (на французском и то, и другое) и хрестоматию: все это стоит 2 р. 70 коп. сер.
Грамматика прекрасная (Садлера). О хрестоматии, кажется, нельзя этого сказать.
Позвольте просить Вас, милый папенька, не стараться самим и посоветовать и дяденьке с тетенькою перестать хлопотать о помещении Саши на казенное содержание; нечего думать о том, как его содержать в университете: ведь живут же и учатся такие люда, которые ни копейки не получают ни от кого на свое содержание.
43
Так и живут уже, так и учатся, скажут, может быть. Нет, не кое как, а прекрасно и живут, и учатся. Притом же положение Саши, когда он приедет сюда по окончании курса, будет все гораздо лучше, чем положение какого-нибудь Благосветлова или Лебедевского (чтобы брать примеры из Саратова). У него в Петербурге будет брат. Тем более прошу Вас не отдавать его на казенное содержание, что ведь слишком заметно, что его очень не хотят принять. Легко могут выйти из этого разные дрязги. Известно, как легко они выходят. Притом же скоро (в нынешнем же, я думаю, году) казенных студентов не будут содержать на казенном иждивении, а станут выдавать им стипендии, на которые должны они будут сами содержаться. Разумеется, эти стипендии будут недостаточны. (Рублей 120 сер. в год или меньше, как говорил законоучитель университета, Райковский.)
Ничего еще пока не случилось со мною и не сделал я, с отъезда маменьки, замечательного, даже такого, что можно было бы упомнить. Хожу на лекции, постепенно знакомлюсь с товарищами (некоторые из них кажутся мне такими замечательными по познаниям и дарованиям, что я и не полагал иметь таких хороших; но только еще кажутся, а знать еще не знаю) и университетским порядком, и только. Вообще я довольно весел, по маменьке не грущу почти, на то, что их путь будет благополучен, очень надеюсь, очень здоров — и только. Конечно, довольно много думаю о будущем, но это само собою разумеется, да и не слишком же и много беспокоюсь о нем. Прощайте, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай. Чернышевский.
P. S. Александр Феодорович на праздники уехал на дачу.
Милая Любинька! Кроме того, что начался новый роман Сю, автора «Вечного жида» (которого я еще все не дочитал; дочитала ли ты?): «Мартин Найденыш», не знаю, что тебе писать. Я еще не видал этого романа. Говорят, что цель его изображение бедствий земледельческого класса в Франции, бедности, невежества и угнетения его и изложение средств помочь этому. (Ты знаешь, что в «Парижских тайнах», например, эта цель — доказать, что по большей части злодей и негодяй не родится злодеем и негодяем, а делается им от недостатка нравственного воспитания и бедности, ужасающей необходимости быть злодеем и негодяем или умереть с голоду и, наконец, дурного общества, в котором с младенчества находится, и что у всякого почти, как бы дурен ни был он, остаются еще известные струны в сердце, дотронувшись до которых, можно пробудить в нем голос совести и чести, возродить его и показать, как легко было бы правительству, если б оно захотело, или даже частным богатым людям предупредить порчу сердца и воли во всех почти тех, которые являются такими чудовищами, или даже исправить уже испортившихся. Конечно, много и других целей, например, показать на Рудольфе, как провидение
44
заставляет терпеть горесть от детей того, кто причинял печаль родителям, и много других, но это цели второстепенные.) «Мартин Найденыш» переводится в «Библиотеке» и, кажется, в «Отеч. зап.».
Судя по началу, говорят, должно сказать, что «Мартин» будет еще настолько же выше «Вечного жида», насколько этот выше «Парижских тайн».
Главное, какая высокая, священная любовь к человечеству у Сю! А есть люди, которые ставят какого-нибудь Жоржа Занда, который только и нянчается с …[неразб.], выше его. Впрочем, мало ли что говорят эти люди. Иное еще занимательнее.
Не знаю, как тебе сказать, видел я или нет государя? Он ехал мимо, но я думал, что это какой-нибудь генерал, и потому не обратил никакого внимания. После уже мне сказали это.
Если я выхожу из дому, то иду все по той же вечной Гороховой улице или Невскому мимо Адмиралтейства в университет, и потому не вижу ничего нового, кроме картинок, беспрестанно сменяющихся, которыми увешены стены дома, где магазин гравюр и литографий, Дациаро; но описывать их я не мастер, да они и не стоят по большей части этого.
Прощай, милая сестрица. Целую тебя. Брат твой Николай Ч.
Поцелуй за меня ручку у бабеньки и пожелай им здоровья.
Что тебе написать, Саша, кроме разве того, что в ∆АВС имеем sin угл. В : S. уг. С : sin уг. А = ст. В : стороне С : ст. А.
 Но по положению
уг. А уг.
Но по положению
уг. А уг.
В + С след., как угол А уг.
В + С, так и сторона А ст.
В + С, след., в тупоугольном треуг.
сторона, противолежащая тупому
углу, двух других сторон.
30 авг[уста 1846 г.], вечер.
Милый папенька мой! Сейчас получил Ваше письмо от 19 августа.
Место для варенья зимою легко найти: ставят подобные вещи в жестяном ящике или в сундуке в сенях (но их здесь почти никогда не бывает), на балконе (это почти всегда есть), за окошком (там вершков 6 или полуаршина широты этот выдающийся уступ), заперши висячим замком; летом дело другое: у таких квартир, на какой стоим мы, т. е. наши хозяева, рублей в 800 или в 1 000 в год, погребов и прочего не бывает; да и не нужно: такие люди живут день за день, что купили в лавочке, то и съели; уже именно по-евангельски: не пецытеся на утрие: утрений собою печется, довлеет дневи злоба его. Но ни варенья, ни яблок не присылайте: пусть лучше сама Любинька с братьями и сестрицами скушает за наше здоровье. Яблоки не такая вещь, чтобы нельзя было обойтись без нее, и не так вкусны, чтобы жалеть об них; притом же их
45
как-то слишком много естся: пуда не стоит того, чтобы и посылать: только разлакомишься, а поесть порядком и не удастся; а не десять же пуд. посылать: если есть, так есть десятка по полтора в день, а то не из чего и приниматься, а если есть так, то не нашлешься.
Варенье есть у нас у самих. Сахарное здесь рубль фунт (нет, 90 коп.), оно есть вишенное, клубничное, малиновое и проч.; мне лучше всего нравится клубничное.
Но вы думаете, что это варенье такое, что его в рот не возьмешь? Вовсе нет; сахар самый лучший; ягоды тоже прекрасные; сами маменька, несмотря на свое предубеждение, остались им вполне довольны, сознались, что оно не хуже нашего домашнего.
Итак, о варенье нечего вам заботиться: его здесь вдоволь, хорошего и дешевого, а об яблоках не стоит и заботиться: было бы варенье, об них и не вспомнишь.
Писать в Саратов к семинарским своим наставникам я думаю погодить с месяц, пока узнаю сколько-нибудь порядочно университетскую библиотеку, чтобы мочь написать что-нибудь, особенно Гордею Семеновичу и Ивану Петровичу.
Вы знаете, что писал Александр Фсодорович Петру Феодоровичу, или не знаете? Если не знаете, то маменька, которым сообщил он свои планы, спрашивая их мнения, приехавши передадут Вам их. Вещи интересные.
Приехал ли Кожевников в Саратов? Племянник его не выдержал экзамена. Это жалко.
Вы все пишете о том, чтобы я не запинаясь писал, если что нужно. Пока еще, кажется, ничего. У меня остается около 65 рублей денег (рублей 15, или больше, употреблено на книги), около 25 рублей должно будет отдать до 5 октября за квартиру; 40 рублей на месяц еще довольно. А в месяце 30 дней, а каждый день может теперь изменить мое положение к лучшему. К худшему невозможно.
У нас 21 лекция в неделю, так что только 3 лекции в неделю остаются свободными; нигде нет так много лекций: у Алекс. Феодоровича, например (в 4 курсе юр. отделения), 15 лекций в неделю, 9 остается свободных; это очень хорошо, потому что в эти часы очень удобно заниматься в библиотеке, а это ведь и есть важнее и полезнее всего.
Да, по-гречески мы станем переводить Геродота, может, несколько строк еще из Ксенофонта и Эзопа. По-латине вечного Цицерона, теперь Cato major, и Плавта, теперь Trinummus.
Все это, как видите, нечто вроде пустяков. Я не знаю, как Вам писать это. Вы сейчас и станете опасаться, что «если считает пустяками, то станет пренебрегать, опускать лекции». Но разве я не говорил того же о семинарских классах и опустил ли хоть один? Дружба дружбой, а служба службой: думай, как хочешь, а сиди и слушай.
46
Кроме Вас, разумеется, никому этого не напишу, а Вам должен написать, чтобы Вы не подумали, что здесь с неба звезды; хватаю и я вместе с прочими. Та же история отчасти, что и в Саратове. Отчасти, слава богу, нет. Иные профессора прекрасные. Но, главное, все любят без памяти свой предмет. Хорош ли он, нехорош ли, как хочешь суди о профессоре, но с этой стороны они заслуживают полного, беспредельного уважения.
Прощайте, милый папенька! Целую Вашу ручку. Сын Ваш
Николай.
Милый Саша! Поздравляю тебя с днем твоего ангела и желаю тебе вот чего.
Ты, я думаю, не читал «Двух судеб» Майкова? Вообще в них одно замечательно: жаркая, пламенная любовь к отечеству и науке. Взгляд его на причины нашей неподвижности умственно» мне кажется важным, но в этой книге есть чудные места, особенно о науке.
Вот самое замечательное:
Ужель, когда Мессия* наш восстал,
Вас** пробудив и мир открыв вам новый,
В вас мысль вдохнув, вам жизнь иную дал, —
Не вняли вы его живое слово,
И глас его в пустыне прозвучал?
И грустные идете вы, как тени,
Без силы, без страстей, без увлечений?
Или была наука вам вредна?
Иль, дикого растлив, в ваш дух она
Не пролила свой пламень животворный?
Иль, лению окованным позорно,
Не по плечу вам мысли блеск живой?
Упорным сном вы платите ль Батыю
Доселе дань, и плод ума порой,
Как лишний сор, сметается в Россию?
И не зажгла наука в вас собой
Сознания и доблестей гражданства,
И будет вам она кафтан чужой.
Печальное безличье обезьянства?..
В самом деле, Саша, посмотри, кто до сих пор из России явился гением в науке? Кончим курс и бросим, а любви к науке для науки, а не для аттестата, ни в ком почти нет. Неужели же это должно остаться так? Неужели в самом деле то только уже, что не годно в Европе, должно привозиться нам и то чужими? Посмотри список членов Академии, профессоров университетов: больше половины иностранцев. А главное, что до сих пор внесли русские Своего в науку? Увы, ничего. Что внесла наука в жизнь русских? Тоже ничего; она еще молода-с, всего полтора века-с. Да ведь в XVII веке жили уже Декарт, Ньютон и Лейбниц, а это тоже было только чрез полтора же-с века-с по восстановлении наук (в начале
XVI века греч. и еврейский язык во многих местах Европы преследовали еще, как ересь). А? А мы-то что? Неужели наше призвание органичивается тем, что мы имеем 1 500 000 войска и можем, как гунны, как монголы, завоевать Европу, если захочем? Жалко или нет бытие подобных народов? Беша и быша, яко же не бывше. Прошли, как буря, все разрушили, сожгли, полонили, разграбили и только. Таково ли и наше назначение? Быть всемогущими в политическом и военном отношении и ничтожными по другим, высшим элементам жизни народной? В таком случае лучше вовсе не родиться, чем родиться русским, как лучше вовсе не родиться, чем родиться гунном, Аттилою, Чингисханом, Тамерланом или одним из их воинов и подданных.
И будет нам она кафтан чужой.
Печальное безличье обезьянства?..
Да, до сих пор была; будет ли? Будем надеяться, что нет; нет, не завое[ва]телями и грабителями выступают в истории политической русские, как гунны и монголы, а спасителями — спасителями и от ига монголов, которое сдержали они на мощной вые своей, не допустив его до Европы, быв стеной ей, правда, подвергавшеюся всем выстрелам, стеною, которую вполовину было разбили враги, и другого ига — французов и Наполеона.
Не жребий монголов и гуннов должен быть сужден нам и в науке. Спасителями, примирителями должны мы явиться и в мире науки и веры. Нет, поклянемся, или к чему клятва? Разве богу нужны слова, а не воля? Решимся твердо, всею силою души, содействовать тому, чтобы прекратилась эта эпоха, в которую наука была чуждою жизни духовной нашей, чтобы она перестала быть чужим кафтаном, печальным безличьем обезьянства для нас. Пусть и Россия внесет то, что должна внести в жизнь духовную мира, как внесла и вносит в жизнь политическую, выступит мощно, самобытно и спасительно для человечества и на другом великом поприще жизни — науке, к[ак] сделала она это уже в одном — жизни государственной и политической. И да совершится чрез нас хоть частию это великое событие! И тогда не даром проживем мы на свете; можем спокойно взглянуть на земную жизнь свою и спокойно перейти в жизнь за гробом. Содействовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и благу человечества — что может быть выше и вожделеннее этого? Попросим у бога, чтобы он судил нам этот жребий. Так? Да, скажи, так!
28
РОДНЫМ
6 сент[ября 1846 г.], (пятн[ица], вечер).
Милый папенька! Я, слава богу, здоров и весел. Да, теперь не о чем думать: конечно, кое о чем очень можно бы, да как-то не думается. Встаешь в 7 часов, до 83̸4 едва успеешь напиться чаю
48
и сообразить, что нужно взять в ун. и что там делать в свободное время. Там с 3 до 4½ едва успеешь пообедать — а тут час пьешь чай, и всего остается 5 часов в сутки: как тут успеет раздумье взять?
Так бог знает что: кроме насущных потребностей умственных и не думается как-то (т. е. думается мало, не столько, сколько должно отдавать времени этим мыслям возвышенным); жалкое, но спокойное и здоровое существование; и точно, я очень здоровею, гораздо теперь лучше с лица, чем был в Саратове.
Ныне получил Ваше письмо от 27 авг.
Пока (это продолжится еще несколько дней) мы занимаем одну комнату; маменька Вам опишут и расхвалят ее, конечно. Теперь мы ждем, что скажет хозяин: хочет ли он остаться на этой квартире на будущий год, или искать новую; если останется на этой, мы возьмем (как и говорили уже с ним) еще другую комнату у него (от этого цена увеличится рублями десятью), а если сменит квартиру, то это должно быть на-днях, и мы уже выберем такую квартиру, чтобы нам было две отдельных комнаты. След., то же и то же. Две комнаты с дровами, разумеется, и прислугою будут стоить 12 — 15 рублей серебром с двоих в месяц.
Главное удобство жить, где мы живем, то, что хозяин наш такой, какого едва ли можно найти скоро.
Он так благороден, как только возможно вообразить, и, еще, приходит домой только ночевать. Дома всегда мы одни и старая служанка. Сам хозяин уходит на уроки в 9½ часов утра и приходит в 11 вечера (обедает где-нибудь на уроке). Супруга его живет гувернанткой и дома бывает в гостях только по воскресеньям. Сын уходит в Петропавловскую свою школу в 8 часов, приходит обедать часа на полтора (тут и мы обедаем, а не дело делаем), потом опять уходит до 8 часов. Видите, что мы решительно целый день одни. Не услышим ни шороха, ни шелеста с 9 до 11 часов. В этих отношениях квартира бесподобная. Ходить недалеко поздешнему. Хозяин, как уроженец юга, ничего так не боится, как холода; поэтому, разумеется, у нас тепло до последней возможности. Сырости в 3 или 4 этаже быть не может.
Сюртук ныне взяли. Разумеется, он очень хорош. Портной и не отдаст, если выйдет дурной, чтобы не повредить своей репутации. Шинель готова будет завтра.
Прощайте, милый папенька. Об университетской библиотеке напишу больше, когда узнаю ее лучше. Теперь у меня взят домой Геродот и Лейбниц. Прощайте, милый папенька. Целую Вашу ручку.
Сын Ваш Николай Ч.
Милая бабенька! Климат петербургский для меня, кажется, здоровее саратовского. Дождей пока еще нет, простудиться, хоть если бы кто и хотел, не удалось бы. О Саратове я не тоскую, как
4 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
49
![]()
Вы, может быть, думаете: еще нагляжусь я на него. Прощайте, милая бабенька. Желаю Вам здоровья и целую Вашу ручку.
Внук Ваш Николай Чернышевский.
Милая Любинька. Вот тебе и план квартиры нашей:
а) дверь, б) диван, на котором я сплю,
в) стол, на котором обедаем и пьем чай,
г) письменный,
 д)
окно,
д)
окно,
е) этажерка,
ж) другой диван,
з) печь (они здесь делаются в виде колонны: круглые и не доходят до потолка),
и) столик маленький, на котором, между прочим, лежит платье.
Потом два кресла, которые обыкновенно стоят перед окном, и полдюжины стульев.
Мебель вообще хороша. Комната с нашу залу или немного побольше. И все.
Третьего дня мы трое (еще был один студент) читали весь вечер новый роман Эженя Сю — «Мартин Найденыш». Он стоит «Вечного жида», если не лучше его. Главная цель его — доказать, что как бы ни закоснел человек во зле, всегда можно и легко можно обратить его к добру, и средствами мирными, кроткими, а не кровавыми. В тех 2 томах, которые вышли, для этой цели выведены четыре главные действующие лица (самое главное, впрочем, Мартин): отец и сын, графы, богачи, погрязшие во всевозможных пороках до того, что оба хвалятся ими, оба с душами сильными и твердыми, особенно сын — это настоящий сатана по злобе и дерзости. Оба питают величайшее отвращение и презрение к низшим классам. Потом один жестоко оскорбленный ими седой браконьер, который хочет убить графа отца — «чтобы страшным уроком пробудить ужас и, как следствие его, раскаяние в подобных ему», друг Мартина, и сам Мартин, который убеждает его погодить еще месяц, обещаясь в этот месяц, дело почти невозможное, обратить к добру и любви к ближнему страдающему этих дьяволов во плоти. Все разговоры, ты знаешь, удивительны, но особенно хороши во 2 томе (я первого еще не читал) разговор Клода (браконьера) и Мартина. Только страхом и кровью можно действовать на этих чудовищ, палачей низших классов, говорит браконьер; удивительно говорит. Нет, говорит Мартин, больных лечат не так, что приведут в госпиталь, пред
50
глазами их застрелят больного подобною болезнью и скажут «Смотрите, вот и вас так застрелят, коли не выздоровите». И злых должно лечить, размягчая, а не устрашая их сердце и волю, и я сделаю это с графами, отцом и сыном. Потом еще удивительно хороши некоторые места в записках Мартина.
Удивительный, благородный и, что всего реже, в истинно христианском духе любви написанный роман.
Прощай, милая сестрица. Целую тебя. Поздравляю со днем твоего ангела и желаю, чтобы этот и следующие за ним годы заключали для тебя в себе одни радости.
Брат твой Николай Ч.
29
РОДНЫМ
13 [сентября 18]46 г.
Милый папенька! Я, слава богу, здоров.
3 сентября писали мне маменька из Москвы: они тоже, слава богу, здоровы. Были опять в Троицкой лавре. Подробности сами они уже передали или скоро передадут Вам. Они скоро, дня через два или три по получении Вами этого письма, будут в Саратове.
Ныне получил Ваше письмо от 2 сентября.
Вы спрашиваете о том, нужно ли мундир? Пока очень можно обойтись и без него. Сшить его вместе с сюртуком нельзя было, потому что слишком мало осталось бы денег для маменьки. Ведь он должен стоить 150 — 175 рублей. Если шить, то шить должно уже порядочный, потому что он пойдет на все 4 года, иначе нечего и шить, а пока его не нужно.
Райковского сына я вовсе пока не знаю, а отца лично почти не знаю (только раз был вместе с маменькою тогда, перед экзаменом, да и то жаль, что был: кроме того, что тогда должен я был с полчаса слушать о том, как мотают отцовские денежки и прочая, как ни один семинарист ничего не знает, потому что они и то, и то и прочие, тому подобные вещи, следствий никаких не было; до экзамена, к счастью, он совершенно забыл меня и на экзамене не узнал); но судя по его тогдашним словам и особенно по лекциям, которые должен теперь слушать, это не такой человек, чтобы его мнение могло иметь большой для Вас, папенька, авторитет. Я не знаю, как писать Вам это, но он со своими лекциями, чтобы поскромнее выразиться, странен. Может ли умный человек, понимающий настоящее положение христианства и православия, в особенности, понимающий, что ему (христ. и прав.) теперь должно бороться не с греческим и римским язычеством, не с Юпитером и братиею его, а с деизмом, не с папизмом, который давно уже пал, а с гегелианизмом и неологизмом, знающий, что большая часть его слушателей слишком нетверда в христианстве от этого же превратного воспитания, страшно выговорить, может ли он терять время все на пустые толки и бестолково пышные фразы о
4*
51
том, что говорится в предисловии к требнику Феогноста (где нет решительно ничего хоть сколько-нибудь замечательного, да уже хоть бы Феогност был отец церкви или его требник принят церковью! А он толковал нам об нем целую лекцию; к чему даже прицепился только, чтобы толковать о нем, ни тогда, ни теперь не могу придумать); ни одного здравого слова, ни одной доказанной мысли, голые, пустые, ничего не говорящие и ни к чему не ведущие громкие фразы ни с того, ни с сего, и только! Жалко и страшно, когда подумаешь, что эти сотни молодых людей, не слыша ни дельного слова в защиту религии своей, не имея силы и охоты сами изучать источники, должны остаться при своих прежних мыслях, при своей формальной вере и сердечном неверии или, лучше, скептицизме на всю жизнь! Нет, что это за законоучитель! Ему бы только говорить похвальные речи какому-нибудь восточному царьку с восточно-бессмысленными громкими фразами и гиперболами. Не подумайте, что это не так, когда будет время, я пошлю Вам, если угодно, одну из его лекций, и Вы увидите, какая это пустошь.
Быть может, он и ученый человек, но пустой в отношении к науке, к высшему. Что же думать о его решении? Я жалею его, как законоучителя, еще более сожалею университет, в котором он законоучителем, и молодых людей, которых оставляет он в добычу неверию или хорошо это еще, если деизму (впрочем, для деизма должно знать философию, а ее должны знать немногие).
Как отца и частного человека я его не знаю, быть может, он и хороший человек, но пустой, это непременно.
Будущность филолога? В самом худшем случае — это участь всегдашняя юриста — итти в помощники столоначальника пока, а там, что бог даст. Но я надеюсь, что не буду доведен до этого.
Вы пишете о библиотеках.
Публичная открыта только до 4 часов. Румянцевский музеум до 3 часов; все это время я в университете, поэтому могу бывать в Публ. библ. и Рум. муз. только во время каникул и других вакаций.
Библиотека для чтения? 30 рубл. асс. или 10 рубл. сер. в год, кроме того в залог столько же или не менее 25 рублей асс. У меня не оставалось столько денег, чтобы обратить их на это. Теперь еще менее.
К невской воде я привык. Погода хорошая. Прощайте, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай Ч.
Милая сестрица моя Любинька!
Проехал мимо меня два раза государь, но я не могу сказать, что видал его, хоть и отдавал ему честь: такая уже моя доля, ничего и никого не замечать во-время. Я утешаюсь тою мыслью, что скоро увижусь с государем на аудиенции, которую выпрошу (или нет, не выпрошу, а сам он даст мне).
52
Да, скажи, милая сестрица, папеньке, что приехал Стобеус и сам был у меня: я пойду к нему на-днях; покорно благодарю тебя за помочи.
Скажи, что он, Олимп Яковлевич и Василий Степанович с Прасковьею Алексеевною и, наконец, Виноградовы кланяются.
Поздравляю тебя, милая сестрица, со днем твоего ангела; дай бог, чтобы этот год прошел для тебя не так, как нынешний, а гораздо повеселее.
Как я хозяйничаю? Тоже, как ты, милая сестрица: прекрасно, и очень легко управляюсь с хозяйственными и экономическими делами своими, правда, не слишком многосложными и запутанными.
Да, и позабыл было написать, что Александр Феодорович кланяется вам (это, впрочем, всегда само собою подразумевается) и поздравляет тебя с ангелом.
Прощай, милая сестрица. Целую тебя. Брат твой Николай
14 сент[ября] 1846 г.
Саша, поздравляю тебя с переходом в 5 класс. Поздравь Кочкина и Чеснокова и кланяйся им. Целую тебя. Н.
30
РОДНЫМ
20 [сентября 1846 г.], пятница.
Милый папенька! Я, слава богу, здоров. Во вторник получил я Ваше письмо с 10 рублями сер. Теперь у меня к 5 октября должно остаться рублей 11 серебром. Около 7 или 7½ надобно будет заплатить за квартиру за месяц вперед до 5 ноября. Мы возьмем другую комнату.
Записываться в библиотеку мне пока не было надобности и времени: пока я веду жизнь самую преглупую и прездоровую: до 3 в ун., по 4½ обедаем, в 7 пьем чай, потом дней пять в неделю или у нас кто-нибудь, или я у кого-нибудь: часа три или четыре только в день остаются. Книги беру из библиотеки университетской; такая жизнь должна продолжаться не более месяца; дела университетского нет, слава богу: лекций 21 в неделю, но стоят внимания только 5: две всеобщей истории (читает Куторга), две психологии (читает Фишер) (не судите о нем по вступительной его лекции философии в «Ж. М. нар. просв.», которая мне казалась и кажется нескладною; он напротив того отличается строгим логическим выводом) и, наконец, лекция Касторского — славянские наречия. О других лекциях напишу когда-нибудь.
О французском языке Вы пишете. Книжным образом я знаю его столько, что для усовершенствования мне себя в нем не нужно особенных забот и особенного времени употреблять: это пойдет само собою вперед от чтения французских книг, которые мне
53
нужно или интересно будет читать для других целей — по части истории и философии; так незаметно и гораздо лучше и скорее. Усовершенствовать произношение? Но теперь мне почти невозможно достигнуть хорошего произношения, разве проживши лет 10 между французами; а иначе, как я ни старайся, все мое произношение будет смешить. Учиться говорить? В сущности, это бесполезно и не нужно. Если будет случай выучиться без потери минуты времени и без всякого труда, живя, вместо того, чтобы с русским, с французами, почему же не выучиться? Иначе стоит ли потерять на это хоть бы час времени? Даже в светском отношении уменье говорить по-фр. слишком пошло для того, чтобы придать здесь какую-нибудь цену или лоск человеку: здесь множество лакеев русских, природных, говорят по-французски; неуменья говорить по-французски нельзя считать здесь и признаком нехорошего воспитания. Я, конечно, не допрашивал всех профессоров наших, например, кто из них говорит по-французски, и не знаю, сколько именно не говорит, но Устрялов, Неволин (из духовных, автор «Энциклопедии законоведения»), Никитенко, один из самых светских людей здесь и самых уважаемых и ловких в обществе, который читает нам историю литературы, — не говорят ни по-французски, ни на каком другом языке. (Только Неволин, бывши в Германии, поневоле выучился говорить по-немецки). Следовательно, об этом нечего не только думать, даже и раз как-нибудь подумать: не стоит того. От меня нигде и никогда не потребуется более знания фр. языка.
Похождения мои в эту неделю (в буквальном смысле похождения, а не в переносном: куда я ходил просто, а не приключения, которых не было еще со мною ровно никаких, да кажется, и не будет):
воскресенье был я у Стобеуса, после обедни; ничего, ласков, очень ласков, говорил, чтобы я ходил к нему. Он, кажется, остается здесь. Вам они с Авд. Е. кланяются.
Сюда приехал смотритель камыш. дух. Училища. Ив. Вас. Писарев, товарищ Алексея Тим., познакомился с нами. Он нашел здесь сестру своего инспектора, Ивана Семеновича Архарова, дочь Семена Иван., которая здесь замужем за греком, Наумом Андреевичем Тухфою, который управляет домом сенатора или чего-то этакого, вельможи, одним словом, Безобразова и для чинов служит в Сенате. Они захотели познакомиться со мною. Я был у них. Предобрые люди, приняли просто, по-родственному; супруг Марьи Семеновны лицо очень замечательное и любопытное. Житейский в высшей степени человек, из всего извлекающий пользу для себя и, если можно, и для других, пожалуй, и вместе удивительно добрый: вдобавок еще пылкий, как азиатец, но даже самую пылкость свою умеющий обратить в пользу себе, т. е. материальную; удивительно видеть смешение таких противоположностей.
54
Жизнь есть — Одиссея просто; или нет: просто десять Одиссей: презанимательная! Сказка, а не жизнь в прозаическом мире: один из героев тысячи и одной ночи, да и только.
Благодарю Вас, милый папенька, за присылку денег.
Олимп Яковлевич и Александр Феодорович Вам кланяются.
Прощайте, милый папенька. Целую Вашу ручку.
Сын Ваш Николай.
Милая сестрица моя Любинька!
С того достопамятного времени, как я прочитал «Библиотеку» за сентябрь, ни одной книги из легкого чтения еще не попадалось мне в руки. Что же писать тебе? Разве вместо водевиля рассказать комедию Аристофана, в которой (ты знаешь, что у афинян судили сами граждане) один старик до того пристращается к адвокатничеству и судейничеству и сутяжничеству, что просто из рук вон: не идет с народной площади, да и кончено; просто с ума сошел. Сын не знает, что с ним делать; наконец видит, что одно средство — запереть старика. Старик поднимается на все хитрости, преуморительнейшие, чтобы только вырваться как-нибудь на площадь судить, как пьяница рвется выпить. Гонят, например, мимо дома его стадо баранов; он зашивается в баранью шкуру, чтобы только уйти потихоньку, — ловят бедняка и запирают опять; но, наконец, он-таки успевает убежать; как, если угодно, напишу, сын всплескивает руками. Должно заметить, что собственно завязки, интриги нет в древних комедиях, как и в «Ревизоре», например, или в «Горе от ума». Угодно слушать такие вещи? Пожалуй, а пока целую тебя. Брат твой Николай.
31
РОДНЫМ
27 сентября [1846 г.]
Милый папенька! Теперь, я думаю, маменька давно уже дома.
Я, слава богу, здоров.
Получил Ваше письмо от 13 сентября. Александр Феодорович очень благодарит Вас, милый папенька, за то, что Вы написали об определении Петра Феодоровича.
Он бранит Петра Феодоровича за то, что он ничего не пишет ему о себе.
Он очень рад определению Петра Феодоровича. Я писал Вам, милый папенька, о Иване Васильевиче Писареве. В четверг он был у нас и поручил мне кланяться Вам и просить Вас передать от него Алексею Тимофеевичу, что он (Алексей Тимофеевич) делает не по-дружески, что не отвечает на его письма. Ивану Васильевичу письма от Алексея Тимофеевича принесли бы очень боль-
55
шое удовольствие. Он просит Вас передать Алексею Тимофеевичу его просьбу о том, чтобы Алексей Тимофеевич писал ему.
О себе писать можно мне, т. е. есть что писать, да и Вам любопытнее всего знать обо мне, только одно — что-то я делаю с университетом ?
У нас, как Вам писал, только три или, со всеми натяжками, пять свободных лекций; лекции с 9 до 3, библиотека открыта с 10 до трех. Одна из этих пяти лекций — первая с 9 до 10½, итак, всего можно быть в библиотеке в неделю только 6 часов.
Библиотека университетская не слишком, кажется, богата. По богословию особенно: вообразите себе, что сколько-нибудь похожих на что-нибудь, только четыре книги:
богословие Прокоповича (на латинском, которое есть у нас дома, т. е. в Саратове), «Мысли» Паскаля и две истории Новозав. церкви — Флёри (на франц.) и Шрекка (на немецком).
Более ничего!!!! (Разумеется, несколько сотен вздорных книжонок и надгробных или приветственных слов еще.)
Конечно, по другим отраслям познаний не то но все-таки слишком не полно.
По философии, например, экземпляр сочинений Гегеля не полон: трех или четырех томов из середки нет. Вообще довольно бедная библиотека.
Разумеется, это я говорю, судя по каталогам, но они, кажется, полны. Домой брать книги оттуда легко; вот это хорошо.
Но там читать, вот неудобство: комната для чтения особенная, а не в библиотеке читают. В эту комнату приносят библиотекари только те книги, которые потребованы. Записываешь в книгу, что нужно тебе, и на другой или третий день приносят.
Кроме этого, в ней лежит несколько беспрестанно надобящихся сочинений, например, полное собрание законов (экземпляра три). Энциклопедия Эрша и Грубера (очень хорошая, лучшая, кажется, какая есть). Несколько годов «Журнала М. н. просвещения» и еще несколько подобных книг.
В Публичной библиотеке я еще ни разу не был, потому что решительно нельзя.
Лучшие профессора, т. е. наиболее славящиеся: филологический факультет: Грефе — профессор греческой словесности. Фрейтаг — проф. римской словесности. Куторга — проф. всеобщей истории. Устрялов (Куторга женат на его сестре);
восточный:
Сенковский;
математический и физический:
Ленц Куторга (брат того);
юридический и камеральный:
Неволин, Порошин (проф. политической экономии, который издал записки своего деда о Павле Петровиче).
Да, и позабыл Плетнева и Никитенку.
56
Кажется, только. По моему мнению, еще Фишер, профессор философии; другие с этим не согласны.
Прощайте, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш
Николай.
Милая сестрица моя Любинька! Отлагаю писать тебе до утра, потому что надеюсь, что Александр Феодорович принесет кучу литературных новостей от Никитенки, на литературный вечер к которому отправился, а между тем целую тебя. Брат твой Николай Ч.
Милая бабинька! Честь имею поздравить Вас с днем Вашего ангела.
Желаю Вам провести наступающий год в совершенном здоровье, так чтобы я не узнал Вас, когда приеду к Вам в Саратов, так найду Вас помолодевшими.
Прощайте, милая бабинька. Целую Вашу ручку. Внук Ваш
Николай.
Милый братец и друг мой Саша! Неужели так законом положено, чтобы мне каждое письмо к тебе должно было начинать жалобами тебе на тебя за то, что ты не пишешь? Ты не пишешь это значит не любишь.
Ты говоришь, что тебе нечего писать ко мне?
Вот это, к несчастью, и доказывает мне, что ты не любишь меня. Не думай, что я пишу это так: нет, это глубоко огорчает меня, ты не воображаешь, как глубоко.
Разумеется, в твоей жизни внешней, так же, как и в моей, нет ничего замечательного, никакого разнообразия. О ней нельзя написать ничего, это точно.
Вот эту жизнь и описывают тем, кто тебя не любит и кого ты не любишь.
Но разве это жизнь в существенности? Конечно, есть такие несчастные люди (они не чувствуют своего ничтожества и несчастия, как спящий голода и холода и бедствий своих, но мы видим его), внешняя жизнь составляет всю жизнь которых. Почему несчастны они, жалки, если ты не видишь этого, я, если угодно, напишу тебе.
Я надеюсь или, лучше, знаю, что ты не можешь принадлежать к числу этих жалких созданий.
Есть жизнь другая, жизнь внутренняя, душевная.
Это-то и есть истинная жизнь.
В ком есть она, тот занимается внешней жизнью и заботится о ней только настолько и постольку, чтобы она не мешала внутренней жизни.
Так, все заботятся о здоровье только настолько, чтобы его состояние не мешало нам наслаждаться жизнью: кто им не дорожит? Кто захочет расстроить его? Но кто же и поставляет все свое счастье в нем? Кто не смотрит на него только как на условие,
57
без которого невозможно вполне наслаждаться благами жизни, но которое само по себе вовсе еще не есть благо, а только, как говорят, субстрат благ? Болезнь — зло, а здоровье вовсе не благо, а только одно из условий, без которых невозможно наслаждаться благами.
Так, свет не есть видение (das Sehen), а только необходимое условие для того, чтобы мы могли видеть.
Так смотрят те, в которых есть жизнь внутренняя, на жизнь внешнюю.
Блага ее — вовсе не предмет желаний и забот их сами по себе. Они желают только, чтобы она была такова, чтобы не вредила, не мешала их жизни внутренней, как мешает болезнь.
Она идет хорошо — они рады этому, но это ничуть не удовлетворяет, даже не занимает их: так всякий, конечно, рад быть здоров, но кто же доволен одним тем, если он здоров, нужды нет, что у него нечего ни пить, ни есть, что у него горе, кого занимает то, что он здоров, кто думает, мечтает о том, что он здоров?
Так и они.
Одним словом, жизнь, внутренняя — это главное, единственное, можно сказать.
Внешняя — ее достоинство может быть одно: пусть она не мешает своими хлопотами и горестями внутренней. Вот эта-то внутренняя жизнь и занимает тех, кто нас любит, и ею-то делимся мы с теми, кого мы любим.
Не может быть, чтобы она не кипела в тебе.
И есть потребность делиться ею с кем-нибудь.
Со всяким, кого любишь.
Но часто препятствует делиться то, что знаешь, что не поймут тебя, что и любят тебя, да не могут этому сочувствовать, потому что непонятно это.
Это одно может препятствовать этому дележу.
Можешь ли ты предполагать, что я могу не понять тебя? Нет, потому что мое положение слишком сходно с твоим; думы твои — все перебывали в голове у меня, желания твои, чувства твои — я их знаю, они или и теперь еще во мне, или были во мне и оставили следы и не только возможность понять, даже невозможность не понять их, не сочувствовать им в другом.
Что же может тебе мешать, по стремлению делиться, рассказывать мне твою жизнь?
Конечно, одно из двух:
Или ты не любишь меня,
Или думаешь, что я не люблю тебя.
Напиши же хоть это, которое же именно, первое или второе?
Прощай. Целую тебя. Брат твой Николай Чернышевский.
Некоторые ученые занимались составлением таких стихов, слова, составляющие которые допускали б очень много перестановлений, без нарушения размера и смысла. Такие стихи назы-
58
ваются versus Protei (Протей был волшебник, который мог принимать все виды, какие угодно).
Вот один: Rex, Dux, Sol, Lex, Lux, Fons, Spes, Pax, Mons, Petra, Christus.
9 односложных допускают между собой 362 880 перестановлений.
Другой: Dis, Vis, Lis, Laus, Fraus, Stirps, Fons, Mars regnat in orbe.
8 первых односложных допускают 40 320 перестановлений.
Сложи все имеющие численное значение буквы, получишь год, в котором написан этот стих (эти буквы большими написаны).
D, I, V, I, L, I, L, V, V, I, М = 500 + 1 + 5 + 1 + 50 + 1 + 50 + 5 + 5 + 1 + 1000 = 1620 и сочинитель прав был, сказав, что «богатство, кулачное право, распри, лест, ложь, знатность, личина, Марс царствует в мире»: это ведь в 30-летнюю войну; я думаю, чnо всего тут было.
8 час. утра. 28 сент. [1846 г.]
Милый папенька! Сию минуту получил Ваше письмо от 17 сент. Почта полуднем опоздала: вместо 7 часов вечера в пятницу письмо принесли в 8 утра в субботу.
Пора в университет и на почту.
Прощайте, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш
Николай Ч.
32
РОДНЫМ
4 окт. [1846 г.]. вечер (пятница).
Милые мои папенька и маменька! Наконец-то вы, милая моя маменька, дома, здоровые и, как Вы мне обещались, веселые.
Удивительно я был обрадован Вашим письмом от 24 сентября, тем более, что не ждал его получить ныне, а только завтра, в субботу, думая, что почта опаздывает; нет, опаздывала не почта, а почтальон. Прихожу в университет, спокойно просиживаю лекцию, потом иду в библиотеку на свободные часы, — вдруг товарищ говорит, что мне есть письмо. Я сейчас, разумеется, отправился за ним.
Ну, слава [богу], Вы приехали, милая маменька, и приехали благополучно. Не скучайте же обо мне, ведь Вы обещались; я обещался и держу свое обещание: здоров и весел.
Благодарю Вас, милый папенька, за присылку 25 р. сер.: они пришлись, должно сказать, очень впору, потому что у меня оставалось всего целковых два с половиною; теперь и так есть, что писать, поэтому ординарные свои расходы я опишу Вам в следующем письме.
Мы взяли другую комнату; теперь несравненно лучше прежнего: прекрасно! Цена, с мытьем белья, 15 р. сер. в месяц, вместо прежних 10 р. за одну комнату без белья.
59
Отвечаю на Ваше письмо.
Преосвященному нашему доброму с нынешнею почтою уже не успел писать; напишу со следующею; и профессорам, я думаю.
Шуба не нужна решительно. Во-первых, и некуда ходить в ней: в университет всего 15 минут; из чего тут и надевать ее? Да и холодов саратовских здесь не бывает. И теплая шинель ведь на байке, поэтому очень тепла.
Не беспокойтесь: я не голодую; третьего или четвертого дня даже так наелся, что ужас; кажется, сроду в первый раз не мог даже пить чай вечером с булкой.
Да вы увидите из следующего письма, что мы вовсе не на антониевской пище.
Стобеус ничего решительно не говорил такого, о чем можно бы что-нибудь написать. Да, он говорил, чтобы бывал у него.
Экзамена до рождества не будет — он раз только в курсе — после пасхи.
Мундир будет стоить около 150, если не более рублей: поэтому можно погодить шить его. Впрочем, не мешало бы, может быть, к акту, который бывает в феврале. Теперь я не бываю еще ни у кого, поэтому он не нужен, но если этак случится познакомиться с кем-нибудь из профессоров или представиться кому-нибудь, то, конечно, нужно быть в мундире.
Один окончивший курс студент через неделю этак может быть станет продавать свой мундир: он новенький совершенно и чудесный: студент этот сын сенатора; конечно, его продает он за полцены. Чтобы не пропустить такого случая, я просил бы Вас прислать денег на мундир поскорее, если можно.
Разумеется, милый папенька, если чем можно быть мне довольным, то это тем, что я пошел по филологическому факультету.
4 лекции свободных (от 12 до 1½) я бываю в библиотеке. Объяснение других лекций, очерк их содержания общего и проч. я буду присылать Вам в следующих письмах.
В нашем курсе нет ни одного постороннего предмета, все факультетские.
Что же и спрашивать об этом, милый папенька, буду ли я должен или нет платить 40 р. за слушание лекций? Это дело, слава богу, кончено уже, благодаря Вашей предусмотрительности, милый папенька: теперь уже навсегда я свободен от взноса их.
Посылаю Вам наше расписание. Всего у нас 21 лекция, но двух не бывает из этого числа — в субботу от 9 до 10½, потому что Фрейтаг занимается с другими курсами, хоть и сказано в расписании, что с нами.
Вот Фрейтаг, говорят, человек, который смотрит на достоинство и более ни на что, — неподкупный ни за что.
Другая — в четверг вторая в 10½ — 12 — также потому, что Варранд также занимается с другими курсами.
60
Остается 19.
Прощайте, милая маменька и милый папенька. Будьте здоровы. Ал. Ф. Вам кланяется.
Целую Вашу ручку.
Сделайте милость, не отдавайте Сашу на казенное; если нужно будет, можно и в университете поступить, да, бог даст, будет не нужно; а теперь стоит ли из 2½ лет? Да еще ведь директору, кажется, и принять не хочется.
Сделайте милость. Сын Ваш Николай Ч.
Милая Любинька! Отлагаю писать тебе до завтрашнего утра: Ал. Фед., может быть, принесет новостей.
Проси маменьку написать о судьбе его портрета: он ему снился ныне и со стертым носом вдобавок.
[5 октября 1846 г.]
Извини, милая Любинька, некогда уже: пора в университет. Целую тебя пока. Брат твой Николай Ч.
Эх, Саша, Саша, доколе будеши все этакими письмишками отделываться? Вместо благодарности лучше писал бы больше. А то ведь из благодарности шубы не сошьешь, а если б сшить можно было, так ведь видишь, я писал уже, что ее не нужно мне. В баню ходить тулуп у меня есть.
Ну что тебе еще проповеди-то сказывать? Они на тебя плохо действуют. Ну вот тебе задача:
Пусть будут два луга, совершенно одинаковых, совершенно. Если между этих лугов, в равном расстоянии от обоих, поставить осла, так чтобы ему было равно хорошо видно и тот, и другой, умрет он с голоду между их или станет есть?
Если умрет — так ведь, стало быть, ему не будет хотеться есть, потому что, если бы хотелось, так целых два луга — целое стадо будет сыто вдоволь, ешь, сколько хочешь. Ну, а разумеется, ведь ему захочется есть. Так или нет? Стало быть, он станет есть и с голоду не умрет?
Хорошо бы это было и приятно для ослолюбивых душ, да нет, говорят иные жестокие — просто осуждают несчастного на смерть голодную, самую ужасную из всех смертей.
Ну, говорят эти варвары, положим, ему захочется есть, ну ему и надобно будет начать есть для удовлетворения голода.
С которого же луга начнет он есть траву? С того ли, который направо, или с того, который* налево?
Ведь все равно решительно: оба луга совершенно одинаково хороши, близки и все; почему же он может решиться есть с этого, а не с этого?
Стану есть справа — а почему не слева? Ведь все равно? Так вздумалось: да ведь должно же почему-нибудь вздуматься? Что может побудить его предпочесть этот этому? Ведь без причины ничего не бывает. Ну его тянет красота луга направо — также сильно тянет она и налево — ведь луг так же хорош.
Ну, а известно, что когда и туда, и сюда тянет равно сильно, то выйдет ни туда, ни сюда.
Ну скажи, как же ему решиться! Куда итти, на который луг ему вздумается? Налево? А почему же не направо? Направо? А почему же не налево? Ведь все равно? Так? Просто так? Нет, так не бывает ничего. На все должна быть причина. Ну что же может склонить его итти преимущественно туда, а не сюда?
Так и не решится он, бедный, век, куда ему итти, и туда и сюда равно тянет, так и останется он на месте посреди двух лугов, тучных, роскошных, и погибнет голодною смертью, бедняга. Увы!
Это называется Asinus Buridani inter duo prata*.
Это выдумал Buridanus. А? Что скажешь? Или ничего?
Дни
9 — 10½
10½ — 12
12 — 1½
1½ — 3
Понедельник
Латинский
язык.
Преподаватель
Шлиттер
Богословие.
Законоучитель
Райковский
Опытная
психология.
Орд. Проф.
Фишер
Русская
литература.
Адъюнкт
Никитенко
Вторник
Греческий
Адъюнкт
язык.
Соколов
Свободная
лекция
Славянские
наречия.
Адъюнкт
Касторский
Среда
Латинский
язык.
Преподаватель
Римские
древности.
Шлиттер
Русская
литература.
Адъюнкт
Никитенко
Опытная
психология.
Орд. Проф.
Фишер
Четверг
Греческий
Адъюнкт
язык.
Соколов
Свободная
лекция
Богословие.
Райковский
Пятница
Латинский
язык.
Преподаватель
Шлиттер
Новые языки
Свободная
лекция
Всеобщая
(у нас древняя)
история.
Орд. проф.
Куторга
Суббота
Свободная
лекция
Всеобщая
(у нас древняя)
история.
Орд. проф.
Куторга
Свободная
лекция
Богословие.
Райковский
33
РОДНЫМ
12 окт. 1846 г. СПБ.
Милые папенька и маменька! В прошлом письме я хотел описать и исчислить расходы мои. Вот они:
За квартиру по 15 р. сер. в месяц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 р.
Стол:
В месяц около 80 порций (меньше) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 р.
Хлеб по 6 коп. сер. в день мне одному . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 р. 80 к.
Чай и сахар (меньше) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 р.
Булок и сухарей к чаю мне одному на 7 коп. сер. в день . . . . . . . 2 р. 10 к.
След. 15 + 5 + 8 = 28 мне одному — 14 р. сер. за квартиру, стол и чай, кроме хлеба и булок. За булки и хлеб еще рубля 4 сер.
Потом на свечи, перья, ваксу, баню, мыло пр. еще около 1 сер. рубля.
Итак, в месяц около 20 р. сер.
Боже мой, как дорого! Если бы я знал, не поехал бы сюда.
И из-за чего весь этот огромный расход? Из-за вздора! Выписавши на 100 р. сер. книг в Саратов, можно было бы приобрести гораздо более познаний.
Я, слава богу, жив и здоров.
Мы теперь живем в двух комнатах: ничего, хорошо. Только дорого: где живет Прасковья Алексеевна, вместо 15 р. сер. можно бы платить за такую квартиру 10 р. сер.
Вчера были у нас гости: сын Райковского, сын Малова (того, которого напечатаны проповеди; он также поступил нынешний год в университет). Один из Черняевых (помните, маменька, к которым Александр Феодорович ездил в Мурино) и тоже студент Филиппов (мать его начальницею Института глухонемых; чудесный молодой человек, прекрасный музыкант). Сидели до 10 ½ часов.
Я нигде почти не бываю.
Дожидаюсь Вашего письма и потому оставляю свободное место. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай Чернышевский.
Суббота, 9½ часов утра.
Сейчас получил Ваше письмо от 1 октября.
На все отвечать некогда уже теперь, потому что через четверть часа должно итти в университет и на почту по дороге; туда 20 минут, в 10½ нужно там быть.
Теперь еще трудно видеть расположение профессоров, потому что они, кроме профессоров языков, прямо всходят на кафедру, читают без перерыва и потом уходят, не говоря никому особенно ни слова обыкновенно, если сам не начнешь говорить с ними.
63
Впрочем, Фишер, кажется, смотрит на меня хорошо; именно смотрит; читает, а когда вывертывается 2, 3 минуты, что не нужно записывать, потому что он повторяет вкратце или делает такие объяснения, что в записках довольно намекнуть на них одним словом, и когда станешь смотреть на него, то он заметно довольно, что как будто бы обращается или, как это сказать, не знаю, ко мне, смотрит на меня, как будто думает, что я очень могу понимать и интересуюсь его предметом.
Шлиттер также, кажется, хотя я еще ни разу не переводил.
Милая маменька, напишите, что с Александр Феодоровичем портретом.
Я кланяюсь Петру Феодоровичу, а Алекс. Феодор. Вам. Прощайте, целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.
Милая сестрица моя Любинька! И до сих пор еще ничего не читал.
Да, нет, читал. Ha-днях вышла тетрадка страничек в 80 стихотворений Плещеева.
Плещеев — студент здешнего университета. Двойной интерес. В «Отечественных записках» за октябрь провозглашают его (Плещеева, а не интерес) первым современным поэтом. Можешь представить себе, как это приятно.
Большая часть пьесок его (иные переводные, про те нечего говорить) в самом деле очень хороши.
Филиппов, другой студент, подарил вчера, бывши у нас, Ал. Феодоровичу свою вчера вышедшую польку. Это также очень приятно, знаешь, дух сословия! Говорят, что он пишет хорошо.
Вот сейчас и слышу: а ты так вот не хотел: и знал, да забыл!
Бог знает, что еще писать. Ничего нейдет в голову. Так пока прощай. Целую тебя. Брат твой Николай Ч.
Вот тебе, Саша, еще несколько стихов протеев: переведешь сам. Стихи Ioh. Philipp. Ebelii, ректора Ульмской школы: Dux tu mihi, mihi tu Lux, tu Rex, lesuse, tu Lex, lesuse, tu Pax, tu Fax mihi, tu mihi, Vox*. 7 односложных эпитетов I. X. — а могут перемещены быть 5 040 раз. Слово tu при каждом из них можно поставить и впереди, и позади 27 = 128 × 5 040 = 645 120: вот сколько перемещений допускают эти два стиха.
Daumius написал 3 000 стихов, из которых каждый есть выражение другими словами изречения (его любил Фихте): fiat justitia aut pereat mundus** (только Фихте изменял: fiat justitia, pereat mundus***.
Ну 219 и 220 из этих вариаций на одну тему, протеи: 219: Aut absint fraus, vis aс jus ades, aut cadat aether*. 220: Vis, fraus, lis absint, aequum gerat, aut ruat orbis**. Размер и перевод сообщи мне (ведь вы учитесь метрике?) Прощай, целую тебя. Напиши подробно, что вы переводите из латинского и греческого, но из лат. особенно. Брат твой Николай Ч.
Ну вот и ты, наконец, стал писать. Благословляю тебя продолжать.
34
РОДНЫМ
[19 октября 1846 г.]
Милый мой папенька! Я, слава богу, здоров.
Отвечаю на Ваше письмо от 30 сент., на которое не успел отвечать в прошлом письме, потому что получил его тогда, когда пора уже было итти в университет.
Вам странно, что я прислал назад лексикон и атлас Левенберга.
Про это что и говорить, что и то, и другое нужно. Но ведь хотя я писал Вам, что университетская библиотека не слишком богата, то ведь, разумеется, она не богата только по сравнению с другими подобными библиотеками.
Лексиконы мне нужны не каждую же минуту; если нужно посмотреть случается, то зайдешь между лекциями в библиотеку: там всегда есть лексиконы.
Когда нужно будет подавать латинское сочинение, тогда я вооружусь такими страшными лексиконами, синонимиками, что ужас будет и взглянуть, а теперь пока для меня довольно и всегда присутствующего Форчеллини «Forcellini Lexicon totius Latinitatis». В библиотеке всегда лежит Исторический атлас Крузе и другие еще.
Когда нужно иметь их дома, стоит только взять их.
Когда нужно другие лексиконы или атласы, стоит только записать в книге, что требуешь их.
Впрочем, я думаю, что Ваши все недоумения происходили только от того, что Вы, милый папенька, не знали, что книги из унив. библиот. можно брать домой. Я и беру все, что мне нужно.
У Прасковьи Алексеевны был [в] воскресенье. Она и Вас. Степанович Вам и маменьке кланяются.
Шинели давно уже получены. Новая вышла очень хороша. Правда, удивительно и дорого: 140 рублей.
Погода в Петербурге хорошая, холодно стало всего только три или два дня. Разумеется, не май. Но не хуже саратовской. Говорят, впрочем, что такие осени редки здесь.
Я и не говорю, милый папенька, чтобы кто-нибудь из профессоров не знал прекрасно новейших языков. Но знать и говорить, это. Вы знаете, большая разница.
Что Никитенко, Устрялов, Неволин и некоторые другие не говорят ни на одном языке из новых — это верно; и странно, если бы они умели говорить: и Неволину чудно было бы выучиться смолоду говорить по-франц. или немецки (ведь Вы знаете, кто он), а еще страннее было бы Никитенке и Устрялову. Вы, может быть, не знаете, что они отпущенники Шереметева. Где же им в молодости научиться говорить? А теперь для этого нет у них ни охоты, ни досуга, ни, можно сказать, опять нет возможности: органов загрубелых уже не переломить, а лучше вовсе не говорить так, чем говорить так, чтобы смешить своим произношением.
Впрочем, если Вам так угодно, я постараюсь, если будет возможность, научиться говорить по-французски; впрочем, эта возможность едва ли будет: во-первых, много нужно времени, во-вторых, много и денег, в-третьих, много нужно и бывать в обществе, где болтают по-фр. А я не знаю, даже Вы думаете, что для этого так много нужно всего этого тратить.
Впрочем, повторяю, если будет возможность, воспользуюсь ею, но едва ли будет она.
У Стобеуса буду в воскресенье (20 числа).
Они живут (Стобеусы) недалеко от Сенной( маменька знают это) на проспекте, кажется Обуховском, эта улица ведет от Сенной на Вознесенский проспект, в третьем или четвертом доме от Сенной.
От моей квартиры будет, как от нашего дома (в Саратове) до семинарии или немного поближе. Квартира их очень хорошенькая. Только улица довольно дурная, т. е. не из лучших. Платят они по 80 рубл. в месяц.
Милая моя маменька! Поручение Ваше о Александре Ильинишне исполняется.
Я в пятницу был в министерстве внутренних дел, у Петра Ивановича Промптова. Это дело по тому же министерству, хоть не по тому департаменту, в котором он служит.
Он обещался справиться на-днях. В следующем письме надеюсь написать Вам.
Почта вовсе пока не опаздывает еще. Ваше письмо от 8 октября получил я 18-го же в пятницу в 3½ часа пополудни, так рано, как никогда еще не получал.
Стану описывать Вам, милая маменька, хоть сколько упомню, свои приключения. Они еще однообразнее, чем были в Саратове.
Из своих товарищей был я только еще у одного, Михайлова;
66
он сын бывшего управляющего соляными копями в Илецкой Защите (где-то в Оренбургской губернии); отец умер года два.
Он очень умная и дельная голова. Несколько статей его в прозе и десятка полтора стихотворений есть в «Иллюстрации» за нынешний год. Теперь он почти перевел Катулла (латинский поэт). Думает теперь, как издать его.
Из товарищей моих по курсу у нас были: сын Райковского, сын Малова и еще Марков, сын одного генерала или генерал-лейтенанта, кажется.
Увы, вот и кончились мои похождения.
Разве то еще, что в среду хотел быть большой пожар на Васильевском Острову: жарко было вспыхнули дрова и сено да деревянный дом на придачу; чрез полчаса погасили, но замечателен не пожар, а то, что он был в зданиях четвертой гимназии, где директором один из профессоров наших, Фишер (Иван Григорьевич его знает). Я пошел было посмотреть, как здесь бывают пожары, но когда пришел, все было кончено. Был император.
Прощайте, милая маменька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш
Николай Ч.
Милая сестрица Полинька! Благодарю тебя за приглашение на чай к твоим именинам; Ал. Феодорович тоже благодарит. Мы так и пили чай, как будто у тебя, моей дорогой именинницы. Желаю тебе вырасти большой и красавицей; да уже что ты будешь красавица, я это знаю. Целую тебя, милая сестрица. Брат твой
Николай Ч.
Милый Сашенька! Эх, брат, не понял ты, что такое стихи протеи.
Это такие стихи, в которых много слов таких, что, не нарушая ни размера, ни смысла, можно перестанавливать их одно на место другого.
Дай, не ударю в грязь лицом. Вот тебе протеи доморощенные, моего изделья.
Хнычем, плачем, скачем, пляшем,
Стонем глупо, рвемся, гнемся.
Нет, эти что-то не пишутся, вот лучше № 2:
![]() Кричим, пищим, шумим, гремим,
Кричим, пищим, шумим, гремим,
Едим, храпим, сопим, клянем,
Орем, свистим, сидим, лежим.
Нет, лучше № 3:
Картина
Швыряем, моргаем, всех лаем, мараем, жизни
Щелкаем, швыряем, мешаем, гоняем, и деятельности
Клевещем, злословим, вздор порем, гуляем, человеческой
Бросаем, находим, теряем, морочим.
67
Размер № 1: — ᴗ ̸ — ᴗ ̸ — ᴗ ̸ — ᴗ. И стопы, и каждая стопа — слово — 8 слов — как ни переставляй их с какого угодно места на какое угодно — все и смысл, и размер сохранится, напр.:
Плачем, гнемся, глупо рвемся,
Стонем, хнычем, пляшем, скачем.
и пр. Из 8 вещей — 40 320 переставлений — итак, эти два стиха, в которых 8 слов двусложных, которые можно ставить в каком угодно порядке, допускают 40 320 перемен с собою.
№ 2 — размер — ᴗ ̸ — ᴗ ̸ — ᴗ ̸ — ᴗ, 4 стопы в 3 стихах 12 двусложных слов — 479 001 600 перестановлений можно сделать с № 2.
№ 3 — размера ᴗ— ᴗ ̸ ᴗ — ᴗ ̸ ᴗ — ᴗ ̸ ᴗ— ᴖ, в 4 стихах 16 стоп и 16 отдельных фраз, которые можно ставить в каком угодно порядке — из 16 вещей 20,922, 789,888,000 разных манеров. 21 биллионами почти перемен эти стихи можно переменить одною перестановкою слов!
Бесчисленность видоизменений дала таким стихам имя протеев.
Ну-ка, найди размер и пришли мне: (да и перевод кстати)
Quid sit futurum cras, fuge quaerere... et
Quem sors dierum cumque dabit lucro
Adpone…….. (Horat. Ode IX, v. 13, 14)*
Delicta majorum immeritus lues (Ноr. III, od. VI v. 1 — 4).
Romane, donec ternpla refeceris
Aedesque labentes deorum et
Foeda nigro simulacra fumo**.
Прощай. Целую тебя. Твой брат Николай Ч.
[19 октября 1846 г.]
Милый папенька! Вы не представите себе, как приятно мне известие о том, что Беллярминов учителем.
В церковь хожу я почти всегда в Казанский собор: он и ближе всех и лучше всех: от нас будет сажен 250, как в Саратове до Покровской церкви или поближе немного. Был раза два на Сенной, раз у Введения.
Прошу Вас, милый папенька, прислать мне роспись всем постам и постным дням нашей церкви.
В четверг я был в Публичной библиотеке : г. Соколов, адъюнкт греч. яз., не был почему-то на лекции.
Александр Феодорович Вам кланяется.
Милая маменька! Вы и папенька пишете все о шубе: она решительно не нужна. Сапоги, разумеется, нужно будет заказать. Завтра (воскресенье) буду у Стобеуса.
Квартира осталась та же. Любиньке посылаю план ее. Мы платим 15 рубл. сер.
Нужнее всего пока диван. На пружинах, обитый драдедамом, стоит 12 — 14 рубл. сер.
Уже если покупать, то что-нибудь порядочное. А то будет дешево да гнило.
Милая маменька, когда Вы получите это письмо, то всего останется 7 месяцев до приезду моего в Саратов (ноябрь, д., генв., ф., март, апрель, май).
Александр Феодорович Вам кланяется.
Прощайте, целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай Ч.
Милый братец Сережинька! Пиши почаще к своему братцу Александру Феодоровичу: это его очень радует. И он, и я целуем тебя.
Прощай. Пиши же. Брат твой Николай Ч.
[19 октября] 1846 г.
Милая Любинька! Сообщаю тебе несколько литературных новостей, принесенных Ал. Феодорович. от Никитенко.
Гоголь прислал письмо к Никитенке, из которого явствует, что он жив и здоров, слава богу, с ума сходить не думает, в монахи итти тоже, а думает ехать в Палестину и Иерусалим.
Это очень хорошо.
Глинку убили ли — еще не подтверждается, кажется, это были пустые слухи.
Панаев и Некрасов и Никитенко принимают издание «Современника» в новом виде.
Это, кажется, хочет быть журнал благородный по духу. Все наши теперь действующие и пишущие знаменитые люди литературные — сотрудниками.
Между прочим, Белинский, Майков, Искандер, прежний редактор Плетнев.
Программа и объявления уже готовы.
Стойкович хочет опять восстановлять здесь «Живописное обозрение».
«Современник» отбил много сотрудников у «Отеч. Записок». Краевский, говорят, получил нынешний год от них 120 000.
Впрочем, ведь один.
Сенковский также 40 — 50 000.
Ну, еще что? Не припомню.
А пока до свидания. Целую тебя. Брат твой Николай Ч.
69
35
РОДНЫМ
25 октября 1846 г.
Милые мои папенька и маменька! Ныне, в пятницу т. е., я еще не получал вашего письма. Почта верно опаздывает.
Вчера был у меня Александр Петрович Железнов, приглашал к себе. Мне чрезвычайно приятно это знакомство. Покорно благодарю вас за него, милые папенька и маменька. Стобеуса [в] воскресенье не застал дома. Ныне, милая маменька, я заходил справляться о деле Александры Ильинишны, но Петра Ивановича не застал в департаменте. Зайду завтра. Я думаю, успею.
В понедельник Ал. Феод. и я были у Ивана Григорьевича Виноградова. Прекрасный человек.
Завтра пошлю письмо к профессорам своим: Ивану Петровичу. Алексею Тимофеевичу, Гордею Семеновичу, Ивану Феодоровичу. Гавриилу Степановичу и Феодору Степановичу (тут же пишу и Михаилу Ивановичу, если Ал. Феод. успеет справиться, что нужно Алексею Тимофеевичу: а если не успеет, то до среды).
Письма все не только готовы, даже запечатаны, кроме Алексей-Тимофеевичева.
В Петербурге с неделю или дней пять 2 или 3 градуса холода. Ныне и вчера удивительный туман (впрочем, такие туманы, и еще гуще, бывают и в Саратове).
В среду весь вечер были у нас гости. Левин, искренний приятель Ал. Феод., и Черняев, у которых Ал. Феод. гостил в Мурине, и еще один служащий в гидрографическом департаменте, брат которого в университете и который путешествовал вокруг света, только я не помню с кем. Фамилия его — Баженов.
В университете нет ничего замечательного, кроме того разве, что вот уже две или три недели то того, то другого профессора не бывает на лекции. Такое уж время вышло.
Время все проходит как-то бестолково. Вчера и ныне, например, только и дела, что писал письма.
Был в Публичной библиотеке. Взял билет на посещение. Но порядком бывать в ней почти некогда.
Жду до завтра Вашего письма и того, что скажет Петр Иванович.
Прощайте, милые папенька и маменька. Целую ручки Ваши и бабенькину. Сын Ваш Николай.
Милая моя сестрица Любинька! Увы, матушка, знаменитый поэт наш Плещеев вышел уже из университета, это я теперь узнал окончательно. Вообще нашим знаменитостям плохо удаются экзамены или, как говорит один наш знакомец, страшный либерал (это он говорит серьезно ведь), «они не в дружбе с правительством» вообще.
Да, вот Плещеев — вышел в поэты и вышел из университета,
70
Белинский не выдержал экзамена в университет московский; впрочем, поступил в вольнослушающие и все-таки не дослушал до степени. Искандеру тоже помешало что-то окончить курс, так же как и Леопольдову (кажется, ведь и он не кончил: по крайней мере, он был замешан в одно дело с Искандером); одно что-нибудь: или внутреннее или внешнее, или существенность или имя. И то и другое вместе у нас как редко бывают.
Вот какие унывные мысли вызвало у меня известие, что Плещеев вышел и отпустил козлиную бородку!
С грустью на сердце целую тебя. И так и остаюсь с грустью все до неопределенного времени. Брат твой Николай Ч.
Милый друг мой Сашинька! Напиши хорошенько, что вы переводите из греческого и латинского: я постараюсь прислать тебе изданий получше. Главное, впрочем, нужно читать свободно без лексикона по-немецки и французски: без этого в мир не годишься, т. е. в мир ученый, а в такой-то еще и туда и сюда. Пожалуйста, читай как можно больше на новых языках для упражнения, хоть вздор, если нет в руках дельного.
Мои письма послужат для тебя упражнением: расставляй где нужно запятые и братию и сестры их.
Вот что: по субботам кланяйся от меня (это назову я Edictum perpeluum) постоянно, не пропуская ни одной субботы, Чеснокову, Кочкину, Бахметьеву, Захарьину, Мордовцеву, пожалуй Акимову, да, еще Никитину.
Да, если хочешь, давай писать друг другу по-латине. Да нет, это, пожалуй, вовсе тебя отпугнет. Куторга брат проповедует пользу и необходимость изучения греческого языка. Лекции три с жаром говорил об этом. Вот обрадовался бы Иван Феодорович, если бы услышал это.
Прощай. Целую тебя. Брат твой Николай Ч.
36
Г. С. САБЛУКОВУ
Любезнейший, незабвенный наставник мой! Обстоятельства, известные Вам, не допустили меня избрать восточный факультет: но ни любовь моя к восточным языкам и истории, ни, в этом, надеюсь, я не должен уверять Вас, ни признательность и живейшая благодарность моя к Вам как первому наставнику моему по восточным языкам не могли и не могут уменьшиться оттого, что другие предметы должен формально изучать я в продолжение этих четырех лет. В Петербургском университете начинают изучение восточных языков с арабского, на второй год присоединяется персидский язык и, наконец, на третий уже год — турецкий.
Сенковский довольно редко бывает на лекциях.
Историю всеобщую читает филологам Куторга младший. Мне
71
он нравится несравненно более всех других профессоров, которые нам читают. Он занимается менее политическою историею, нежели историею литературы и науки, сколько наука и литература имели влияние на историю всеобщую и служили выражением духа времени. Так об Аристофане, например, читал он три лекции.
Более, нежели фактами, занимается он самими действователями: и здесь он ревностный защитник всех оскорбляемых и унижаемых, не только какого-нибудь Клеона, но даже и Критиаса.
На многие предметы смотрит он со своей точки зрения. Так, например, Фукидид, беспристрастие которого так все превозносят, по его мнению — человек со слишком глубоким аристократическим убеждением, чтобы не быть ему в высшей степени пристрастным, чтобы не быть жесточайшим врагом партии реформы и демократии. И в самом деле, он так хорошо доказывает это, между прочим, сличая Фукидида с Плутархом и Диодором, что видишь, как Фукидид выставляет везде одну мрачную сторону переворота, совершившегося в это время в Афинах и во всей Греции.
Ha-днях вышел третий том «Римских древностей» Беккера, лучшего сочинения в своем роде.
Я не знаю, должно ли мне говорить, что если бы мог что-нибудь сделать для Вас, Гордей Семенович, то это доставило бы мне величайшее утешение. Сделайте милость, если Вам нужны справки или что-нибудь подобное, если Вам нужно справиться о цене книг или выписать какие-нибудь, то поручайте это мне: если я сам не буду в состоянии исполнить то, что нужно для Вас, то всякий из наших профессоров с удовольствием доставит мне нужные сведения.
Покорнейше прошу засвидетельствовать мое глубочайшее почтение Пелагее Исидоровне.
Честь имею остаться ученик Ваш студент С.-Петербургского университета Николай Чернышевский.
СПБ. 1846 года, октября 25.
P. S. Александр Федорович Раев свидетельствует Вам и всем Вашим свое почтение. По делу о чинах он слышал вот что: Синод ничего не сделал пока, да и не может сделать, потому что Сенат откажет, но Синод хочет попробовать хлопотать после Нового года в гражданском департаменте, который с Нового года образуется при 1 отделении канцелярии его величества, и в который поступят дела о производстве в чины: там надеется Синод успеха.
37
РОДНЫМ
[2 ноября 1846 г.]
Милые мои папенька и маменька! Я, слава богу, здоров. Почта приходит все еще во-время. Ваше письмо от 21 октября получил я в 5½ часов вечера. Здесь теперь в 4 часа уже темно. Когда идешь из универс. в 3 часа, солнце уже закатилось почти.
72
Дополнительные предметы читаются не в первом, а в следующих курсах. Фрейтаг читает Квинтилиана и Виргилия Буколики; Варранд и читает английский язык, и должен читать его. Им времени достает, но у Фрейтага студентам первого курса не должно бывать, а Варранд читает первому курсу только одну лекцию.
Когда инспектор тотчас по принятии в студенты объявил, чтобы поскорее вносили деньги и доставляли акты, кто не доставил, я спросил у него, ему или другому кому должно подать свидетельство? Он сказал, что казначею, бухгалтеру или синдику, теперь уже не помню; я отнес, отдал, спросил, когда синдик (кажется, что синдик) прочитал, по форме ли оно написано, он сказал, что по форме и годится, только и всего. Я пошел и взял квитанцию от бухгалтера.
Филиппов идет по филологическому фак., теперь он во 2 курсе. Между прочими титулами его должно упомянуть, что он сотрудник «Музыкальной пчелы». Мать его (отец умер) начальницею Института глухонемых девиц.
Малов идет по юридическому или камеральному ф., не знаю хорошенько.
В понедельник мы были у Ив. Григ. Виноградова. Он и брат его вам кланяются.
Мундир куплю или закажу на-днях.
В университете, между прочим, по воскресеньям музыкальные вечера. За вход в продолжение всей зимы, кажется, 3 р. сер., а танцовальные вечера уже не знаю и в какой день. Уморительно, я думаю. И за кавалера и за даму все студенты. Танцовали прошлый раз в 20 пар.
Скоро надеемся начатия невских каникул.
Александр Феодорович вам кланяется.
Свидетельствую свое глубочайшее почтение Феодору Степановичу, крестному своему папеньке, Алексею Тимофеевичу, Анне Ивановне, Матвею Ивановичу и Александре Павловне, Василию Дмитриевичу и Марье Феодоровне.
Сделайте милость, милый папенька, напишите, оставлен или нет план отдать Сашу на казенное?
Целую у бабеньки ручку и желаю им здоровья.
Целую Вашу, милая маменька, и Вашу, милый папенька, ручку.
Прощайте до следующей почты. Сын Ваш Николай.
2 ноября 1846 г.
P. S. О распоряжении министра на счет филологов постараюсь разузнать покороче. Что сам Уваров отличный филолог, это известно: сочинения его издал Саси. Это одно уже говорит о их достоинстве.
Милые мои папенька и маменька! С нынешнею почтою посылаю письмо к его преосвященству. Вот оно:
73
Преосвященнейший владыко!
Милостивейший архипастырь и отец.
Родитель мой передал мне архипастырское благословение Вашего преосв.: с благоговением принимаю его, убежденный и верою, и самым уже опытом в его высокой силе: я верю и знаю, что с ним пройду я все трудности, мне предстоящие, преодолею все препятствия и избегну всех опасностей, лежащих на пути моем, и с радостью пользуюсь этим случаем, чтобы принести мою живейшую благодарность В. пр-у за те милости, которыми В. пр-во благоволили осыпать меня.
Этот новый знак Вашего архипастырского внимания ко мне,
В. п-во, еще более усилит во мне ревность сделаться достойным этого, столь лестного и ободрительного для меня внимания.
Прося молитв В. п-а, имею счастье быть В. п-а
мил. арх и отца
Нижайший сын Н. Ч.
С.-Петербург, 2 ноября 1846 г.
38
РОДНЫМ
8 ноября [1846 г.], пятница, 9 часов вечера.
Милые мои папенька и маменька! Я, слава богу, жив и здоров.
Письма вашего еще нет.
Ныне был я у Александра Петровича Железнова. Кажется, что это знакомство будет для меня приятно и даже полезно. В следующее воскресенье он хотел представить меня своему дядюшке. Только живет он довольно далеко.
Новость, кажется, только одна: во вторник пошел было сильный лед, мосты развели, поэтому лекции прекратились было. Но потом погода стала теплее, лед растаял, и мосты ныне после обеда навели опять. Прогулявши четыре дня, завтра опять отправляемся в университет.
Ныне же был у Прасковьи Алексеевны и Василия Степановича, Вас. Ст. был еще дома. Ничего, хороши и ласковы. Кланяются вам.
Теперь о материальностях. Завтра думаем заказать мундир.
У того, который хотели купить, воротник бальный, т. е. вышит не просто гладким золотом, а с блестками. Конечно, можно являться в таких и в унив. и везде, а не на одних балах, но это будет все уже как-то против формы, хоть это и дозволяют.
Вчера сапожник принес сапоги с калошами: все стоит 8 рубл. сер.
Едва ли не переменим квартиру, потому что соседняя, которая отделяется только переборкою, теперь осталась пуста на всю зиму, и поэтому очень должно опасаться, что у нас будет холодно, тем более, что Аллезы слишком скупятся на дрова. Пока жила кухми-
74
стерша, у которой всегда было страшно жарко, то и у нас было чудесно, но теперь она сошла, и квартира ее осталась пуста.
Кланяюсь Феодору Степановичу, Алексею Тимофеевичу, Матвею Ивановичу и Александре Павловне и Анне Ивановне.
Целую ручку у бабеньки и желаю им здоровья.
Прощайте пока, милые папенька и маменька.
Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
P. S. Оставляю пустое место, потому что, может быть, получу до 10 часов завтрашнего утра Ваше письмо.
Я со вчерашнего дня удивительно весел.
Александр Феодорович Вам кланяется.
Я кланяюсь Петру Феодоровичу.
9 н[оября], 10 час. утра.
Милый папенька и милая маменька.
Сейчас получено Ваше письмо от 29 окт[ября].
Милый папенька! Что же Вы не написали о постах: ведь я не шутя наизуст не знаю, а справиться в университете, по обилию богословских книг, негде, кажется.
Прощайте, милый папенька и маменька.
Целую ручки Ваши и бабенькину. Сын Ваш Николай.
P. S. Во вторник еще справлюсь об Алекс. Ильинишне.
Эх, Саша, — aut cadat aether значит: или пусть падет небо, горние страны, жилище богов, а не воздух.
Впрочем, остальное ты перевел прекрасно. Благодарю тебя. Занимайся, пожалуйста, новыми языками и катанием на салазках или, если можно, то еще лучше на дровнях.
Прощай. Целую тебя. Брат твой Николай Ч.
39
РОДНЫМ
16 ноября 1846 г., 8 час. утра.
Милый папенька! Дожидался все Вашего письма, но пока еще не принесли. В таком случае у меня такая метода: в 101̸4 отправляюсь в университет с незапечатанным письмом, сижу там вторую лекцию, по окончании осведомляюсь, нет ли мне письма или повестки; если есть, то сейчас получаю, дописываю что нужно и запечатываю в университете письмо. Отношу в почтамт и возвращаюсь на 4 лекцию. А если я получу письмо до 10 часов утра субботы, то отношу письмо на почту, идя на 2 лекцию.
В Вашем письме от 29 октября Вы спрашиваете, милый папенька, как следит за житьем студентов начальство?
Кажется, что оно только наблюдает, чтобы не ходили не в форме — без трехугольной шляпы и, если не в шинели — то и без шпаги и не застегнувшись на все пуговицы. В шинели не видно.
75
при шпаге или без шпаги, застегнувшись на нижние пуговицы, поэтому все равно.
Что касается до жизни домашней, то не заметно и не слышно, чтобы в это вмешивались. Адрес лежит у швейцара и только, кажется. Едва ли даже осведомляются об этом даже и не формально. Впрочем, не знаю.
У нас в квартире не слишком много курится. Поэтому ничего.
О книгах и лексиконах решительно не думайте. Если что меня утешает здесь, так это, что свободно пользоваться университетскою библиотекою.
Нева все еще льстит так называемыми «невскими» каникулами: со вторника до воскресенья прошлой недели не было лекций, не было и в субботу, хоть я и думал, потому что на ночь мост разводили и к 2 часам он не был наведен. Теперь всю неделю опять наведен.
Квартира пока тепла и суха. Если чуть будет холодно или сыро, сойдем; об этом не беспокойтесь.
Александр Феодорович Вам кланяется, милый папенька.
Я свидетельствую свое глубочайшее почтение крестному своему папеньке, Анне Ивановне и Алексею Тимофеевичу.
Прощайте, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш
Николай.
Милая маменька! Вот как я провожу свой день. Встаю в 7 или 7½ часов. До 83/4 часов пью чай и прочее, что бывало делал дома, когда ходил в семинарию, до того времени, как пора итти туда. Но в субботу первой лекции нет, поэтому я, оставаясь дома до 10 часов, пишу вам письма.
До 3 часов всегда в университете, в 3 часа 20 или 25 минут прихожу домой.
В 3½ обедаем. За столом проходит время до 4 часов.
Если бывают гости или я в гостях (это обыкновенно, если бывает, то от 5½ или 6 часов до 9½ или 10 или даже 10½), то, разумеется, как проходит вечер.
Если же я дома и у нас нет никого — читаю, говорим с Ал. Феод. о вас и Вязовских, о своих (особенно его) планах, о Левине, о прежнем своем (особенно опять его) житье, иногда об университете, знакомых и литературе, довольно часто о его диссертации, которую он пишет на кандидата, довольно часто о чем-нибудь, знаете нельзя же, ученые люди, ученом этаком.
Чай пьем вечером как вздумается. Разговариваем обыкновенно за чаем и обедом.
Ложуся спать в 11, 11½ часов. Раньше или позже этого редко. Остальное время вечером — часа 4, 5 обыкновенно, иногда меньше, иногда больше, читаю. Пишу очень мало дома. Кроме писем, почти ничего.
Воскресенья, если бываю у ранней обедни, то от 9 до 12 всегда дома. Читаю или разговариваем. Если у поздней, то от 10½ до
76
12 в церкви. В 12 часов по большей части отправляюсь с визитом, в 1½ прихожу домой, в 2½ обедаем. Вечер как обыкновенно.
В четверг вечером были мы у Павла Осиповича Орлова, сына одного пензенского протоиерея. Он был старшим учителем в пензенской гимназии, а теперь года полтора назад приехал сюда и служит по таможенному департаменту. Это один из лучших департаментов относительно службы, особенно жалованья. Брат Павла Осип, служит в Саратове.
О деле Ал. Ильинишны не справлялся, между прочим, потому, что дурная погода. В следующем письме напишу, что узнаю.
Целую ручку у бабеньки и желаю им здоровья.
Прощайте, милая маменька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш
Николай.
Ал. Фед. Вам кланяется, милая маменька.
16 н[оября 1846 г.], час пополудни.
Милые папенька и маменька!
Умоляю Вас отсоветовать дядиньке и тетиньке отдавать Сашу на казенное содержание.
Вы, папенька, может быть, отчасти знаете, какие вещи делаются в гимназических пансионах? Я не знаю, как писать Вам это. Помните, Вы мне говорили в предостережение как-то, отчего умер сын Арнольди? Такой молодой, красавец, офицер, только что вышедши из корпуса? Я не знаю, как и писать Вам, и некогда уже совершенно.
Но все-таки я пишу.
Я знаю, что для Вас обременительно содержать... и меня, дурака дуреня. Но я надеюсь, твердо надеюсь, что много, если год я буду требовать от Вас содержания.
Вам, папенька, я помню, не хотелось этого, чтобы я сам доставал деньги. Пока, к моему сожалению, и не было еще случая. Но я надеюсь. О, как дорого здесь жить!
Это я к тому говорю, что Вы должны располагать так, что от этого отяготительного для Вас без сомнения содержания меня в этом Петербурге не ныне, завтра, повторяю Вам через год непременно, Вы будете освобождены. Может быть, я пишу не так, как должно. Вы простите меня, обдумывать некогда, да и нельзя обдумывать, когда должно говорить откровенно, потому что дело идет об участи Саши.
Папенька! Вы отчасти видели по опыту, каков казенный хлеб? Чего стоит для нравственности жить на казенном? Но поверьте, что бурса и грязные ее комнаты и дурная провонялая пища — рай в сравнении с светскими казенноучебными заведениями!
Но не говоря уже об этом, сколько будет для Саши потеряно в будущем, если он поступит на казенное! Папенька, Вы это знаете.
Сделайте милость, не советуйте отдавать Сашу: чрез это можно погубить всю его будущность, и карьеру и сердце его.
77
Сделайте милость.
Я не хотел говорить Вам, что я не поехал бы сюда, если б не уверен был, что скоро буду в состоянии не обременять Вас ужасными расходами, которые нужны здесь. Вы хотели же содержать меня здесь 4 года; рассчитывайте теперь, что Вы будете содержать только год, если не меньше, а остальное употребите на Сашиньку! Сделайте милость. Много ли ему надобно, всего в 2½ года 500, 600 рублей, которые мне нужны на 8 месяцев. Сделайте милость! Милый папенька, милая маменька! Сделайте милость. Сын Ваш Николай.
40
Н. Д. и А. Е. ПЫПИНЫМ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…(не) отдавайте Сашиньку.
Вы заботитесь главное, как будет в университете жить он? Во-первых, в университете много средств самому содержаться; во-вторых, я уверен, что мое положение скоро переменится, так что...
Сделайте милость, не увлекайтесь совестливостью, опасением, что как в университете жить будет ему ничем: да легко уже если так, то и в универс. поступить на казенное — меня приняли бы теперь же, его и подавно примут всегда, хоть бы он и не был на казенном в гимназии.
Если уже нет, не примут на казенное и не будет возможности жить ему в унив., будучи на своем, то всегда все-таки открыт путь в Педагогический институт, из которого Лавровский: тогда он будет [на] три года старше, все не так опасно будет для него.
Сделайте милость, прошу Вас, не отдавайте его на казенное.
Боюсь, ужасно боюсь, что это письмо придет поздно, или Вы не послушаетесь меня, скажете: глупый мальчишка толкует, что его слушать. Потому-то именно, что я глупый мальчишка, я и вижу, что такое […..]ек в казенных заведениях, а Вам можно ли это узнать? Кто будет с Вами откровенно говорить об этом? Феодор Степанович, я уверен, не знает десятой доли того, что там делается, инспектор тоже, может быть, а если и знает, то не скажет.
Умоляю Вас, не делайте этого, а если уже сделано, да можно еще поправить как-нибудь, поправьте.
Сделайте милость.
Искренно любящий Вас племянник Baш
Николай Чернышевский.
СПБ. 16 ноября 1846 г.
Сделайте милость, не отдавайте. Поверьте, что я в этом отношении не так безрассуден, как Вам кажется, может быть.
Прощайте. Прошу Вас.
78
41
Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
СПБ. 21 ноября 1846 г.
Милый папенька! Воскресенье 16 числа был я у брата Петра Григорьевича Железнова. Я очень благодарен Петру Григорьевичу за это знакомство и вообще за его участие во мне. Они (т. е. брат Петра Григорьевича и его семейство) приняли меня очень ласково, просили бывать у них. Я обедал у них в этот же день. Чувствую, что это знакомство будет для меня очень полезно. По тону нельзя не видеть, что этот дом принадлежит к числу лучших. Они, как имеющие приезд ко двору, носили в это время траур по случаю смерти дочери великого князя.
Да, это знакомство для меня чрезвычайно лестно и полезно.
В четверг я был у Петра Ивановича. Он Вам кланяется.
Прощайте, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш
Николай Ч.
42
РОДНЫМ
СПБ. 22 ноября 1846 г.
Милые мои папенька и маменька!
Вашего письма еще не получил.
Мундир и брюки заказаны; и то и другое стоят 170 рубл. Мундир 121 р., сукно по 22 р. Он будет готов к 1 декабря.
Мы к 3 числу сменим квартиру: эта довольно холодна.
Воскресенья был у Железновых. Ничего, хорошо. Живут они, кажется, богато.
Третьего дня, в четверг, был у Петра Ивановича. Он все рассказывал о том, как жил он в Саратове. Он Вам кланяется.
Я, слава богу, здоров.
Честь имею поздравить Вас с именинницею.
Целую ручки у Вас и у бабоньки, которым желаю здоровья.
Когда Вы получите это письмо, мне до приезда в Саратов останется только 6 месяцев.
Свидетельствую свое глубочайшее почтение Феодору Степановичу, Анне Ивановне, Матфею Ивановичу и Александре Павловне и Алексею Тимофеевичу.
Пишу так коротко потому, что некогда. В следующем письме напишу все что надобно.
Вчера и ныне у меня чрезвычайно много дела.
Прощайте, милые маменька и папенька. Сын Ваш Николай.
Милые мои сестрицы и братцы! Поздравляю вас с именинницею. Желаю ей здоровья и счастья. Извините, что пишу так мало: решительно некогда.
Целую Вас. Брат Ваш Николай Ч.
79
43
РОДНЫМ
СПБ. 28 ноября 1846 г.
Пятница, 8 часов вечера.
Милые мои папенька и маменька! До сих пор еще не получил Вашего письма. Отвечаю на прежние. (Предыдущее было так коротко потому, что в пятницу, субботу и воскресенье даже было у меня очень много дела, впрочем произвольного.)
Вы, милый папенька, и особенно Вы, милая маменька моя, едва ли представите себе, в каком я был беспокойстве ту неделю, которая прошла между получением Вашего письма, в котором Вы пишете о предложении директора принять Сашеньку на казенное, и получением того, в котором пишете Вы, что раздумали.
Милый папенька и милая маменька! Если бы Вы знали, как я рад этому и как благодарен Вам за это! Пансионы казенные — ужас что такое.
Ну, слава богу, что это так кончилось!
Носков теплых у меня довольно. Что ноги у меня всегда сухи, я удостоверяю вас тем, что у меня не распухали еще десны.
К Черепановым я пойду не ранее того, как готов будет мундир.
У Петра Григорьевичева брата был я в прошлое воскресенье, 16 или 17 числа, теперь уже и позабыл. Что писать о приеме, я не знаю. Разумеется, ласков; я обедал у них, потому что Александр Петрович Железнов повез меня к обеду к ним. Они живут открыто. Быть не в мундире было очень, очень неловко. У них обедало много посторонних, стариков, вероятно сослуживцев Петра Григ. (он тайный советник). Представивши меня брату Петра Григ. и супруге его, Ал. Петр. повел меня в комнаты к сыновьям брата П. Г. Старший из них живописец, постоянно посещает Академию художеств. В его комнате сидели до обеда. Говорили, разумеется, о живописи, несколько слов о том, как понравился мне Петербург, и тому подобном. За обедом я сказал несколько слов с супругою брата П. Г. и каким-то господином в партикулярном платье, кажется, своим человеком у них; они говорили о процессе г-жи Лафарж. Вскоре после обеда я ушел.
Это, кажется, очень хорошо. Но мне более всех понравился сын П. Григ., Александр Петрович. Он, кажется, такой добрый.
Потом в четверг, 21 или 22, был я [у] Петра Ивановича Промптова. Ему, кажется, было приятно видеть меня у себя. Он все говорил о прежнем своем житье-бытье в Саратове и у Вас. Вспоминал семинарские годы и товарищей своих по семинарии. Он Вам кланяется.
У Стобеуса я раз видел Куткина сына. Он, кажется, не приглашал меня к себе, или, если и приглашал, то слишком мимохо-
80
дом. Я не знаю, к ним, если самому знакомиться вновь, кажется, легко попасть в неприятное покровительственное отношение, хотя они и ни в чем не могут быть полезны. Разве Евгений Алексеевич писал Вам. Это дело другое.
Что Евгений Алексеевич писал о Благосветлове, правда. Только поступить в университет он, кажется, не захотел по другим причинам.
Реестр книгам пришлю в следующем письме.
«Христианское чтение» очень можно достать. Я в скором времени надеюсь переслать его.
В то же воскресенье, в которое был я у брата П. Григ. Железнова, был я и у Козьмы Григорьевича, утром. Когда я заходил в департамент к Петру Ивановичу Промптову по делу Ал. Ильинишны, он сказал мне, что К. Григ. желает, чтобы я был у него.
Петр Иванович зашел за мною, отправились к Козьме Григ. Он сидел в кабинете, за делами. Я пробыл минут 20 или полчаса. Он говорил о семинариях, новом устройстве их и вероятных следствиях его, о Вас, милый папенька, о деле Дубовского и Алексея Андреевича Росницкого. Был ласков. Говорил, чтобы я бывал у него.
Письмо Мавроди не отдано. Я не знаю, кажется, так неловко знакомиться, тем более, что у него сын в университете.
Если что хорошо в здешнем университете, так это то, что дают из библиотеки книги домой. Если что не хорошо, так это то, что не дают на вакационное время, и дают с известными произвольными ограничениями. Напр., не странно ли, что не дают книг в лист? Но это ничего, а дурно, что должно возвращать на рождество и вакацию.
О том, тепло ли мне, не нужно ли теплых сапог и проч., сделайте милость не беспокойтесь; я знаю, что это важнее всего, и при малейшей надобности куплю и сделаю все, что нужно.
Здесь только один день было 17 градусов холода, два дня по 13 градусов, один раз 5 и кончено. Прочее все было градус, два тепла или холода. Нынешняя осень была очень хороша. Днем 10 только шел дождь (т. е. в то время, когда мне нужно было выходить со двора).
Оставляю место, потому что надеюсь получить Ваше письмо до отправления своего и приписать еще что нужно будет тогда.
Кланяюсь Матвею Ивановичу, Анне Ивановне, Александре Павловне, Алексею Тимофеевичу.
Целую ручку у своего крестного папеньки, у бабеньки и у Вас, милые папенька и маменька.
Александр Феодорович всегда велит писать поклон, но я редко исполняю это. Кланяюсь Петру Феодоровичу.
Прощайте, милые маменька и папенька. Сын Ваш Николай.
Сейчас получил Ваше письмо. Писать некогда. У нас не холодно, квартиру нашли лучше. Адрес в следующую почту.
6 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
81
Суббота. 11 часов утра. — Куторги не было; всю неделю уже его нет, потому что он занимается серьезным сочинением, кажется, историею Афин, и теперь она у него приближается к концу. Поэтому я воротился домой и пишу Вам.
Вы слишком мало надеетесь на меня, милая маменька и милый папенька. Все боитесь, чтобы я не простудил ноги. Не беспокойтесь, сделайте милость. Калоши позволяется, конечно, носить, только неловко ходить в трехугольной шляпе с зонтиком. Вы смешали это, милая маменька.
Квартиру переменяем, может быть, вместе с Аллезами, может быть, и расстанемся с ними. Пока наша квартира настоящая тепла была еще. Но за будущее нельзя ручаться, когда настанут холода, и поэтому мы сходим, так же как и Аллезы сходят.
Сделайте милость, не беспокойтесь и о квартире. Мы хорошо понимаем, что это значит. Не беспокойтесь, сделайте милость, не выберем такую, где не хороши хозяева. Если не вместе с Аллезами наймем другую квартиру, то, вероятно, наймем одну из двух вот следующих — 1) в Большой Мещанской, только что перейдя Каменный мост, у одного полковника, кажется теперь переименованного в коллежские советники, две комнаты, отделенные друг от друга третьею, проходною, просят 65 р., отдадут за 15 р. сер. Сам полковник, потом его супруга, кажется не русская. Или 2) по Гороховой улице, две комнаты, хорошенькие, с паркетными полами, ход с улицы, 60 р. просят. Хозяйка немка, сын ее служит где-то. Есть еще на Адмиралтейской площади, но одна комната, поэтому довольно неудобно. Сделайте милость, о квартире не беспокойтесь. Кто же велит стать на дурную квартиру.
Милый папенька! На вопросы Ваши о Железновых пишу в этом письме. Посылаю особенную записку, как Вы приказывали. О прочих напишу в следующем письме.
Теперь только о письме к Мавроди. Милый папенька, я повторяю Вам, что думаю, что заводить знакомства таким образом дело довольно щекотливое и неудобное. Опять тогда были совсем другие отношения. Тогда у меня не было здесь никого знакомых. А теперь есть уже. Если приедет Терещенко и введет к ним в дом, это дело другое. И то бог знает как, тем более, что сын Мавроди в университете. С ним, о[днако], я еще не встречался.
О веселости моей Вы спрашиваете? Причины, разумеется, пустые, вроде того, что я думал, что Нева будет долго итти, мне хотелось на это время взять одну книгу из библиотеки (Историю Гогенштауфенов, Раумера), я думал, что не успею, но успел взять. Потом читал Ваши письма, думал о том, что недолго остается до того, как я увижусь с Вами, и тому подобное.
Да, опять о квартире. Потому что Вы пишете в двух местах своего письма о ней, и я отвечаю, читая его. Если мы не вместе с Аллезами будем жить, то, конечно, эти новые хозяева будут также хороши.
82
Я не знаю, Вы слишком много беспокоитесь обо всем; если Вы так мало доверяете моему благоразумию, то как же Вы решились оставить меня в Петербурге?
Милая маменька! Сделайте милость, не беспокойтесь о квартире. Будьте уверены, что найдем хорошую, не хуже этой. Вы не знаете, что на дурной стать почти нельзя, хоть и хотел бы, потому что ходят товарищи и посторонние люди. Засмеют. Поэтому даже дурные люди по большей части стоят на хороших квартирах. Милая маменька! Всего только 6, а когда Вы получите это письмо, то только 5½ месяцев — и я буду в Саратове.
Об Егорушкином деле ныне узнаем, но уже после обеда, поэтому должно отложить до следующего письма. Об Александры Ильинишнином также.
Кланяюсь Василию Дмитриевичу и Марье Федоровне; кланяюсь Авдотье Петровне и благодарю ее за то, что она так помнит обо мне. Кланяюсь Кондратию Герасимовичу.
Якову Феодоровичу также кланяюсь. В следующем письме напишу ему, а теперь уже нельзя. Прощайте еще раз, милая маменька и милый папенька. Умоляю Вас быть спокойными и целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
44
РОДНЫМ
6 декабря 1846 г.
Милый папенька и милая маменька! Вот первый день моего ангела, который провожу я вне круга моего семейства.
Разумеется, мне было сначала грустно, очень грустно, до самой обедни. У обедни (поздней) я был в Казанском соборе. Пришедши от обедни, я встречаю у себя (Алекс. Феод. был дома) Гаврила Григорьевича Виноградова и Михайлова, моего здешнего нового знакомца. Это обрадовало меня. Потом пришел еще один из моих новых товарищей, г. Корелкин, еще ни разу не бывший у меня. Ему еще больше обрадовался. Михайлов (вольно-слушающий здешнего университета) мне очень нравится: чрезвычайно умная голова. Из него выйдет человек очень замечательный.
После обеда был Иван Васильевич Писарев, товарищ Алексея Тимофеевича, он просидел со мною до 8 часов, Алекс. Феод. был у своего именинника, Левина. Я не знаю, на Ивана Васильевича я смотрю почти как на родного. Он такой добрый и простосердечный человек.
Таким образом после обедни я стал весел. Я был вместе с людьми, которые до известной степени заставляли меня забывать, что я не между родных.
И я провел этот день совсем не так грустно, как ожидал. Напротив, я был весел. Ну, слава богу.
83
Мы переходим завтра утром на новую квартиру. В следующем письме опишу ее. Теперь еще слишком рано, не узнавши ее на деле. 2 комнаты, совершенно отдельных, с особенным ходом, хорошие комнаты и, кажется, теплые. 15 р. сер. в месяц. Хозяйка старуха-немка. Старик муж ее что-то незаметен. Верно, не слишком деятелен.
Письма Вашего еще не получал, потому оставляю пустое место, чтобы в случае, если получу, было где отвечать.
Вот справка о Егорушкином деле:
«Сыну г-жи Пыпиной и подпоручика Котляревского, Егору Котляревскому, назначен по статье 715 пожизненный пенсион по 28 р. 59 к. сер. в год, и ведомость о пенсиях представлена 23 сего ноября в Комитет гг. министров».
В субботу был я вечером у сына Райковского и потом у Олимпа Яковлевича. Он Вам кланяется. Ал. Феод. тоже. Виноградов тоже.
Свидетельствую свое глубочайшее почтение своему крестному папеньке, Анне Ивановне, Матвею Ивановичу и Александре Павловне, Кондратию Герасимовичу, Василию Дмитриевичу и Марье Феодоровне.
Целую ручку у бабеньки и у Вас, мои милые маменька и папенька. Прощайте пока. Сын Ваш, именинник Николай.
Nicolaus Alexandra fratri.
Excuses me ipse, rogo, aliosque fratres et sorores excusare rogas. Temporis inopia coactus sum hanc longissimam epistolam scribere. Vale*.
Извини, милая сестрица, некогда писать теперь. Завтра, если успею, припишу. Целую тебя и принимаю от всех вас поздравления с ангелом.
[7 декабря 1846 г.]
Сейчас получил Ваше письмо и 10 р. сер. Благодарю Вас, милые папенька и маменька. Мы переходим. Адресуйте в университет, пока напишу адрес.
Александр Феод. не успел написать по хлопотам при переходе. Окончательно утвержден Петр Феод. учителем? Ал. Феод. хочется писать прямо в Вязовку; можно ли писать на станцию Синодскую Терешку на имя родственника тамошнего дьякона, и если можно, то как писать? В Сар. губернию, в такой-то уезд, на такую-то станцию, — так или нет?
Поздравляю с новорожденным.
[На отдельном листке приложен перечень книг.]
1. Библия 8°°.
2. Катехизис Филарета, гражд. печати.
3. Два татарских завета.
4. Философия Баумейстера.
5. Психология Новицкого.
6. Всеобщая история Беккера.
7. История философии Гавриила.
8. 2 и 3 части Истории Кайданова.
9. Греческий лексикон Гедерика.
10. Греческая грамматика Кюнера.
11. Familiarium colloquiorum libellus Graece et Latine.
12. Российско-латинские разговоры S.S.
13. ![]() Виргилий
Виргилий
Старинные издания с примечаниями
14. Гораций
15. Цезарь.
16. Цицерон (2 тома).
17. Квинт Курций.
18. Selectae е[х] profanis scriptoribus historiae.
19. Meditatiunculae subitaneae.
20. Английская грамматика Садлера.
21. Английский лексикон Тиббинса.
22. Английская хрестоматия Энфильда.
23. Помощник родителям. Повести для детей, Эджворт (на английском).
24. ![]() Персидская хрестоматия, III часть
Персидская хрестоматия, III часть
25. Арабская хрестоматия Болдырева
26. Приключения одного невольника
27. Алгебра Себржинского.
28. Геометрия Райковского.
29. Traité de sténographie par Frosselin.
30. Программа приемного экзамена в СПБ. университет.
31. Смерть Авеля. Поэта Геснера (на французском).
32. Суд божий над Европою (на немецком).
1, 20, 21, 22, 23, 29, — куплены в Петербурге.
45
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
СПБ., 13 дек[абря] 1846 г.
Милый папенька! Честь имею поздравить Вас с именинницею.
В прошлую субботу получил я письмо от Гавриила Степановича Воскресенского. Мне это было очень, очень приятно. На святки напишу ответ. В письме нет ничего особенного. Он рассказывает о своих делах.
Райковский (студент) был собственно у Алекс. Феод., с которым он и прежде был хорошо знаком и который довольно часто бывает у них. Я был у него недавно, недели две тому назад.
Александр Феодорович пишет: «О коллегиальном управлении в России в XIX столетии». На степень кандидата нужно непременно написать рассуждение. От обязанности представлять особое рассуждение на степень кандидата освобождаются только те, которые получили за прежнее рассуждение золотую медаль. На медаль назначается ежегодно по теме для рассуждения по каждому факультету; пишут только желающие. Обыкновенно три, четыре человека по юридическому и камер. факультетам, по другим два, один даже, потому что другие факультеты не так много-
85
численны. Впрочем, медали могут и не дать никому; но это кажется редко или вовсе не бывает.
Темы для рассуждений на степени избирают сами и подают профессору, по предмету которого написано рассуждение. Ал. Феод. подает П. Д. Калмыкову, который читает между прочим «Государственные законы Российской] империи», где излагается и история верховной власти, правительственных мест и сословий.
Слушать лекции других факультетов можно в свободные часы. Но читать самому гораздо полезнее, нежели слушать лекции; тем более, что всех лекций какого-нибудь профессора из другого факультета слушать нельзя, потому что некоторые из них будут приходиться в часы, занятые своими лекциями, а отрывками слушать довольно бесполезно.
Профессора, которых стоит слушать, кроме филологического факультета, Неволин, Ленц, С. Куторга, профессора восточного факультета. Особенно много бывает посторонних слушателей у С. Куторги: всегда не менее 100 человек.
Мне кажется, что лекции должно предпочитать книгам только тогда, когда их читает человек, подобный Неволину, но таких людей немного. Разве Фрейтаг и Грефе только. Но их еще я буду слушать.
Лекции прочих профессоров вообще хороши для тех, у кого нет охоты или уменья читать.
Мне вообще кажется этот метод читать лекции, которые должны писать слушатели, хуже метода английских университетов, где профессор издает книгу и назначает другие для изучения, а сам читает 20, 30, много 50 часов в год предмет, да и то главным образом литературу и библиографию наук. Это несравненно основательнее.
Адрес нашей квартиры:
В Малой Садовой, в доме Сутугина, кв. № 11.
Прощайте, милый папенька. Адресуйте на эту квартиру.
Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.
12 дек. 1846 г.
Милая маменька! Честь имею поздравить Вас со днем Вашего ангела.
Мы перешли на новую квартиру, воскресенья в 4 часа вечера. Две комнаты, порядочная мебель, ничего. Ход довольно хорош. Хозяйка наша кухмистерша, старуха-немка, кажется, очень добрая женщина, потому что все делает, что нужно для нас. За квартиру платим мы 14 р. сер., довольно дешево. Квартира пока очень тепла. Главное хорошо то, что нет шуму. Ход особенный, с одной стороны стена, с другой закладенная дверь, поэтому чрезвычайно тихо: никогда никакого шороха. А это очень важно. Одна из самых важных невыгод жить у Аллезов было именно то, что до-
86
вольно много шуму вечером и утром, когда сам Аллез воротится с уроков и пока не уходит еще. Беспрестанно бывало толкует с сыном, поет, учится по-русски у сына.
Теперь мы живем одни, это чрезвычайно большая выгода перед прежнею квартирою.
В среду получил я письмо от тетиньки и дядиньки.
Погода в Петербурге ничего, хорошая. Вчера и ныне так тепло, что тает. Снегу немного. Здесь, кажется, и не бывает его столько, как в Саратове.
Милая маменька! Ведь Вы писали, что Феодор Иванович был в Саратове, а Александр Феодорович до сих пор не получал письма от него — это странно; прежде, когда Феодор Иванович бывал в Саратове, всегда писал. Не знаете ли Вы, отчего же теперь он не писал?
Я, слава богу, здоров.
Кланяюсь своему крестному папеньке, Алексею Тимофеевичу, Анне Ивановне, Кондратию Герасимовичу, Василию Димитриевичу, Марье Феодоровне, Матвею Ивановичу, Александре Павловне, Николаю Ивановичу, Авдотье Петровне, Якову Феодоровичу.
Желаю бабеньке здоровья. Целую у них и у Вас, милая маменька, ручку. Сын Ваш Николай.
Суббота. 12 часов утра, 14 дек. 1846.
Милая маменька и милый папенька! Получил Ваше письмо от 3 декабря.
Я не знаю, что более писать о квартире. Прежде я не писал, вместе ли с Аллезами переходим мы или нет, потому что сам не знал, не знал хорошенько и куда перейдем.
Настоящая квартира гораздо лучше той, которую имели мы у Аллеза, потому что нет решительно шума, живем совершенно одни, ход особый.
Сама кухмистерша живет в 3 этаже, а квартиры, которые отдает она, во 2 этаже. Очень, очень спокойно.
Внизу под нами булочная, вещь немаловажная; квартира наша очень тепла.
С Аллезами расстались мы потому, что не нашел он удобной квартиры, чтобы нам оставаться вместе. Мы после того, как перешли, были раз у него, в понедельник вечером, кажется.
Поздравляю Вас, милая маменька, еще раз с днем Вашего ангела, а Вас, милый папенька, с именинницей.
Желаю Вам быть здоровыми, веселыми и благополучными.
Прощайте. Целую ручки у Вас. Сын Ваш Николай.
87
46
Г. И. И Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
20 декабря 1846 г. СПБ.
Милый папенька и милая маменька! Честь имею поздравить вас с Новым годом. Мы теперь живем на новой квартире, как я уже писал Вам. С прежнею нет никакого сравнения, гораздо лучше.
Мы квартируем у кухмистерши; она сама живет в третьем этаже, а во втором снимает комнаты для отдачи внаймы постояльцам вроде нас, или даже и не нас, потому что, между прочим, живет у ней какой-то старый военный, семейный человек. Здесь кухмистерши почти всегда имеют нескольких постояльцев, которые берут у них стол.
Наша квартира состоит из двух комнат, с отдельным ходом. Они совершенно отделены от прочих комнат: единственная дверь, ведшая в другие комнаты, закладена, так что наши комнаты составляют, как здесь говорится, отдельную квартиру.
Прислуживает нам человек, который вместе со своею матерью живет у кухмистерши в услужении. В третий этаж проведен из наших комнат шнурок и колокольчик, в третий этаж, где живет этот человек. Кроме его, никого из всего дома мы не видим, кроме самой кухмистерши, когда хотим прямо ей отдать деньги, но по большей части это мы делаем также чрез человека.
Таким образом мы живем ровно никого не видя и не слыша; это чрезвычайно важная выгода и преимущество пред прежнею квартирою у Аллезов. Здесь мы живем, совершенно не имея ни к кому никаких отношений. О шуме нечего и говорить: откуда и быть ему? А у Аллезов, разумеется, было все слышно, что они говорят между собой; это, разумеется, всегда ужасно надоедало и часто мешало.
Квартира наша очень тепла. Да ей нельзя и не быть теплой, потому что под нами, в первом этаже, булочная, где, разумеется, всегда натоплено до последней возможности, до того, что даже у нас пол так же тепел, как, например, поверхность стола, именно оттого, что снизу идет сквозь потолок тепло.
С одной стороны у нашей квартиры капитальная стена, с другой дверь, ведшая в соседнюю комнату, заложена, как я уже говорил. В этой комнате живет чиновник, кажется переводчик; мы его еще ни разу не видали в две недели, которые прожили на квартире. Из этого можете видеть, до какой степени мы уединены.
Одна из комнат величиною с зеленую комнату, где кивотка с бразами у нас в Саратове, другая побольше.
Платим мы 14 р. сер., Аллезам платили 15.
Мебель довольно хорошая.
88
Диван красного дерева, березовый комод, кушетка, березовый письменный стол, ломберный стол, маленький простой столик, полдюжины стульев, впрочем довольно плохих, зеркало в раме красного дерева, довольно большое.
Мебель гораздо лучше Аллезовой.
Кухмистерша, кажется, добрая старушка, потому что исполняет охотно наши желания.
Впрочем, какая бы она ни была, для нас это не слишком важно, потому что мы не имеем с нею ровно никаких сношений, кроме того, что отдаем или отсылаем деньги за квартиру и кушанье.
Кажется, довольно о квартире. Надеюсь, что Вы, милая маменька, теперь совершенно успокоитесь. Впрочем, не из чего было и беспокоиться. Конечно, довольно много хлопот с переменою квартиры, но беспокоиться совершенно не из чего.
Ныне был я у Олимпа Яковлевича. Воскресенья у Василия Степановича и Прасковьи Алексеевны. Все они Вам кланяются. Алек. Феод. также.
На рождество побываю у всех, разумеется, если успею взять мундир, который, правда, уже давно готов.
Книги, которые затеряны, надеюсь, скоро можно будет прислать Вам.
Теперешняя квартира чрезвычайно близко от Публичной библиотеки; вероятно, я на рождество буду бывать в ней.
Теща Александра Яковлевича Снежницкого приехала сюда, как я слышал от Олимпа Яковлевича.
На рождество думаю, между прочим, заниматься языками.
Честь имею поздравить с Новым годом милую бабиньку и пожелать им здоровья.
Поздравляю с Новым годом и кланяюсь своему крестному папеньке, Михаилу Ивановичу и Александре Феодоровне, Анне Ивановне, Николаю Ивановичу, Кондратию Герасимовичу, Якову Феодоровичу, Авдотье Петровне, Василию Димитриевичу и Марье Феодоровне, Алексею Тимофеевичу, Ивану Петровичу и Гордею Семеновичу (им и Гавриилу Степановичу (ему непременно) буду сам писать).
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Желаю Вам провести наступающий год счастливо, без огорчений.
Целую ручку у Вас и бабиньки. Сын Ваш Николай.
47
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
Воскресенье, 22 [декабря 1846 г.]
Милый папенька! Ныне в университете здешнем в 12 часов утpa двое бывших воспитанников Педагогического института защищали диссертации для получения степени магистра.
89
Первый защищал Зернин «Об отношении константинопольских патриархов к русской иерархии».
При этом защищении был и Александр Феодорович. Сначала предлагал возражения Райковский, потом Касторский, и с большим жаром; Устрялов говорил более в пользу Зернина. Прения продолжались часа полтора. По окончании их и объявлении всеми профессорами, читающими историю, и Райковским, что они считают его достойным степени магистра, Устрялов, не знаю, как декан ли факультета, или как профессор, занимающий кафедру русской истории, по которой Зернин хочет быть магистром, объявил ему, что он возводится в степень магистра.
Вслед за этим Алекс. Феод. ушел, поэтому о том, как защищаема была диссертация другим искавшим степени магистра, Яроцким, я пока ничего не могу сказать.
Вчера получил письмо Ваше и 30 р. сер., за которые покорно благодарю Вас, милый папенька. Но взять мундира на них я не могу, потому что этих денег мало. Поэтому, вероятно, кроме Колеровых, ни у кого ни на рождество, ни на Новый год я не буду, потому что в сюртуке быть в такое парадное время не годится. Да и вообще теперь мне не годится уже бывать в сюртуке (то есть вице-мундире), напр., ни у Стобеуса, ни у Репинского, ни, тем менее, у Железновых; в первые месяцы еще и так и сяк, потому что естественно предполагалось при этом, что мундира у меня еще не сшито по скорости времени, но и то уже было слишком неловко, а теперь этого уже не могут предполагать, и если я явлюсь не в мундире, то это должны причесть к невежливости моей.
С одной стороны, я рад, с другой стороны, браню себя за эти будущие святки. Я думал, что к рождеству должно возвращать взятые из универ. библиотеки книги и на рождество не позволят удерживать их дома. Выдаются книги обыкновенно по средам и пятницам. Но должно по крайней мере накануне записаться на книги, которые хочешь получить, чтобы их к тому дню сыскали и принесли из большой библиотеки в ту комнату, где читают и где находятся потребованные книги. Во вторник я слышу от недостоверных людей, что можно получить завтра книги на рождество. Не веря этому, я пошел и машинально записал «Историю правления (устройства) (Verfassung) церкви», одно из фундаментальных сочинений, так, наудачу. В среду узнаю, против ожидания, что книги точно выдаются на рождество. В отчаянии на свою глупость смотрю в книгу, в которой записывают требуемые книги, и вижу там, что против этой Истории Планка написано: «выдано». Таким образом я принужден удовлетвориться тем, что взял последние, которые еще не успел прочитать, части «Истории Гогенштауфенов», сочинения, уже прежде записанного мною. Тех книг, которые я взял бы на рождество, если бы знал вперед, взять было уже нельзя, потому что некогда было записывать: среда была последний день, в который выдавались книги.
90
Но все хорошо хоть то, что взял хотя «Историю Гогенштауфенов». Все лучше, чем, как я думал прежде, оставаться ни с чем.
Лекций не будет до 12 января.
На святки буду писать тетеньке и дяденьке, Гавриилу Степановичу Воскресенскому и своему крестному папеньке.
Прощайте пока, милый папенька.
А ведь это последнее письмо, которое в 1846 году я отправлю к Вам и первое, которое Вы получите от меня в 1847. Дай бог, чтобы он не принес для Вас ни одной неприятности, протек бы мирно и счастливо!
23 дек. 1846 г.
Милая маменька! Вы спрашиваете, замечает ли меня кто-нибудь из профессоров? Это здесь заметить гораздо труднее, нежели в другом каком-нибудь заведении учебном, потому что профессорам слишком мало поводов и случаев показать свое расположение к студентам. Куторга, например, никогда ничего не заговаривает ни с кем. Никитенко также: прямо всходит на кафедру, начинает читать, читает, по окончании лекции уходит, и кончено. Фишер также. И большею частью до экзамена они ничего не знают о слушателях своих, кроме того разве, постоянно или не постоянно бываешь у них на лекциях и внимательно или нет слушаешь.
Но Фишер и Касторский показали расположение ко мне. Иван Николаевич Соколов также, но это такой человек, которого нельзя не любить как человека, но невозможно уважать или любить как профессора.
У Колеровых на рождество я буду, у Александра Петровича Железнова, вероятно, также, у других ни у кого не буду. Да, разумеется, также буду у Олимпа Яковлевича, но про него я не говорю потому, что если бы мундир и взят был, так к нему не в мундире же было бы являться. У Петра Ивановича также.
Репинский был очень нездоров, простудился, но теперь выздоравливает.
Дмитрий Емельянович лучше бы сделал, если б написал сам Ал. Федоровичу; я не знаю, как это: почему бы ему не написать самому: Алек. Фед. это было бы приятно, Дм. Ем. ничего не потерял бы от этого. А то скажите сами, ведь это как-то отзывается невнимательностью. Если бы Ал. Ф. был сын генерала или имел 5 000 душ, то это, конечно, было бы все равно; но он в таком положении, что малейшая невнимательность со стороны Дм. Ем. должна являться в виде небрежения или гордости. Когда я говорю с равным, то, если я не слишком внимателен, ничего, потому что отношения наши не щекотливы; но если приязнь может быть сочтена тем или другим из нас за покровительство, несоблюдение форм — за то, что один смотрит на другого свысока, деликатность необходима. Тем более, что Ал. Ф. довольно
91
щекотлив. Конечно, Дм. Ем. просто так вздумалось не написать, но Ал. Ф. должен думать, что это значит, что Дм. Ем. считает не слишком-то нужным писать самому.
Не знаю, сам ли напишет Дм. Ем. Ал. Ф., что окажется по справке, или чрез меня.
Это, знаете, как-то граничит с «ты, братец, пожалуйста».
Впрочем, я это говорю от себя, а не от Ал. Ф., и к тому, чтобы Вы сделали, чтобы Дм. Ем. сам написал. К чему оставлять в человеке неприятное ощущение?
И довольно странно, почему не пишут Ал. Фед-у из Саратова? Бывает ли у Вас часто Петр Федорович? Сделайте милость, кланяйтесь ему от меня и поздравьте с Новым годом.
24 декабря, 3 часа пополудни.
Честь имею поздравить Вас, милая маменька, со днем Вашего ангела, а Вас, милый папенька, с именинницею. Дай бог провести вам этот день и все следующие весело, счастливо, без всяких огорчений.
Ныне у обедни был я в церкви св. Симеона, в которой священником Райковский (эта церковь ближе всех к теперешней нашей квартире). Служба кончилась в 2 часа.
Ныне был я на Апраксином рынке, посмотреть книг, которые нужно купить, как Вы, милый папенька, пишете. Купил 2 том Карамзина за 50 коп. сер. Две части «Христ. чтения», которые нужно, за 2 р. сер. всегда можно достать, а вероятно, и гораздо дешевле можно. Но посылать ли эти книги чрез почту? Это станет еще столько же. Не лучше ли самому привезти, когда поеду, или переслать с кем-нибудь, если будет случай? Вообще здесь и все книги дешевле. Так, например, за «Новую историю» Смарагдова, цена которой 1 р. 50 к. сер., спросили 4 р. 50 к. ассиг., а уступят, верно, за 1 р. сер. Это я пишу потому, что она попалась на глаза и ее спросил я, чтобы узнать цену учебных книг сравнительно с ценою их в книжных лавках.
Когда был дома, то дни именин бывали всегда самые скучные, потому что народ и суматоха, а теперь и грустно немного, что не дома. А еще грустнее, когда подумаешь, что и живешь здесь без существенной пользы, так для формальной только. Странно, пользы нет, а нельзя хоть и не быть, например, в университете.
Бог знает, странно довольно свет устроен.
Я нет-нет да и стану считать, сколько времени осталось до того, как я увижусь с Вами. После обеда толковали все с Алек. Фед. о Саратове и Вязовке, или, лучше, о своих в Сар. и Вяз., о поездке Ал. Ф. в Саратов. Вот, говорят, глупость сделал, а посмотрели бы, как он утешается ею, с каким удовольствием и как часто припоминает все подробности приезда своего в Вязовку, так и не то сказали бы, быть может. Прощайте до завтра.
92
24 дек., вечер. СПБ.
Поздравляю вас с праздником, милые маменька, папенька и бабинька. Вчера (24 дек.) у всенощной был в церкви Коммерческого училища. Пели очень дурно. После всенощной Михайлов пошел к нам. Проговорили до 11 часов.
Ныне у обедни был у Сенной, в Каз. собор не пошел, потому что, вероятно, там было очень тесно.
Ныне еще ничего; здесь начинают ездить с визитами на второй день рождества, а первый все проводят дома. Хоть это хорошо. Не помню, как в Саратове.
Алек. Фед. ушел к Левину, где, верно, пробудет весь вечер.
Напишите же, по почте прислать потерянные книги и «Весь Петербург в кармане», или подождать случая, или привезти самому (если только поеду)?
Да, вот уже 7½ месяцев, как я выехал из дому! И уже 4 с лишком месяца, как уехали отсюда маменька!
Как-то теперь у нас? Так же ли все, как и тогда, как я был дома, или не так? Милая маменька, вы обещались мне ездить по гостям, ездите ли? Милый папенька, возите их.
Часто ли пишут из Аткарска? Саша, может быть, уехал туда на рождество? Как они живут в Аткарске?
28 декабря, суббота.
Вчера вечером получил Ваше письмо от 17 дек., потому что нарочно ходил для этого в университет; при мне и принесли почту.
Вам, милый папенька и милая маменька, не хотелось бы огорчать меня, как Вы говорите, известиями о Ваших неприятностях. Я уже слышал об этом, но мне также не хотелось огорчать Вас прежде времени. Еще в конце ноября я слышал это от Олимпа Яковлевича. Завтра буду у Василия Степановича и спрошу, что надобно, в следующем письме напишу Вам.
А между тем позвольте мне сказать, что я сам об этом думаю.
Мне кажется, что это следствие не того, чтобы имели дурное намерение именно относительно Вас, милый папенька, или вследствие устрояемого против Вас кова, а что все это делается именно с целью нанести неприятность преосвященному, которого, как Вам известно, Войцехович и, может быть, сам граф (но это все равно, потому что делает все Войцехович) не любят. За что, эго дело другое. Они говорят, за то, что он монах-фанатик, а другие люди говорят, за то, что он не дает им денег.
С этою же целью, оскорблениями и изъявлениями неблаговоления довести преосвященного до того, чтобы он отказался от епархии, посылаются беспрестанно выговоры ему и консистории против некоторых или даже и всех членов которой собственно не
93
имеют никакого здесь неудовольствия, некоторые, напротив, имеют здесь покровительство; например, Росницкий в Кузьме Григорьевиче.
Вот Вам пример, близкий к Саратову, в доказательство.
Вы знаете, что у пензенского архиерея и членов консистории пензенской было дело с бывшим секретарем пензенской консистории Ашаниным; Вы это дело кажется знаете. Я еще не знаю, но все говорят, что виноват секретарь. Пензенского архиерея здесь также не любят и хотят принудить отказаться от места. Против самих консисторских членов не имели никакого неудовольствия. Островидов, например, имеет большого приятеля в Иване Григорьевиче Виноградове. Что же: теперь оставили всех прежних членов пензенской консистории; преосвященный пензенский хочет итти на покой. Им этого только и нужно. Новыми членами пенз. консистории будут: Овсов (кажется, первым членом), Пантелеймонский, Почалмовский, Мидов. Поэтому я (Олимп Яковлевич говорит то же, Вас. Степанович, со слов которого он знает дело, вероятно, говорит то же) думаю, что и последняя Ваша, милый папенька, неприятность источником имеет нелюбовь к преосвященному, а не именно противу Вас.
Вам я не писал об этом потому, что Ол. Яковлевичу не во всяком слове так верил, чтобы мог сам за верное передавать другим, а Вас. Степан., у которого я был около 8 декабря, ничего об этом не говорил; Гаврила Григорьевич Виноградов был с 6 декабря у нас только в четверг (26 дек.), и я оба [раза] позабывал говорить с ним об этом. В понедельник (30 дек.) буду у них (Виноградовых).
Да, правда ли (я это спрашиваю или напоминаю Вам потому только, что это имеет отношение к моему предположению) вот что: Ол. Яковлевич давал мне читать письма Ивана Петровича Иловайского. Между прочим он пишет: «Слухи носятся, что наш преосвященный отказывается. В доказательство есть факт: он велел сшить певчим мальчикам новую обувь и одежду и прибавил при этом иеромонаху (Стефану, кажется, папенька, ведь он заведывает этим?): «пусть новый преосвященный застанет их не в лохмотьях».
Мундира я не взял, потому что денег мало. Всего теперь у меня 36 р. сер. (рубля два еще серебром вперед за квартиру отдано; за нее заплачено до 10 января); в задаток не дано ничего, потому что тогда, когда заказываем был мундир (около 21 ноября), у меня также не было денег (т. е. чтобы отдать рублей 5 сер. в задаток). Поэтому за мундир и брюки нужно около 170 р. асс.; если б даже у меня было теперь и до 50 р. сер., то и тогда бы я не мог взять его, потому что ведь до конца января я не могу надеяться на присылку денег из дому, а в месяц опять мне нужно рублей 18 или 20 сер. Поэтому я не был и не буду и на Новый год у тех знакомых, куда надобно явиться в форме: у Железно-
94
вых (у Алекс. Петровича буду, завтра вероятно), Бородухиных и Стобеусов.
Свидетельствую свое почтение и желаю здоровья своему крестному папеньке, Анне Ивановне, Алексею Тимофеевичу, Якову Феодоровичу, Николаю Ивановичу, Кондратию Герасимовичу, Авдотье Петровне, Василию Димитриевичу и Марье Феодоровне.
Александр Феодорович кланяется Вам. Я кланяюсь Петру Феодоровичу.
На рождество не приезжали ли тетенька, или дяденька?
De quibus rebus arcanis matris meae, Pater mi, loqueris, propter quas Theodorus Stephanowitch vos vieitavit? Num soror mea natu maxima ab aliquo in matrimonium poscitur?*
Прощайте, милый папенька и милая маменька; целую ручку у вас и бабеньки, которым желаю здоровья. Сын Ваш Николай.
48
РОДНЫМ
СПБург, 1846 и 1847 года, дек. 31 — января 1.
11 часов вечера и первый час утра.
Милые мои папенька и маменька! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам провести его счастливо, благополучно, беспечально и весело! Дай бог вам не встретить во все продолжение его ни одного огорчения, быть здоровыми и видеть всех своих здоровыми!
И не на бумаге я только пишу вам эти желания и поздравления: нет, я уже несколько раз становился как будто перед Вами произносил вслух, громко, эти слова.
Александр Феодорович ушел встречать Новый год к своим знакомым, баронессам Гейниг. Я остался один и на свободе распоряжаюсь поздравлениями.
Весь вечер сидел писал письма своему крестному папеньке, дяденьке и тетеньке и Гавриилу Степановичу. Кончив их, принимаюсь за письмо к Вам, мои милые маменька и папенька. Но на письме к Вам я поставил время, когда писал его, а на прочих письмах поставил 12 часов утра 1 января, хоть они и писаны от 6 до 11 вечера 31 декабря. Это (12 часов утра) время отправления их на почту.
Вчера или третьего дня, как угодно, но 30 декабря мы отправились к Ив. Григ. Виноградову в 4 часа; пробыли там до 7, потом отправились к Черняевым. У них было еще человека четыре студентов. Старший сын, Николай Иванович, здесь вторым драгоманом при Азиатском департаменте (он недавно воротился из
Константинополя), а второй, Серг. Ив., в Персии. Он прежде был секретарем посольства в Тегеране, оттуда правильно ходит почта каждые две недели, и он писал каждую почту; но теперь его перевели консулом в Ассрабад: оттуда сообщение с Тегераном непостоянное, и потому он полтора месяца не мог послать письма. Николай Ив. уверя[е]т своего батюшку и матушку, что они не получают письма так долго именно поэтому, но все не мог их успокоить. Около половины девятого Анна Феодоровна (мать) сидела со студентом Штанге (брат которого справляется о Егорушкином деле) и мною в гостиной; Штанге сказал что-то про свою какую-то заботу; Анна Феод. отвечала, что у молодых людей что еще за заботы; вот теперь у ней, другое дело; стала перечислять свои заботы, разумеется, все о детях, и только начала подробно рассказывать о своем беспокойстве, что долго не получают писем от Сережи, вдруг входит последний сын (приятель Ал. Феодоровича) и приносит письмо от него. Маменька, письмо от Сережи! Она сначала думала, что он нарочно, подслушавши разговор, но, взглянув на надпись и печать, увидела, что точно от Сергея Ив. Что же? Она не распечатала, не стала еще читать его, а тотчас встала и молча пошла в другую комнату — разумеется, молиться богу. Чрез несколько минут возвратилась и тут уже начала читать.
У обедни 31 дек., последней в 1846 году, был в Казанском соборе; отслушал и молебен. 1 января думаю сделать так: отправлюсь в Казанский собор к обедне, оттуда в университет, узнать, есть ли письма (может быть, от кого-нибудь), оттуда, если нет писем, прямо в почтамт; если есть и нужно отвечать, к Михайлову, потому что он живет близко от почтамта, там напишу, что надобно. А там что даст бог.
В субботу, как обыкновенно, письмо отправлю еще; это завтра или ныне, т. е. в среду 1 января 1847 года.
Прощайте, милый папенька и милая маменька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай Ч.
Милая бабенька! Честь имею поздравить Вас с Новым годом. Желаю Вам быть в продолжение его здоровыми и благополучными. Я здесь, слава богу, здоров. Петербург вовсе не такой дурной город, как многие говорят о нем. Люди все такие же, как везде — добрых, здоровых и толстых едва ли не больше, чем в Саратове; поэтому, как ни судить, а климат, стало быть, не вреден. Зима пока удивительно теплая. Было всего только два дня холодных, и то немного только. Теперь дня четыре или пять стоит оттепель маленькая. Что здесь смешно, так это то, что санями и каретами, которые так вереницами едут, как у нас в Саратове на масленицу на катанье, снег так взрыт, что просто ужас. И все через улицы бегут бегом, как только могут, потому что итти в снегу выше щиколодки очень неприятно: все и стараются перепра-
96
виться как можно поскорее. Преуморительно! Иная препочтенная дама лет 45 или 50, в лисьем салопе с собольим воротником, или какой-нибудь угрюмый чиновник (здесь только и людей что солдаты, офицеры и чиновники) с проседью так летят, что хоть бы молоденькому — прелесть смотреть.
Прощайте, милая бабенька, целую Вашу ручку. Внук Ваш
Николай Ч.
49
Н. Д. и А. Е. ПЫПИНЫМ
СПБ. 1847 года января 1; 12 час. утра
Милые мои дяденька и тетенька!
Поздравляю Вас с новорожденным сынком. Дай бог его Вам на утешение.
Поздравляю Вас с Новым годом. Дай бог, чтобы он принес Вам одни радости и ни одного огорчения; дай бог, чтобы он унес от нашего семейства и те огорчения, которые теперь терпит оно, и едва ли не самое важное из которых то, что вы, милая тетенька и дяденька, живете не в Саратове. Но я верю, что все устроится к лучшему.
Сделайте милость, пишите ко мне: Вы ведь знаете, какое утешение — получать письма от своих, особенно уже мне, который здесь один, не так, как Вы, который еще не имеет здесь и таких друзей, какие были в Саратове. Правда, мы очень часто бываем друг у друга с Михайловым, но все я еще не так дружен с ним, чтобы говорить от души о том, что лежит на сердце.
Пишите мне, милая тетенька, были ли Вы по приезде маменьки в Саратове? Как наши живут там? Не последняя забота моя — узнать, не стесняют ли они себя из-за меня; ведь мне так много приходится проживать здесь: как бездна какая этот Петербург, бог с ним; непостижимо, как это выходит столько денег в нем! Признаюсь, я всегда думал, что лгут, когда говорят, что нужно 1 000 рублей, чтобы прожить здесь: я всегда думал, что те, которые говорят так, позволяют себе многие глупые прихоти, ходят, например, довольно часто в театр, ездят на извозчиках и прочее в этом или и других родах. К сожалению, увидел я, что нет, что на 600 р. асс. в год можно жить не иначе, как если жить по три человека в комнате, пить чай только по воскресеньям или, лучше, вовсе не пить и пр. Конечно, все это глупости, без которых легко обойтись, но в таком случае нужно прекратить все знакомства так, чтобы никто не знал, как живешь, а то нехорошо.
Сделайте же милость, милая тетенька, напишите мне правду, не отяготительно ли для наших содержать меня, не стесняются ли они от этого в чем-нибудь таком, в чем прежде не нужно им было стесняться; им уже поздно отказывать себе и подвергаться лише-
7 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
97
ниям, они уже не в таких летах, что все равно, на чем ни уснул, чего ни поел. Только сделайте милость, милая тетенька, не передавайте им, что я это у Вас спрашиваю, сделайте милость; я, признаюсь, написал бы это лучше Любиньке, нежели Вам, но ей нельзя написать так, чтобы наши не узнали. Лучше всего сожгите или изорвите это письмо, а то оно может когда-нибудь попасть папеньке или маменьке в руки.
Впрочем, Вы уже не подумайте, что я здесь дурно живу: вовсе нет, я ни в чем себе не отказываю. Но, например, в театр я не хожу, потому что терпеть не могу его, как Вы, может быть, помните; на извозчиках не езжу, потому что, как Вы, верно, помните, очень не люблю кататься на лошадях, а любил только на дровнях или салазках с горы, вообще, кроме нужного, денег не употребляю ни на что, потому что, от непривычки ли, или от характера, не хочется и употреблять их на пустое.
Как Саше поступить прямо в университет на казенное, об этом нечего думать. Приемный экзамен он выдержит здесь без всякого сомнения несравненно лучше всех, которые держат его, и, как отличного студента, его всегда с радостью примут на казенное, если это будет нужно. Но даст бог этого не будет и нужно. Если бы нужно было, то и я мог бы поступить на казенное, но пока еще не было нужды, а прибегать к этому можно только при величайшей необходимости. Все, которые были на казенном, раскаиваются в этом.
Что Сашеньку не отдали на казенное, это мне писали тогда же. Я бог знает как обрадовался этому.
Как здесь все дорого, маменька, я думаю, писали и говорили Вам. Меня разоряет белый хлеб, который здесь 14 коп. фунт, между тем как в Саратове 5 или много 6. Черный хлеб, который в Саратове 50 коп. асс. пуд, 1½ коп. асс. фунт, здесь 1½ коп. сер. фунт: в 3½ раза дороже. Ужас! Я признаюсь, когда приеду в Саратов, то сам стану ахать саратовской дешевизне, и объедаться всего, как петербургская голь, над которою, бывало, и я с вами подсмеивался. Нет, не смейтесь, милый дяденька и милая тетенька, а подумайте, каково им, беднякам, жить здесь.
Не думайте, однако, и того, чтобы я скучал или грустил здесь много, напротив, я, можно сказать, здесь даже вообще веселее, нежели в Саратове. И что бога гневить? Наши все, слава богу, здоровы, чего же еще больше? Я также здоров: петербургский климат мне здоровее саратовского. Если бы можно, я бы попросил вас переслать мне два или три письма, а если можно, то и все письма наших из Саратова к Вам, чтобы самому удостовериться в том, в самом ли деле маменька не очень уже много тоскуют обо мне. Я потом опять, если угодно, тотчас же возвращу их Вам или привезу сам, когда приеду.
Прощайте, милый дяденька и милая тетенька. Будьте здоровы в благополучны. Целую Вас и всех своих братьев и сестриц, ко-
98
торые у Вас в Аткарске: тех, которые в Саратове, поцелуют за меня Любинька и Сашинька. Прощайте. Племянник Ваш Николай Ч.
50
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
4 января 1847 г., СПБ.
Милые мои папенька и маменька! Вчера (3 янв., в пятницу) был у Колеровых, но Василий Степанович, когда я пришел, готов уже был куда-то отправиться; поэтому, посидевши минут пять, он простился и ушел, и мне некогда было ничего поговорить с ним.
Ha-днях после крещения я опять буду у них, но, вероятно, уже не прежде как 12 янв., в воскресенье, потому что в будни опять его не застанешь дома. Тогда, если что будет, то напишу в среду же (15 янв.), не дожидаясь субботы; если не будет Вами 25 янв. получено письмо, кроме обыкновенных, отправляемых в субботу, а Вами получаемых в понедельник или вторник (т. е. отправленных 11 и 18 чисел января, которые Вы должны получить 20 и 27 янв[аря]), то значит, что я или опять не мог быть у них, Как воскресенье прошлое (29 дек. 1846 г.), в которое хотел быть, или, если был, то опять не говорил с Вас. Степановичем, потому что его не было дома, или у них был еще кто-нибудь посторонний.
Теперь напишу, как проводил время с Нового года. На Новый год ни у кого не был утром. Вечером был у Михайлова.
На другой день Нового года был у нас Иван Васильевич. Звал вечером к себе. Ал. Федорович пошел и пробыл до 11 часов, я не пошел, потому что у них (т. е. у хозяев Ивана Васильевича, у которых множество детей) хотели быть и были маски. Что мне за охота зевать и играть роль статуи командора в Дон- Жуане?
3 числа янв., т. е. вчера, в 10 часов утра отправился к Михайлову, которого вчера был день рождения, потом к Колеровым. Вечером в 5 часов в университет за письмами. Нашел там одно письмо от товарищей, пришедшее с прошлою почтою (т. е. во вторник). Очень обрадовался ему. Но вашего не нашел. Из универс. к Михайлову. Пробыл там до 9 часов; читали «Отеч. записки» и приложения к «Современнику». Идя оттуда, опять зашел в университет, но письма все еще не было. Почты все еще не приносили.
Ныне думаю сделать так: отправлюсь с незапечатанным письмом в универс., получаю там Ваше; прочитавши и приписавши ответ, если нужно, запечатываю свое письмо и на почту. Вечером буду у Олимпа Як. или у Петра Ив. Промптова. Если погода останется все так же хороша, то последнее вероятнее.
Во вторник буду у Ал. Петровича Железнова. Почему до сих пор не был у него, сейчас расскажу Вам.
99
26 дек. утром был Гавр. Григ. Виноградов. 27 тоже нельзя было, задержали. 28 тоже. 29 был один из новых моих товарищей. 30 был Михайлов. 31 и неловко уже и хотелось быть у последней в 1846 году обедни. На Новый год, разумеется, не годилось.
2, 3 чисел почему не был, можете видеть из того, что прежде писал Вам.
Ныне нужно нести письмо.
5 сочельник; 6 — праздник.
Итак, раньше вторника (7 янв.) не было утра свободного, а вечером, во-1-х, его не бывает дома, во-2-х, и неловко еще.
Прощайте, милые мои маменька и папенька, целую Ваши и бабенькину ручки. Сын Ваш Николай.
P. S. Александр Федорович поздравляет вас с Новым годом.
Кланяюсь своему крестному папеньке, Анне Ивановне, Николаю Ивановичу, Алексею Тимофеевичу, Кондратию Герасимовичу, Якову Федоровичу, Авдотье Петровне, Василию Димитриевичу и Марье Федоровне.
51
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
10 января 1847 г. СПБ.
Милые мои папенька и маменька! Я, слава богу, жив и здоров, так что в четверг, когда мы с Ал. Ф-ем были у Павла Осиповича Орлова, который не видал меня с месяц или более, то Павел Осип. сказал, что я очень пополнел с тех пор, как он меня видел. Да, я, кажется, еще не писал вам еще о Павле Осиповиче? Ну, в другой раз когда-нибудь. Пока скажу только, что он чиновник, товарищ по семинарии Ив. Гр. Виноградову.
Я и жалею и нет о тех, которые умирают маленькими такими, как мой новорожденный братец. Но нет, я обыкновенно почти не жалею о них. Они хоть помолятся за нас.
Святки провел я очень спокойно и тихо, хоть и нельзя сказать, чтобы сидел дома. Был у Ив. Григ. Вин. и в тот же вечер у Черняевых, как писал Вам, потом вот у Павла Осиповича. Два раза был у одного из своих новых товарищей, Корелкина, раз он был у меня, потом редкий день проходил без того, чтобы Михайлов не был у нас или я у него.
Что я делал на святки? Довольно мало. Хотел заняться латинским и греческим, но не удалось, потому что не успел взять из библиотеки книг; занимался отчасти английским. По-английски, впрочем, пока я не умею и не учусь пока читать: к Варранду ходить не хочется, потому, во-первых, что вздор, во-вторых, потому, что он читает по-французски; а я, конечно, не хочу говорить по-французски, потому что это значит смешить. Когда выучусь
100
говорить, буду ходить учиться читать по-английски, больше незачем, потому что не стоит терять у него время, он читает дурно. А пока со смехом пополам читаю по-английски, т. е. перевожу про себя с английского, произносить же того, что читаю, не хочу. Английский язык (кроме выговора) легок до невозможности, так что в две недели можно достичь того, чтоб читать свободно книгу, справляясь с лексиконом раз на десяти страницах.
Квартира теперешняя, конечно, подальше прежней, но так немного дальше, что не стоит и говорить об этом. Впрочем, для другого она показалась бы ближе прежней: по Невскому ходьба не в ходьбу большей части, а в прогулку и наслаждение. Я, впрочем, этого наслаждения что-то не чувствую, а прогуливаться вообще недолюбливаю: поэтому для меня квартира как есть дальше прежней, так и остается. А другие говорят, что она ближе. Я с ними не спорю.
9 часов вечера.
Хотел итти вечером к Михайлову, но не пошел: мне нужно было дождаться одного вольнослушающего, переговорить с ним и потом уже итти. Но не приходил. Я прождал до 7½ часов, потом перестал ждать, но итти уже расхотелось.
Не помню, писал ли я Вам, что на Новый год получил письмо от своих саратовских товарищей. Очень, очень приятно было мне получить его. Жалко только, что там есть довольно (или, лучше, очень, очень) огорчительная для меня новость. Алексей Тимофеевич и Ив. Григ. Терсинский, пишут мне, сделали, что сослали с казенного Мих. Левитского. В Ив. Григ. я плохо верую, а Ал. Тимоф. мог бы, кажется, понять его. Это человек с удивительною головою, с пламенною жаждою знания, которой, разумеется, нечем удовлетворить в Саратове, и ему, бедняку-бурсаку. Эти мелкие, пустые, грошовые, но ежеминутные, постоянные и непреоборимые почти препятствия естественно каждого, кто не одарен слишком сильною волею, твердым характером, сделают раздражительным, несносным человеком. Большая часть этих людей спивается с кругу, другие не пьют и поэтому не спиваются, но еще, кажется, жалче: тот уже хоть как будто засыпает, напившись. Поэтому очень легко я представлю себе причину или повод, заставивший Ал. Тим. и Ив. Григ. хотеть не то, что наказать, не то, что гнать Левитского, а так, и то и другое. Верно, он думал, думал о том, что дельное, нужное, полезное могло бы из него выйти, но... и взрывало бедняка. В эту минуту Ал. Тим. или Ив. Григ. обошлись с ним сурово, может быть, сказали ему дурака, лентяя, может быть, заметили, что он сидит не как следует, может быть, сказали, что он в класс не ходит (а спросили бы, есть ли в чем? При мне не в чем было), может быть, посмеялись над ним, ну что-нибудь этакое... ну и взорвало бедного, и сказал он им гру-
101
бость, или, может быть, и не грубость, но грубо, или им показалось грубостью. И вышла история. Не знаю, жалко, что мне этого ничего не пишут. А сам он и вовсе ничего не пишет. А стыдно и грех Ал. Тим.; он человек, который мог бы понять, который сам по опыту знает это и, слава богу, не мальчик уже, чтобы оскорбиться ребяческою глупою вспышкою: поддержать бы ему следовало, а не обижаться, не входить в войну с человеком, которому хоть и 20 лет, а который все-таки, как видеть должен сам Ал. Тим., поступил глупо, по-ребячески. Господи, и пропасть может человек. А славный бы, дельный, умный был человек, может быть, честь России.
Милый папенька! Не сочтите этого бог знает чем, нет, грустно, жалко, что пустяки, ребяческую глупость принимают в серьезное преступление умные люди, хоть бы и Ал. Тим., люди сами с душою и сердцем, и враждуют на того, кто сделал это, вместо того, чтобы пожалеть о нем да постараться поддержать его и помочь ему.
Жалко, что мне ничего не пишут об этой истории, а только о следствиях ее. Прощайте, милые папенька и маменька. Целую у Вас и бабеньки ручки. Сын Ваш Николай.
52
Г. И. И Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
18 января [1847 г.], суббота, утро.
Милый папенька и милая маменька! Ваше письмо от 7 янв. я получил так рано, как не получал еще ни одного из ваших писем. В 9 часов утра вчера, когда я пришел на первую лекцию, повестка была уже принесена, а обыкновенно приносят в университет письма в 5 часов вечера в пятницу. В первом часу пополудни вчера оно было уже у меня в руках.
Покорно благодарю вас за деньги.
Ныне отправляюсь за мундиром.
У меня оставалось около 30 или 29 р. сер.
Теперь отвечаю вам на ваше письмо от 7 янв. На защищении новыми гг. профессорами диссертации не был я потому, что нужно было быть там в мундире. Разумеется, они получили степень магистра. Соколов самая ограниченнейшая голова, слабенькая, преслабенькая. Одним словом, пятилетнее дитя.
У Стобеуса буду воскресенья.
У Колеровых до сих пор еще не был. Воскресенья как-то не удалось, а вечером итти к ним без приглашения не хочется. В будни утром некогда.
Пишу вам это письмо такое короткое по смешному случаю. Вчера весь вечер писал и написал много, лист кругом. Кончил в 10 часов, взял и положил все бумаги вместе. Между ними была одна, которую нужно было изорвать и которая написана точно на
102
таком же листе и так же, как письмо к Вам. Чрез несколько времени, вспомнив, что эту бумагу нужно изорвать (это была черновая), я подошел, по ошибке взял вместо ее письмо к Вам и изорвал. Хорошо еще, что вчера не запечатал письма, а то Вы получили бы вместо письма черновую, в которой ничего не разберешь, о римск. одном предмете из римских древностей.
Ныне утром, взяв письмо запечатывать, я взглянул и увидел, что это вовсе не то. Уже половина десятого. Писать много некогда.
Прощайте, милая маменька и милый папенька. Целую Ваши и бабенькину ручку. Сын Ваш Николай.
P. S. В следующем письме напишу, что нужно и что услышу от Стобеуса. Кланяюсь своему крестному папеньке, Якову Федоровичу, Анне Ивановне, Алексею Тимофеевичу, Николаю Ивановичу, Авдотье Петровне, Прасковье Ивановне, Антонушке, Василию Димитриевичу и Марье Федоровне.
53
РОДНЫМ
21 января [1847 г.] 9 час. веч.
Милые мои папенька и маменька! Спешу написать Вам о том, что я был у Александра Васильевича Терещенки. Бывши у Райковского, он поручил его сыну сказать мне, что он хотел бы со мною видеться. Я, узнав, что легче всего застать его можно от 5 до 7 часов вечера, отправился ныне к нему в половине шестого; он что-то писал, я отрекомендовался ему; он ласково принял меня, попросил подождать, пока он допишет. Скоро дописал. Потом начал говорить о том, о другом, больше всего об университете, профессорах и о том, чем я хочу сделаться, что избрал филологический, а не юридический факультет. Когда я сказал ему, что хотел бы итти по ученой части, он согласился, что и это прекрасно; советовал главным образом заниматься славянскими наречиями — языками польским, чешским и сербским. Спрашивал, бываю ли я в театре; на ответ, что не бываю, стал доказызать необходимость бывать там, по крайней мере, хотя в два месяца раз, если нельзя чаще. Я оставил его доказывать, где нужно поддакивал, и, кажется, ни разу не буду там. Впрочем, будущего нельзя знать: может быть, и буду, только это не слишком вероятно.
Он говорил, что ныне был у Стобеуса и что Авдогья Евгеньевна отчаянно больна. Дня четыре назад они (т. е. и Ал. Васильич в том числе) просидели всю ночь у ее постели, ожидая с минуты на минуту последнего вздоха ее. Она больна чахоткой. Теперь прибегли к сильным средствам. Третьего или четвертого дня употребляли над нею пневматическую машину. Каково будет действие, бог знает. Нынешний день будто бы чуть-чуть по-
103
лучше. Но ведь чахотка не горячка, в которой если сделалось хоть чуть получше, значит перелом выдержан и больной вне опасности. Бог знает. Не дай бог умереть ей: многих огорчит ее смерть, а Александра Яковлевича убьет.
Мундир, наконец, взят. Вышел превеликолепнейший: особенно петлицы, по всеобщему признанию (т. е. по признанию Ал. Федоровича и Михайлова), ослепляют неслыханным блеском. Хорош он в самом деле, но стоит вместе с брюками 48 р. 50 к. сер. Ужас! Впрочем, и гадкий все дешевле 125 р. ассиг. не обошелся бы вместе с брюками.
Поздравляю Вас с новым преосвященным.
Да, у Терещенки я, вероятно, буду бывать довольно часто. Может быть, это знакомство будет и полезно.
Прощайте. Целую у Вас и бабеньки ручки. Сын Ваш Николай.
Милая Любинька и милый Сашинька! Подивитесь изобретательности людей с пустыми головами, в пример которых можете взять меня. Известно, что новизна, необыкновенность, оригинальность придает больше всего интереса и заманчивости вещам. Вот, матушка и батюшка (я здесь получил похвальную привычку звать всех своих знакомых «батюшка мой») (Гоголя нахватался), нечего мне сказать вам новенького или оригинального в письме, так я, чтобы придать занимательность ему, пишу хоть его оригинально, вдоль, вместо того, чтобы писать, как все, поперек: знаете ли, мне кажется писать поперек даже пошло. От этого нового манера письмо мое чрезвычайно интересно и любопытно? С каковым поздравляя вас, купно же и себя, остаюсь брат и нижайший послушник ваш Николай Чернышевский.
NB. или P. S., как хочешь. Посылаю тебе два листочка, нет, листок, а то потянет два лота: то после — стихов из Лермонтова, которые выписал (т. е. списал из книги) для тебя, милая сестрица.
54
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
21 января 1847 г. 10 час. веч.
Милый папенька и милая маменька! Вчера вечером получил мундир от портного, ныне утром отправился в нем прежде всего в Казанский собор; простояв там с четверть часа, потому что дольше некогда было, к Стобеусу.
Рассказываю ему, зачем я.
«О Сахарове, кроме хорошего, — отвечал Ал. Яковл., — я ничего не могу сказать. Он лучший из всех топографов, которые есть в Саратове.
«Конечно, — прибавил он, не слишком налегая на слова, — везде есть свои неудобства. Трудно женатому человеку жить без
104
своего состояния. А у Сахарова нет состояния. Кроме того, род службы его заставляет вести походную, скитальческую жизнь. Ныне тут, завтра там. В Саратовской губернии занятия топографов скоро придут к концу, и их переведут в другое место. И жене нужно будет переезжать то туда, то сюда, вслед за ним».
Впрочем, милые мои папенька и маменька, эти его мысли Вам уже самим представлялись.
«А меня бог наказывает, сказал он: жена отчаянно больна. Напишите об этом батюшке и попросите его помолиться за нее».
Как переменился Ал. Яковл.! Похудел, пожелтел. Смерть Авд. Евг. убьет, кажется, его.
Он сказал мне, что Авд. Евг. больна так вследствие родов; Терещенко говорил, что она прежде уже была очень больна и что роды были так счастливы, как нельзя было надеяться. Но они, вероятно, ускорили и усилили развитие болезни, хотя сами и были благополучны.
Дай бог, чтобы Авдотья Евгеньевна выздоровела! Мне ужасно жаль их.
Ha-днях наведаюсь о ее положении и напишу вам.
В субботу письмо пошлю, как обыкновенно.
Это, что я был Ал. Яковл., и отзыв его о Сахарове я написал отдельно и не упомянул ни слова об этом в другом листке потому, что Вам, верно, не захочется, чтобы Любинька знала об этом.
Прощайте.
Дай бог счастья моей милой Любиньке. Что же вы так коротко пишете об этом деле? Сделайте милость, напишите хорошенько, как это идет, и как началось, и чем, вероятно, кончится. Сын Ваш
Николай.
55
РОДНЫМ
24 января [1847 г.] 11 час. веч.
Милый папенька и милая маменька! Я, слава богу, жив и здоров. Вечером в четверг был у Олимпа Яковлевича. Он вам кланяется.
Что был у Терещенки, я вам писал уже. Пока еще ни от кого, кроме вас, не получал писем.
Пишите, что у нас теперь делается.
Странно, что-то не пишется. Решительно ничего не припомню, что бы стоило того, чтобы написать.
Да, разве то, что я вчера был очень утешен одним известием или открытием.
По поводу предисловия к второму изданию «Мертвых душ», в котором Гоголь просит каждого читателя сообщать ему свои замечания на его книгу, было высказано столько пошлых острот или плоскостей в «Современнике», что можно предвидеть, что за
105
Письма к друзьям Гоголя не постыдятся назвать и в печати сумасшедшим Никитенко, Некрасов и Белинский с товарищами, как давно провозгласили его эти господа на словах. Тем приятнее было прочитать благородную и умную статейку в 3 № «Иллюстрации», в которой прямо и без страха высказывается истинный взгляд на это благородное самопризнание, «Исповедь» Гоголя, в которой признается, что не помешан еще человек, если доступно его сердце чувству смирения, хотя он вместе чувствует и достоинство свое, и если он не стыдится высказать свое сердце и думает найти людей, понимающих его. Утешила меня эта статья. И вдруг вчера я узнаю, что она писана моим товарищем по факультету и близким знакомцем, который ничего еще не печатал, не хотел и этого печатать, но не смог не написать и не послать в «Иллюстрацию» в порыве чувства. Очень, очень мне было приятно это.
Прощайте до субботы следующей.
Кланяюсь своему крестному папеньке, Анне Ивановне и Николаю Ивановичу.
Целую ручки у Вас и бабеньки. Сын Ваш Николай.
Извини, милая Любинька: так пуста голова и дурны чернила (завтра будут хорошие, но уже некогда будет писать), что я, вместо письма, посылаю тебе еще два листочка из Лермонтова.
Целую тебя.
Милый Саша! Я теперь ничего не читаю, не пишу, не говорю, я только пою старинные, древние римские песни. Одну вот тебе для обращика (или обрасчика или образчика, как хочешь):
Ennos, Lares juvate
Neve lue rue, Marmar, sins incurrere in pleoris!
Satur furere, Mars, limen salis sta berber!
Semunis alternei advocapit conctos!
Ennos, Marmor, juvato!
Triumpe, triumpe!
Вот переложение на позднейшую латынь:
Age nos, Lares juvate!
Neve luem, Mars, sivis* incurrere in plures!
Satur furere, Mavors, lumen solis sta** fervere!
Semones alterni, advocate cun tos!
Age, nos, Mavors, juvalo!
Triumphe, triumphe!
Переведи и пришли мне. Напиши, как тебе нравится. Вперед целую тебя за прекрасный перевод, какого ожидаю от тебя.
56
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
29 января [1847 г.], среда, 7 час. веч.
Милые мои папенька и маменька! В прошлом письме писал я Вам, что один из моих товарищей порадовал меня: теперь совсем противное: смерть одного из них, товарища мне по факультету и курсу, огорчила нас.
Фамилия умершего была Глазков; он из архангельской гимназии; отца нет уже, мать еще жива; другой (старший) брат его здесь приказчиком в одном магазине шелковых изделий. Глазков был моложе почти всех нас, по лицу моложе всех без исключения. Голубые, ясные, привлекательные глаза, русые волоса, белое, свеженькое, когда он приехал сюда, лицо. Когда я его узнал, на щеках прежний здоровый румянец обращался уже в чахоточный. Петербургский климат помог быстро развиться в нем чахотке. Сначала свой кашель считал он и все пустым, который не ныне — завтра пройдет. Через месяц согласился и он, что нужно поступить в университетскую больницу. Доктор сейчас же увидел, что нет уже надежды. А он, бедный, до самой смерти был уверен, что это простой, простудный кашель, не думал и воображать, что у него чахотка. «Странно, — говорил он, — какой плохой у нас доктор: как долго возится с пустою болезнью». В последние недели он говорил, что чувствует себя все лучше и лучше, что кашель его, как он чувствует, должен скоро прекратиться, что он совершенно здоров, кроме этого кашля, только что-то слаб, но к маслянице непременно выйдет. Воскресенья 26, в ¾ одиннадцатого он умер. Когда ему говорили, что болезнь его опасна, он не хотел верить.
Ныне мы его похоронили.
Узнавши вчера, что похороны ныне, наш курс (филологи) просил позволения провожать его. Инспектор передал нашу просьбу попечителю: тот сказал нам, что он доволен нашим желанием, что это наша обязанность.
В десять часов собрались мы в университетской церкви, человек 9; потом присоединилось еще немного, четыре или пять человек, других. Кроме наших студентов, было еще двое студентов Медицинской академии, его знакомцев, брат его, еще человека три-четыре. Он лежал такой хорошенький, молоденький. Простой голубой гроб. Отпели, стали прощаться. Все мы плакали. Но если бы вы видели, с какою нежною любовью прощался, целовал его, глядел на него в последний раз один студент, Татаринов! Он прежде не знал его. Но в больнице просидел у его кровати безотходно две последние недели, простоял у его гроба все эти ночи. Я не знаю, кажется, никакие рыдания не могли бы так тронуть, как та тихая, грустная, грустная нежность, с какою он последний поцеловал его, потом еще, еще, смотрел на него: по-
107
смотрит на него, нежно, нежно и поцелует его тихо. Наконец посмотрел он на него в последний раз, поцеловал и заботливо закрыл его.
Я также до сих пор не знал Татаринова: теперь постараюсь познакомиться с ним. Он очень хорош собою, но как хорош был, прощаясь!
Мы вынесли гроб, поставили на катафалку; при конце службы или здесь присоединился к нам Александр Иванович и вместе с нами провожал его пешком до кладбища. Я благодарен ему за это. Всего человек 20 шло нас за гробом.
Мне хотелось бы, чтобы нам нести его. Но так устроили. Время было прекрасное, ясное, тихое.
Когда зарыли могилу, некоторые из нас поцеловали землю, покрывшую бедного нашего товарища.
Потом иные отправились домой, иные, в том числе Татаринов и я, зашли еще на несколько минут в церковь на кладбище.
Я в первый раз еще был на Смоленском кладбище. Постарался заметить могилу, чтобы навещать ее.
Все это было просто, без всякой церемонии.
Милый папенька! Сделайте милость, отслужите панихиду за душу усопшего раба божия Алексия.
Завтра, может быть, напишу что-нибудь еще об этом.
Такое спокойное, светлое лицо было у него по смерти. Мне верится, что ему хорошо. Погорюет только бедная мать.
Пятница, 8 час. утра.
Мне до сих пор еще грустно. А в первый день, в среду, я. к счастью, весь день был один и без развлечения и помехи, порядком-таки погрустил.
Вчера весь день был развлечен: до трех часов в университете, потом вечером пошел к родственнику Николая Ивановича, Василию Никифоровичу Дьяконову. Ничего, разумеется, особенного. Он Вам кланяется.
Ныне и завтра лекций нет.
Михайлова, моего знакомого, отец был управляющим соляными копями в Илецкой Защите, Оренб. губернии. Он умер в январе 1845 года. Звали его, кажется, Илларион Михайлович. Мать его была урожденная княжна Уракова. У них есть небольшая деревня в Оренбургской губернии, купленная, должно быть, отцом.
Ивану Фотиевичу пошлите мой поклон. Что-то сделает для него новый ваш преосвященный. Он, кажется, уже выехал отсюда.
Эх, грустно, подумаешь о Глазкове. Да и погрустить нет почти времени и свободы, все с людьми беспрестанно.
Милая маменька! Напишите мне, как бишь зовут супругу Ивана Николаевича. Наталья, это я помню, а как по батюшке, не могу уже вспомнить.
108
Он (Иван Ник.) прислал мне записочку в письме к Вас. Никиф. Дьяконову: надобно отвечать и написать поклон Ив. Ник. жене, а я не знаю, как ее зовут.
2 часа вечера. Пятница 31 янв. 1847 г.
Авдотья Евгеньевна также скончалась.
Сейчас я оттуда, от Стобеуса. Выходит лакей отворить дверь; я спрашиваю, что Авд. Евг. Он отвечает, что уже похоронили. Я не пошел к Ал. Яковлевичу. Посетители в такое время, когда человек в отчаянии, кажется, неуместны и тягостны, кроме искренних друзей.
Такое уже видно, должно быть, это письмо.
Больше уже ничего и не буду писать.
Дай бог мне поменьше писать Вам этаких писем или вовсе не писать, если можно.
Прощайте, целую ручки у Вас и бабеньки. Сын Ваш Николай.
57
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
7 [февраля] 1847 г.
Милый папенька и милая маменька! Я, слава богу, жив и здоров. Отвечаю вам на письмо от 21 января. Оно меня как-то очень обрадовало. Долго после его получения я все еще был весел. Я не знаю, мне, когда я жил дома, вовсе не думалось, чтобы переписка стала доставлять такое удовольствие.
Задолго еще до рождества, в ноябре или даже, может быть, в октябре, Славинский (студент, родственник Лавровского) говорил мне, что Лавровский пишет к ним, что он хочет сватать кого-то в Саратове. Кого? спросил я. Он не пишет фамилии, отвечал мне Слав. (кажется, что так, или он сказал мне, что не помнит фамилии той девицы, которую Лавр. хочет сватать, но, верно, Лавр. тогда не писал фамилии, потому что если бы стал писать, то, конечно, написал бы, что она живет у Вас, а что я здесь, и Славинский не забыл бы этого; или он тогда хотел сватать кого-нибудь другого?) Я подумал, что это сестра Ал. Васильевны Левашевой, тем больше, что знал, что ей хочется женить Лавровского на своей сестре. Вы пишете о том, что перепадают слухи, что Лавровский хочет просить ее руки: если вы знаете, что он не хотел в сентябре или октябре сватать сестру Ал. Васил., значит он писал о Любиньке.
Мне приятно было, милый папенька, прочитать то, что Вы пишете о Михайлове. Отец его был не вельможа, а просто занимал значительное довольно место, которое дали ему за статью, как говорил на-днях сын его, об Илецких соляных копях (часть ее напечатана в «Горном журнале»).
109
Я не знаю, как Вам хорошенько написать о моих отношениях с ним. Мы очень часто бываем друг у друга. Когда бываем, то очень не церемонимся или, как это сказать, когда говорится, говорим, когда нет, и не стараемся говорить, он со мною откровенен, очень откровенен, но у него уже такой характер, не то, что у меня. Впрочем, и я с ним гораздо более откровенен, нежели с другими. Не любить его нельзя, потому что у него слишком доброе сердце. Но все я еще не столько знаю его, чтобы совершенно сказать, что считаю себя его другом. Сблизились мы очень скоро. Разумеется, чем больше я стал узнавать его, тем более стал любить, хоть и не скажу, чтобы все в нем мне нравилось. Но все же я его более всех других люблю.
У Куткина я еще не был. Да что-то и не хочется быть. Вы пишете о П. Ив. Промптове? Что маменька говорят, это правда. Я вовсе и прежде не хотел много сближаться с ним. Но чтобы Зам, маменька, было тут из-за чего беспокоиться, я решительно не вижу. Ведь его жизнь или поведение совсем не таковы, чтобы молодой, хоть в 25 лет даже, человек мог сколько-нибудь заразиться от них. Он так стал жить оттого, что неудачи, заслуженные или не заслуженные, это все равно, охладили его ко всему. Он так живет уже с горя. А уже если в мои лета и можно чего-нибудь опасаться, то, верно, не того, чтобы охолодеть ко всему, и хорошему, и дурному. Когда молодые люди делаются негодяями, так это оттого, что им, вместо хорошего, нравится дурное и они в восторге от дурного. А чтобы они были сколько-нибудь склонны жить так, как П. Ив., и чтобы такой пример мог повредить им, я не думаю. Впрочем, я всего два раза был у П. Ив., а теперь буду бывать еще гораздо реже.
В письмах пишите все, потому что их никто не читает. Они тотчас же запираются у меня.
Лавровский пока еще, должно быть, обо мне ничего не писал в Петербург своим родным.
Гадости в Петербурге, может быть, больше, чем Вы, милая маменька, думаете. Особенно слишком много здесь того, что опаснее всего обыкновенно молодым людям с незанятыми ничем головами. И вообще это здесь как-то не считается ни за что. Каждый говорит об этом так же свободно (особенно о том, что он сам сделал), как о самых пустых вещах, вроде того, что он был на гулянье или в театре. Но поэтому-то самому для других и нет никакой опасности увлечься этим. Очень хорошо видишь, что все эти господа пусты или им нечего делать, и вот ныне он идет туда, завтра за карты, послезавтра просто прогуливается. Я не знаю, об этом ли писали, милая маменька?
Это все пустяки, которые опасны для пустых людей. Мне, конечно, не хотелось бы об этом писать. Не видеть и не слышать нельзя, поэтому и не знать нельзя, хоть и довольно противно.
110
Ваше письмо от 28 янв. также получил. Чтобы узнать об отъезде Афанасия, иду сейчас к Олимпу Яковлевичу.
Ходил, но его нет дома.
Из того, что Вы пишете о Левитском, видно, что он сам виноват, если дело было так, как рассказали П. Феодоровичу. От его характера, такого, какой обыкновенно называют взбалмошным, можно этого ожидать или, лучше сказать, даже должно. Но все-таки мне очень жаль его, если это повредит ему при окончании курса.
Покорно благодарю Вас, милый папенька, что Вы потрудились узнать об этом.
Завтра у нас акт. Начало в час. Я хочу быть там, хоть и скучно, вероятно, будет. До того времени успею зайти к Василию Степановичу и узнать о поездке нового преосвященного саратовского.
Благословение прежнего принимаю с верою в его силу.
Я не знаю, что сказать о Любинькиных женихах. Я не знаю вовсе Сахарова и того, чего он может надеяться по службе. А кажется, он может надеяться не слишком многого. Беляеву должно чрезвычайно много помешать то, что он не окончил нигде курса. Будет ли он со временем секретарем или окружным или чем-нибудь подобным? Права неокончивших курс поминутно стесняют. Но по крайней мере он всегда будет мочь оставаться в Саратове.
Но мне кажется, что здесь главное дело то, кто из них сам лучше. Жить им обоим верно придется не нуждаясь, даже с небольшим избытком лет через 7 — 8; а пока также дом очень много поможет им и не допустит до нужды.
Но, может быть, еще важнее то, который из них (ведь в настоящем случае оба они люди хорошие) больше нравится самой Любиньке, и чей характер больше может сойтись с ее характером. Про то нечего и говорить, что первое условие счастья — внешнее довольство, такое, чтобы не терпеть нужды. Но, вероятно, нужды не увидит, или если и увидит, то такую, какую очень легко перенести, заставляющую отказывать себе только в прихотях и платьях, будучи как за тем, так и за другим. Но это дело такое, что без него нет счастья, жизнь мучение, особенно для замужней женщины и матери семейства, но что оно одно еще нисколько не доставляет счастья: довольство доставляет только возможность чувствовать счастье, если оно есть, а счастье вовсе не происходит от него. Это все равно, что здоровье дает возможность трудиться, а самой работы не дает. Конечно, сколько угодно будь работы, но больной не может работать; но и то также правда, что если к здоров, да нет работы и негде ее взять, то все-таки останешься сложа руки и, пожалуй, при всем здоровье, умрешь с голоду. Это все равно, что без глаз нельзя читать, но с самыми хорошими глазами ничего не прочитаешь, если нечего. Довольство, безнуждная жизнь необходимое условие, чтобы жизнь была приятна, но приятности оно не дает жизни: приятность должна происходить
111
от других вещей. В жизни замужней кажется самая, самая главнейшая из этих вещей, которые делают жизнь приятною и счастливою, взаимная любовь супругов. Кажется, если этого нет, то все остальное не избавит от горя и самого тягостного и самого неотвратимого; внешние обстоятельства, довольство или недовольство, бедность или богатство, могут легко измениться или по крайней мере все льстит надежда, что дела могут поправиться; а уж если бог наказал или своя неосторожность и превратные понятия наказали дурным мужем или дурною женою, то ведь одна только смерть и есть надежда.
Поэтому мне кажется, что выходить замуж за человека, союз с которым угрожает бедностью, не должно. Но что должно также и отдавать за человека не иначе, как узнав хорошо его характер, и что более всего это дело относится до той, которой должно выйти за него. Она сама должна хорошенько узнать своего жениха, его образ мыслей, правила, ум, характер, сама должна рассмотреть, составит ли он ее счастье, будет ли он ее и она его уважать, любить, дорожить друг другом.
Если человек нравится, но бедности в союзе с ним нельзя избежать, это дело кажется решенное: выходить за него, значит губить себя.
Но после того, как увидишь, что можно прожить с ним безбедно, дело только начинается; состояние все равно, что лета: оно может служить только препятствием: нет лет, и венчать не будут, а есть лета, так этим еще ничуть не сказано, что надобно венчаться и делу конец.
Теперь десять часов. Иду к Василию Степановичу, чтобы поспеть на акт к часу.
Сейчас от Василия Степановича. Афанасий выехал в первые дни великого поста. На Москву он не поедет, а чрез Кострому на Нижний. В Костроме он пробудет до воскресенья или понедельника второй недели (9 или 10 числа), больше нигде не хочет останавливаться. В Нижнем хотел он видеться с Иаковом. В Саратове, говорит Вас. Степ., надобно ждать его в конце 2-й или начале, не позже начала 3 недели велик. поста. Поэтому это письмо едва ли Вы получите в пору уже. А если он еще не приехал, то должно поспешить сейчас же навстречу ему. Он, говорят, езуит, ложное смирение, скажет, к чему эта встреча, но сам будет этим чрезвычайно доволен, он самолюбив, честолюбив, человек бесхарактерный, вспыльчивый, не то уже, впрочем, что Ириней, гордый, в академии и профессора и студенты не чаяли сбыть его с рук. Но взяток никогда не возьмет никак, даже подарков ни от кого из посторонних лиц, чтобы не быть связану, и за взяточниками будет строго смотреть, не то, что Иаков. Он человек грозный, говорит В. Степ. Он создание Протасова. Пока очень хорош на его счету, но что-то будет, каков окажется, как епархиальный архиерей. Легко можно ему и потерять хорошее мнение в
112
себе. В. Степ., будучи по Пензе знаком с ним хорошо, говорил с ним о Вас много и говорил, что дело, может быть, примет другой вид и пятна будут смыты.
Я писал уже Вам ответ Стобеуса. В настоящем его положении я долго не решусь его беспокоить: разве Вы напишете, что нужно еще быть у него.
Свидетельствую свое почтение своему крестному папеньке, Алексею Тимофеевичу, Анне Ивановне, Матвею Ивановичу и Александре Павловне, Василию Димитриевичу и Марье Феодоровне, Кондратию Герасимовичу, Авдотье Петровне.
Целую ручки у вас и бабеньки. Сын Ваш Николай.
8 [февраля] 1847 г.
58
РОДНЫМ
15 февраля 1847 г.
Милый папенька и милая маменька! Я, слава богу, здоров.
Хотел быть на акте 8 числа, но не удалось, по пустым обстоятельствам каким-то, теперь я уже вполовину и позабыл, каким именно.
Золотые медали получили четверо; случай очень редкий; еще более замечательно, что по юридическому факультету дали две золотые медали, этого, кажется, не бывало еще здесь: одну Миткелю (Плетнев на акте сказал ему, что таких диссертаций, как его, не было еще и, вероятно, долго не будет); другую дали Губе (оба они студенты 4 курса). Тема была: Exponatur irigo et vera indoles dotum nuptialium, или antenuptialium, не помню, ante Iustinianum, изложить начало и истинное свойство предбрачных или брачных дарений у римлян до Юстиниана по римскому праву.
По филологическому отделению получил золотую медаль Шульц, серебряную Стасулевич, поляк. О Гомере: доказать, что это лицо собирательное, и доказать из устройства речи, что первоначально рапсодии его были петы, а не писаны. Оба студенты 4 курса. Стасулевич студент лучше Шульца.
По математ. отделению — о химическом действии света — получил зол. медаль Лось. Все четверо, получившие золот. медали, немцы. Большая честь русским.
О темах для диссертаций на нынешний год напишу после, когда сам прочитаю их.
Время так расположилось, что я не успел написать ни вам ничего хорошенько, ни отвечать своему крестному папеньке и поблагодарить его за подарок его.
Ныне в два часа буду у Евгения Алексеича Куткина, который через Благосветлова звал меня к себе.
Отправляюсь на почту за Вашим письмом.
Кланяюсь своему крестному папеньке, Алексею Тимофеевичу,
8 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
113
Анне Ивановне, Николаю Ивановичу, Василию Димитриевичу и Марье Феодоровне.
Целую ручку у вас и бабеньки. Сын Ваш Николай.
Сейчас получил ваше письмо. Благодарю вас за деньги. Теперь у меня, по отдаче за квартиру вперед, остается около 17 р. сер,
В будущем письме напишу поаккуратнее о своем финансовом положении, в котором, впрочем, нет ничего особенного и которое вы можете знать по прежним моим письмам. Каждое письмо я собирался писать, да все позабуду да позабуду.
Может быть, позабуду и в следующем.
Милая сестрица и милый братец. Просто как-то не удалось писать.
Чтобы письму не отправляться слишком легким, посылаю тебе два листочка из Лермонтова.
Теперь почти все порядочное из него переслал я тебе, кроме песни про Калашникова; да та слишком длинна, не хочется списывать.
Прощай. Целую тебя. Брат твой Николай.
59
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
21 февраля 1847 г.
Милый папенька и милая маменька! В субботу я был у Куткиных; Евгения Алексеевича не было дома; я посидел час или полтора с Марьей Васильевной; она приняла очень хорошо; разговор можете сами наперед знать, о чем всегда бывает с нею. Не хочется что-то смеяться, а она рассказывала, что преосвященного Иакова перевели в епархию много выше саратовской, между прочим и потому, что она беспрестанно умоляла графа (в доме их она в самом деле бывает) о награде Иакова: «Граф, пожалуйста, не позабудьте об Иакове». Графу было внушено невыгодное мнение об Иакове, но она успела рассеять его.
В четверг был в департаменте у Петра Ивановича Промптова. Он с такою радостью справляется о деле Алекс. Ильинишны, что приятно видеть это. Даже он следит за ходом его и тотчас же, не справляясь, сказал мне, что нужно. В понедельник (17 февр.) вместе со всеми прочими делами этого рода оно представлено в Комитет министров. Там пробудет оно недели две, потом сойдет к ним в министерство. Как эти дела по высочайшему повелению, то исполнение по ним делается очень скоро, дня в два. Поэтому в последних числах февраля или первых марта будет послано в Саратов предписание о выдавании пенсии.
Тогда я напишу опять Вам.
114
Да, с этою же почтою пишу к своему крестному папеньке.
Хоть в прошлом письме и обещался я писать о том, сколько надобно мне денег, но пока не успел еще сообразиться. Напишу уже в следующем письме.
Вместо этого теперь спрошу Вас: нужно или нет шить к лету холодную шинель? Старая моя, перевороченная, еще ничего, годится.
И, самое главное, как Вы располагаете, милые мои папенька и маменька: ехать мне на эти каникулы к Вам или нет? Я, само собою разумеется, очень бы непрочь. Но дорого стоит. Впрочем, и здесь прожить 2½ месяца будет стоить (не говоря об одежде, которая, конечно, здесь больше будет потерта) около 45 — 50 р. сер.
А может быть, времени пройдет и более 2½ месяцев, около 1 июня экзамены кончатся, а лекции опять начнутся не ранее уже 15 августа; обыкновенно они начинаются позднее, с 1 сентября.
Может быть, удастся устроить, если ехать, так, что позволят экзамены последние сдать раньше назначенного времени, так что можно будет выехать по 2-й половине мая.
По этому-то последнему я и хотел бы узнать поскорее, поеду я или нет в Саратов, чтобы заранее приготовиться держать так экзамены.
Да, вот что еще: представляются две выгодных квартиры, одна в Малой Морской, другая на Вознесенском проспекте у Мойки. Но нам с этой квартиры сойти нельзя прежде 8 марта или вообще не иначе, как 8 числа какого-нибудь месяца (потому что отдаем деньги вперед за месяц). Поэтому не знаю, удастся ли перейти на которую-нибудь из них или нет. На всякий случай адресуйте письма в университет, пока около 8 марта я не напишу, перешли мы и куда или остаемся на этой же квартире.
Впрочем, и эта квартира очень спокойна и удобна.
А самое главное едва было не забыл.
Петр Иванович в департаменте сказывал мне, что Кузьма Григорьевич хотел быть у Афанасия перед отъездом его, но не застал его дома. Потому оставил ему письмо, в котором представляет ему в настоящем виде дело Ивана Фотиевича и тех, кого оно касается.
Прежде Афанасий не знал этого дела, как должно, а теперь, по словам Кузьмы Григорьевича, нельзя сомневаться, что он будет смотреть на это с надлежащей точки зрения. Что, впрочем, Кузьма Григорьевич знал, что Афанасий от кого-то незадолго перед отъездом узнал хорошенько об этом и [о] Вас, милый папенька, так что смотрит не так, как граф.
Не помню, писал я или нет, что Василий Степанович говорил мне, что он, бывши у Афанасия, передал ему настоящие сведения о Вас, так что он будет смотреть не предубежденными глазами, и что, вероятно, теперь дело примет другой вид. Но он говорил.
8*
115
что не хотел бы, чтобы я писал, что это он раскрыл глаза Афанасию.
Прощайте пока, милый папенька и милая маменька. Целую ваши и бабенькину ручки.
Сын ваш Николай.
60
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
28 февраля 1847 г.
Милые мои папенька и маменька! Посвящаю, наконец, это письмо своим денежным обстоятельствам.
Если я так долго не писал хорошенько об этом, так это потому, что мои денежные обстоятельства тесно соединены с Александр Феодоровичевыми, так что, говоря об одних, нельзя не говорить о других. А Александр Феодорович вовсе не хотел бы, чтобы кому не следует, особенно в Саратове, знали о том, нуждается он в деньгах или нет.
Если я пишу, то пишу единственно только потому, что знаю, что то, что я напишу, вы не передадите никому (я не знаю, мне странно писать эти слова, но если писать, то писать), все останется так, как вы ничего и не знаете, вы не расскажете об этом письме ни Петру Феодоровичу, ни бабеньке моей, никому в Саратове, да и Александру Феодоровичу, если случится после увидеться с ним, не покажете вида, будто знаете что-нибудь.
У Александра Феодоровича первое правило: «кому не нужно, тот ничего пусть и не знает, особенно о том, что я не богат». И надобно сознаться, что это чрезвычайно благоразумно. Особенно то, если вы человек недостаточный, так чем меньше знают это, тем лучше. Потому он без нужды никому не скажет никогда: «у меня мало или нет денег». Сделайте милость, не передавайте же никому, что я пишу.
Мне в месяц нужно от 16 до 18 или 19 р. сер., кроме одежды.
Поэтому у меня теперь около 17 р. сер. остается денег неистраченных мною. Если бы они были налицо, этого было бы на месяц вперед.
Но Александр Феодорович из дому денег не получал, кажется, с июня или мая; из Иркутска (этого, что он прежде получал оттуда деньги, тоже не нужно говорить) от дядюшки Петра Иван. также с ноября или октября, потому что П. Ив. пишет, что он теперь сам в нехороших обстоятельствах; потому источник доходов остался у него один — Герольдия.
Этих денег, естественно, недостаточно ему, потому что и ему нужно не 8 — 9, сколько получается из Герольдии, а 16 — 18 р. сер. в месяц.
Таким образом, он должен был взять у меня денег; потом, когда у меня не достало, у Ивана Григор. Виноградова.
116
Денег из дому ему пришлют или нет, не знаю; верно пришлют, потому что он писал об этом к Феодору Ивановичу; ответа надобно ждать около 8 марта; Петр Ив. (из Иркутска) хотел прислать денег (верно 30 или 35 р. с.) не раньше мая. До начала июня Ал. Феод. проживет сверх тех денег, которые получает из Герольдии, 70 — 75 р. с. (около 40 уже прожито, понадобится на 3 месяца еще 30 — 35 р. с.). Сколько он до тех пор получит из дома и Иркутска, неизвестно.
Эти деньги недостающие он должен остаться должен кому-нибудь. Он мог бы взять сколько угодно у Левина, но никогда не согласится (и за это нельзя не похвалить его благоразумия) сказать ему, что он нуждается в деньгах: это тотчас переменит их отношения; теперь Ал. Ф. нужен Левину, тогда Ал. Ф—у нужен будет Левин, и вообще это вещь с людьми богатыми самая щекотливая. А Левиново знакомство ему и вперед понадобится.
Потому, сколько будет недоставать денег до окончания курса (а сколько? не больше во всяком случае 75 р. с., вероятно, меньше, но сколько, нельзя сказать, потому что неизвестно, сколько он получит из дома и Ирк.) (я думаю 30 — 35 р. с., потому что дядюшка из Ирк. пришлет не меньше 25 р. с., может быть, 35 — 40, и он получит из дому), он останется должен мне, если у меня будут деньги, или Ив. Григ. Виноградову, если не будет у меня. Живучи вместе, как родственники, мы, естественно, поставлены в такое положение, что если у одного из нас не будет денег, то их должен дать ему взаймы, сколько может, другой.
Про то нечего и говорить, что деньги эти будут отданы, когда он получит место (а место получит он тотчас по получении диплома — если нельзя будет лучше, то от Ив. Григ. Виногр. помощника столоначальника с 500 р. сер. в год), но к чему же, если все равно он может взять у Ив. Гр., заставлять брать эти деньги у себя, чтобы ждать их полгода или 9 месяцев.
Естественно, что ему хочется брать у Ив. Гр. как можно меньше; потому нельзя сказать, чтобы у нас денег когда-нибудь не было, но всегда их в обрез. Это имеет свою хорошую сторону. Я даже рад этому отчасти.
Поэтому я думаю, что Вам лишних денег присылать мне не нужно. Пока я не напишу о том, что обстоятельства переменились, я попрошу вас посылать мне чрез 2 недели (2 раза в месяц) по 10 р. сер. (т. е. в два раза по 20 руб. серебром в месяц), в первый же раз выслать их в том письме, которое Вы будете отправлять по получении этого (то есть в письме 11 марта), потом в письме 25 марта и так далее.
Доволен ли, впрочем, я тем, что живу с Ал. Фед—ем? Причин к неудовольствию никаких нет решительно. Характер его вы знаете. Он человек прекрасный. Держит себя как нельзя лучше. У нас всегда спокойно и тихо. Конечно, иногда досадно бывает, что он ходит по комнате и мешает, но из этого вы можете заклю-
117
чить, как велики поводы к неудовольствию с его стороны, если это самый важный, хоть и не слишком частый. Живем мы совершенно дружно. Говорим очень мало, потому что как-то не говорится.
Прощайте пока, милая маменька и милый папенька! Не пересказывайте этого.
Целую ваши и бабенькину. ручки. Сын Ваш Николай.
P. S. Славинский (племянник или брат Лавровского) ничего не говорит.
P. S. В понедельник был у Терещенки. Туда на несколько минут заезжал и Стобеус. На будущей неделе я у него буду. Замечательного ничего не говорили.
Целую ручку у своего крестного папеньки.
Кланяюсь Алексею Тимофеевичу, Якову Феодоровичу, Анне Ивановне, Василию Димитриевичу и Марье Феодоровне.
61
РОДНЫМ
8 марта 1847 г.
Милый папенька и милая маменька! Получил ваше письмо от 24 февр.
Благодарю вас за деньги, милые мои папенька и маменька.
Теперь я жалею, что написал вам прошлое письмо. Теперь обстоятельства так переменились, что не нужно было бы посылать его. Конечно, и теперь другие не узнают того, что там написано, а все лучше было бы не писать.
Алек. Феодорович получил из дома 33 рубля сер. и ныне же получит здесь 25 р. сер. Таким образом, он не будет должен оставаться в долгу по окончании курса.
Потому все, что я писал, излишне и не нужно.
В следующем письме я получу от Вас ответ, ехать ли мне или нет в Саратов на вакацию; тогда напишу и о деньгах.
Покорно благодарю Вас, милый папенька, что Вы исполнили мою просьбу.
О Каткове до сих пор я ничего не слышал. Может быть, что-нибудь узнаю, тогда напишу.
О Ключареве я также знаю очень мало. Он теперь в 3 курсе юридич. факультета. Жив и здоров. Живет, кажется, без нужды. Я с ним виделся всего три или четыре раза в университете в коридоре и то мельком.
Ha-днях мы переменяем квартиру; но куда переходим, этого не могу еще написать, потому что до того самого времени, как совершенно перейдешь куда-нибудь, не знаешь, на эту ли квартиру перейдешь или на другую.
О том, что я был у Терещенки, я, кажется, писал в прошлом письме. Был у Олимпа Яковлевича. Кроме того, что был, что го-
118
ворили о том, о другом, что тогда было и занимательно, а того, чтобы писать, не стоит, нечего сказать.
Афанасия все решительно не хвалят. Что-то будет он делать в Саратове. Это, говорят, порядочная язва. Он величайший езуит. С помощью его, главным образом, Протасов удалил Филарета московского. Он приискивал придирки в словах и мнениях Филарета, находил несообразности его мнений с гражданскими и церковными законами и растолковывал это Протасову, который после орал в Синоде. Впрочем, Вы это, я думаю, знаете. Говорят, что здесь и в Пензе ректором он вел жизнь не слишком воздержную. Распространяться об этом я не буду, потому что такие распространения Вам неприятны и, главное, потому, что в Саратове есть люди, которые знают это хорошо, и от которых Вы, вероятно, уже услышали; но написать на всякий случай должен, потому что могут легко быть такие случаи, что необходимо знать и остеречься.
На 6 неделе вел. поста лекции у нас кончаются; я буду, вероятно, на страстной неделе говеть.
Писать о том, что к нам приехал новый профессор, по кафедре славянских наречий, Срезневский, из Харькова, я откладывал с письма до письма, так что теперь нельзя этого назвать и новостью. Он хорош, конечно.
Диссертации на медали пишут (т. е. могут писать) студенты всех курсов, но обыкновенно пишут студенты 4-го, часто и 3-го.
Что еще написать, решительно не могу вспомнить.
Прощайте пока, милый папенька и милая маменька. Целую у бабеньки и у вас ручки.
Сын Ваш Николай.
Свидетельствую свое почтение своему крестному папеньке, Анне Ивановне, Алексею Тимофеевичу, Кондратию Герасимовичу, Николаю Ивановичу, Якову Феодоровичу, Василию Димитриевичу и Марье Феодоровне, Авдотье Петровне и Прасковье Ивановне.
Милая сестрица! Вот если когда нечего было писать, так это, верно, уже теперь. Ровно ничего не могу придумать. Начну, впрочем, с погоды. Там, вероятно, разговор и завяжется и пойдет.
Погода в Петербурге хороша. В первых числах марта было все 10 — 15 градусов, и вдруг в ночь переменилось, и теперь дня три в смертную голову тает. Теперь холодов уже не должно быть, а будут дожди (о туманах я не говорю: они и зимой, и летом стоят в Петербурге, зимою, кажется, еще больше).
Нынешняя зима была здесь очень хороша. Всего не больше 12 дней можно было набрать, в которые было больше 10 градусов холода. Как 15 — 20 градусов, так и стоит туман. Снегу было довольно много. Ветров не было или не было слышно в Петербурге за четырехэтажными домами.
Вот кончил историю о погоде. А дальше что-то опять не
119
клеится. Так, верно, и будет этот полулистик исписан тем одним, что не пишется.
Напишу от нечего писать хоть о том, что нечего писать и о Федоре Ивановиче Гейнцене, потому что он у меня до сих пор не был, хоть и обещался; верно, все было некогда, хлопотал по своим делам.
Ну, вот теперь уже ровно ничего не могу написать, кроме жалобы на тебя за то, что в последнем письме ни ты, ни Саша ничего не писали.
В желании и ожидании, что ты в другой раз не пропустишь ни одного письма, остаюсь, чем и прежде был.
Прощай, целую тебя, милая сестрица.
Милый Сашенька! Не пишешь ты мне, не хотел бы и я тебе писать, но не могу: я должен сообщить тебе, что здесь начали или начинают люди высшего тона и тонкой политики писать так, как вот я пишу тебе это письмо. Начинают с углов, дописывают по порядку до того, что края строк встречаются и образуется в средине страницы род шестиугольника. Потом начинают писать в этом шестиугольнике. Советую тебе употреблять этот способ письма. Прекрасно, тем более, что он избавляет от необходимости читать все письмо. Дело пишут в одной только средине. А углы бывают обыкновенно исписаны тем вздором, без которого не может обойтись письмо, хоть его никто и не читает, как то: поздравлениями с Новым годом и тому подобными торжественными событиями, поклонами, уверениями в своей искренней готовности всегда услужить, чем только возможно, и проч. Средина (8 угольн.) записывается различно, смотря по содержанию письма. Если, напр., письмо твое довольно неприятного содержания, ты отказываешься сделать то, о чем тебя просят, то пишут так: строка вдоль, строка поперек посредине, так что образуют
![]()
крест так вот; потом пишут постепенно в каждой из 4 трапеций,
которые остаются между строками. Я всех этих тонкостей не знаю еще, узнаю, напишу тебе. Так, как я тебе пишу, пишут письма к близким родственникам. Желая тебе успехов во всем, кроме глупостей, подобных той, какую я тебе пишу, целую тебя. Брат твой Николай.
 NB Треугольники
читай так: 1-й слева сверху, 2-й справа, 3-й справа снизу, 4-й слева. Этот
порядок всегда. В средине прежде всего строка снизу вверх
NB Треугольники
читай так: 1-й слева сверху, 2-й справа, 3-й справа снизу, 4-й слева. Этот
порядок всегда. В средине прежде всего строка снизу вверх
, потом строка поперек в правой половине

![]()
наконец в левой вдоль
120
62
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
16 марта 1847 р.
Милый папенька и милая маменька! Я, слава богу, попрежнему здоров. На этой неделе в среду был у протоиерея Славянского. Он мне понравился. Там был родственник Лавровского, который говорил, чтобы я был с ним у Лавровских. Я сказал, что с большим удовольствием. Был у меня, наконец, Федор Иванович Гейнцен. Я не знаю, сказывал ли он вам, зачем, главным образом, он едет в Петербург? У него был сын в Медицинской академии, который год или два назад, тотчас по окончании курса, женился, ничего не сообщивши об этом отцу, и потом поехал в полк, куда был назначен, и писал оттуда ему, ничего не упоминая о том, что он женат.
Федор Иван. случайно узнал, что он женат, конечно, ужасно встревожился этим, думая, что он взял жену, бог знает, откуда, если уже не смел написать, и решился ехать сюда отыскивать и разузнать, что и кто она. Долго он ничего не мог найти, наконец, нашел людей, которые сказали ему адрес тестя его сына. Он отправился к нему и нашел, что это семейство хорошее; отец отставной чиновник, получающий 1 750 пенсии, имеющий небольшой домик на Петербургской стороне. Теперь он успокоился. Сын не писал ему, потому что боялся, что Фед. Иван. скажет, что прямо по окончании курса спешить не к чему, должно подождать года два-три, осмотреться. Семейство понравилось Фед. Ивановичу.
На квартире мы пока прежней. Но на-днях переменяем; адреса новой еще не напишу, потому что хорошенько не умею и потому еще, главное, что неизвестно, перейдем мы на нее или другую.
Переменяем для того, что эта квартира удобнее для занятий.
Здесь (на настоящей квартире) одна комната темная. Зимою, когда смеркалось в 3½ и 4 часа, это было все равно, потому что вечер все равно весь должно сидеть при свечах. Но теперь смеркается все позднее и позднее, вечера делаются меньше и меньше, а поэтому и то, что комната темная, делается более и более заметным и неудобным; нам нужно необходимо, особенно теперь, когда приближаются экзамены, и мы оба будем все вечера дома, две комнаты, а нашу вторую нельзя назвать удобною для занятий днем.
Если б не эта темная комната, то мы, кажется, всегда остались бы здесь; даже на следующую зиму, если бы можно было нанять ее, мы наняли бы с удовольствием. Но для лета она двоим неудобна.
Прощайте, милый папенька и милая маменька. Целую ручки у вас и бабеньки. Сын ваш Николай.
121
Кланяюсь своему крестному папеньке, Николаю Ивановичу, Анне Ивановне, Алексею Тимофеевичу, Кондратию Герасимовичу, Якову Феодоровичу, Василию Димитриевичу и Марье Феодоровне и всем.
На страстной неделе лекций не будет; я, должно быть, буду говеть.
Целую вас, милые мои сестрицы и братцы; дела довольно много, потому пустяков писать некогда.
63
РОДНЫМ
22 марта 1847 г.
Суббота страстной недели, 9 часов утра.
Милый папенька и милая маменька! Довольно много грусти принесло мне известие о смерти бабеньки. Что писать об этом, я не знаю даже. Как смерть старших в доме удаляет еще более друг от друга родственников, которые связывались чрез них: умерла бабушка Мавра Перфильевна, и семейство Николая Ивановича стало для нас как бы чужим.
Страстную неделю я говел. Ныне у поздней обедни причащаюсь св. таин. Исповедаюсь пред обеднею, должно быть, у отца моего товарища по университету, протоиерея Славинского. У них в церкви (Пантелеймона) я бывал большею частью; только вместо заутрени я ходил ко всенощной в 3-ю гимназию или Мариинскую больницу. Заутрени бывали здесь до пятницы и в пятницу в 6 часов, ныне только в 4 часа; но я просыпал всегда их, привыкши вставать в 7 — 7½ часов.
Чрез 17 — 16 часов светлое воскресенье. Не знаю, где я его встречу. Должно быть, также у Пантелеймона.
Был в среду у Стобеуса. Он все спрашивает о Любиньке, говорит, что он думал бы, что за Сахарова можно и должно отдать. Человек он прекрасный, жалованья получает 1 200 рублей: в Саратове можно жить. Что близорук он, как вы пишете, это не беда; человека, отдать за которого не представляло бы никаких неудобств, [найти] нельзя.
Лавровский, как смеются у Славинских, в каждом письме пишет о новой невесте и просит у матери в каждом письме благословения на новую свадьбу.
Почта начинает запаздывать. Прошлая, должно быть, запоздала 12 — 18 часов, письма были доставлены в университет после обеда в субботу. Нынешняя должна запоздать еще больше, потому не дожидаюсь для отправки этого письма получить ваше от 11 марта; а мне его хотелось бы получить поскорее, чтобы узнать, как располагать собою и своим временем.
На пасху в среду напишу Феодору Степановичу. Больше, кажется, не к кому. Потом, должно быть, еще в Аткарск.
122
Что Кир. Мих. Колумбов переведен в Москву прокурором, это вы, я думаю, давно уже знаете.
В письме от 4 марта вы пишете, что перемены квартиры беспокоют вас. Много беспокоиться, мне кажется, не должно об этом. Конечно, неприятно перевозиться, но что же делать! Эта квартира была удобна для зимы, когда, главное, нужна квартира теплая; что одна комната у нас была светлая, это было не слишком неудобно, во-первых потому, что до 3½ часов нас не бывало дома, а в 4 — 5 было уже темно, потому все равно нужно было сидеть при огне; второе — Алекс. Феодор. тогда в две недели 8 — 10 вечеров не бывал дома, из остальных 2 — 3 также не бывал я; потому дома вечером почти всегда был один кто-нибудь из нас; а теперь подходят экзамены, нужно приготовляться; Ал. Ф. всегда будет дома, про меня нечего и говорить; лекций нет больше, мы целый день дома; вечера начинаются в 7½ часов, чрез месяц будут начинаться в 8 — 8½, и квартира, удобная зимою во время лекций, теперь неудобна. Найденные нами квартиры (на которую перейдем, напишу) все хороши тем, что две комнаты наши не имеют между собою непосредственного сообщения; потому мы друг другу (особенно А. Ф., который имеет привычку, приготовляясь, читать вслух мне) не будем мешать.
Поверьте, что вам беспокоиться нечего: да и об чем? Слава богу, кажется, у меня не такой характер, чтобы мне опасно было то, что обыкновенно бывает опасно молодым людям в Петерб[урге]. Да вспомните, что ведь если и бывает опасно, то не в таком положении, как я.
Не знаю, это ли заставляет вас опасаться за перемену квартиры? Если это, то сделайте милость и не думайте об этом, потому что такие опасения ни к характеру, ни к положению моему нисколько не идут.
Если вы так мало на меня надеялись, то зачем же было оставлять в Петербурге и одного? Отвезли бы в Казань, где гораздо хуже во всех отношениях, но, может быть, тогда вас успокаивало бы то, что там были Колумбовы.
Нет, я думаю и жалею не об этом, а о том, что так у нас все устроено, что мало средств и времени заниматься серьезно, пока (да и то не знаю, можно ли и тогда) не будешь самостоятельным, ни от кого не зависящим человеком, как по отношению к деньгам, так и по отношению к распоряжению своим временем. В университете, кроме вершков, ничего не нахватаешься. Столько предметов и так мало времени.
Не знаю, не лучше ли б я сделал, если [б] оторвал последний полулистик?
Прощайте, милый папенька и милая маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую вас, милые сестрицы и братцы. Кланяюсь всем.
123
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
СПБ. Суббота, 29 [марта] 1847 г.
Христос воскресе, милые мои папенька и маменька!
О своей поездке в Саратов я напишу настоящим образом в следующем письме, когда переговорю хорошенько об этом с инспектором и кем еще будет нужно.
А теперь я думаю вот что.
Экзамены начнутся у нас со 2 мая и будут продолжаться до 8 июня; я попрошу, чтобы мне позволили сдать их, не дожидаясь дней, в которые будут экзаменоваться мои товарищи, а раньше, пользуясь всяким присутствием профессора в университете. Таким образом я надеюсь сдать их к 15 мая. Это, кажется, позволят без хлопот, но если будет нужно, то Ал. Яковл. Стобеус попросит Мусина-Пушкина.
Попутчики найдутся, об этом беспокоиться нечего.
Теперь напишу о том, как я провел эту неделю.
В субботу исповедался и причастился св. таин; исповедался у протоиерея Пантелеймоновской церкви Славинского. После обедни обедал у них.
Пасху встретил у Ив. Григ. Виноградова, так весело, как и не думал. Здесь ранняя обедня отошла в 3 часа; в четвертом мы разговелись, потом легли уснуть; в 9 пили чай. Мне было очень приятно, что встречал пасху в кругу добрых и радушных людей. Это начало сделало меня веселым на всю светлую неделю.
Был у Колеровых. Прасковья Алексеевна была немного нездорова — простудилась. Но теперь, я думаю, уже и выздоровела.
Был два раза у Ал. Яковлев. Стобеуса. Он едет в Саратов, но сам еще не знает, когда именно, может быть в начале мая.
Был у Петра Ивановича Промптова, но не застал его. На-днях побываю опять.
Был у Ал. Петр. Железнова. Ha-днях (ныне или завтра, должно быть) он зайдет за мною, чтобы вместе отправиться к Ив. Григ. Железнову.
Нет, не говорите, здесь люди все такие же добрые и прекрасные по большей части, стоит только узнать их, — с первого взгляда, это правда, все они кажутся медведями или лисами.
Был два или три раза у Олимпа Яковлевича. Про него нечего и говорить. Говорят, что он слишком много говорит, зато все от чистого сердца, притворства от него уже нечего и ждать. Я у него бываю очень охотно.
О Егорушкином деле я теперь еще не знаю, чрез кого справляться — Штанге, который справлялся, уехал правителем канцелярии губернатора в Воронеж. Я думаю, что найду кого-ни-
124
будь. Кажется, один из товарищей Ол. Яков. в военном министерстве.
Пасху провел я почти всю дома, за исключением этих посещений, но провел ее в веселом расположении духа, большею частию оттого, что приятно встретил.
На квартире мы все еще на прежней и не знаем, переменим ли ее или нет — она довольно неудобна, но дело в том, что удобнее что-то мало встречается — у нас слишком прихотливы требования — для других где-нибудь фортепьяно под боком бренчит день и ночь, или в соседней комнате беспрестанно говорят — и дела нет — это, говорят они, еще приятное развлечение; а нам это хуже бог знает чего.
Прощайте пока, милые мои папенька и маменька. Целую вашу ручку.
Сын ваш Николай.
Посылаю в этом письме письмо Кондратию Герасимовичу.
С этою же почтою пишу своему крестному папеньке.
Поздравляю с светлым воскресеньем Анну Ивановну, Николая Ивановича, Алексея Тимофеевича, Марью Феодоровну и Василия Димитриевича, Якова Феодоровича, Авдотью Петровну, Авдотью Яковлевну, Прасковью Ивановну и всех своих знакомых и родственников.
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
Милые мои папенька и маменька! Ha-днях я был у Славинских. Там мне сказали, что Ив. Ал. Лавровский просит к себе в Саратов жить свою старшую сестру и что не угодно ли мне ехать в Саратов вместе с нею: ей выезжать все равно когда-нибудь, в половине ли мая, в половине ли июня. Я сказал, что очень рад; на-днях буду у Лавровских.
Как скоро выеду, я еще не знаю. Как-то еще не удалось поговорить в университете с кем следует. Экзамены, впрочем, теперь у нас расположены так:
Мая 6 славянские наречия, экзаминатор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Срезневский
» 8 греческий язык » . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Соколов
» 14 история (древняя) » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Куторга
» 21 психология » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Фишер
» 24 церковно-слав. язык » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Касторский
» 29 русск[ая] словесность » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Никитенко
Июня 2 богословие » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Райковский
» 4 римская словесность » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Шлиттер
» 6 римские древности » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Шлиттер
125
Но, должно быть, это еще переменится: большая часть говорят, что мало (3 дня только) на богословие, и потому хотят переменить порядок. Но все равно переменится только порядок экзаменов, а все равно они начнутся и кончатся 6 числа.
Я думаю, что буду держать их раньше.
Перечитываю ваше письмо от 18 марта и отвечаю.
Квартиру К. Мих. Колумбова в Москве напишите мне: я должен, конечно, быть у них. Даже если и не буду знать ее, выезжая отсюда, то в Москве отыщу.
Что квартира довольно неудобна и почему, я уже писал вам; переменить ее, верно, уже не переменим; разве попадется другая удобнее. Таких пустяков, как то, на одной или нет квартире живем мы, ни у кого нет охоты замечать. Здесь живите как угодно, никому решительно дела нет, никто и не знает и не хочет знать. Если внимание начальства устремлено на что, так это на то, по форме или нет ходят студенты — больше ничего не нужно, да и это нужно потому только, что у царя и великого князя под глазами. Вечно, когда идешь из университета по Невскому, придется два или три раза отдать честь.
О том, чтоб я торопливостью не испортил экзамена, не думайте. Если дурно сдам его, то не от торопливости и не от чего другого, а просто потому только, что сам за себя, а не другой должен сдавать. Впрочем, это нисколько не вероятно, я об этом не беспокоюсь, не беспокойтесь и вы.
В филологическом факультете дело неслыханное почти, чтобы сдавать и не сдать экзамена. Кто думает, что не сдаст, и не сдает (это, впрочем, один, много два из 25 человек, и то по особым причинам: например, у нас двое не будут на экзаменах, потому что поступили после масляницы, когда лекции почти прочитаны: им довольно трудно приготовиться, и потому они избавляют себя от этого труда).
Терещенко очень хорош со мною. Я писал о поездке его. С тех. пор еще не виделся с ним.
Стобеус, конечно, ничего; волос не рвет, а причесывает по-прежнему, но чуть как-нибудь намек — отворотится, да и утрет глаза. Терещенко даже не может вспомнить без слез об Авдотье Евгеньевне.
Странно это мнение, что лучше жить ученикам всем вместе. Тут, видите, и надзор легче и проч. и проч. Это правда, да выходит-то что-то не так; хоть в Саратове: на квартирах множество учеников не пьют вовсе ничего, гораздо более половины, может быть 4/5 хорошо держат себя, а в корпусе очень трудно найти не пьяницу, — правда, в собственном смысле пьяниц, т. е. таких, которые бы постоянно были пьяны, немного: средств, т. е. денег, а вовсе не свободы (ее всегда легко найти), нет. Но все они алчут быть пьяницами, пьют и напиваются всегда, когда есть средства или случай, и современем будут постоянно напиваться (выра-
126
жаясь философски, немного пьяниц actualiter, но все почти пьяницы virtualiter). То же самое и в других отношениях. Сверх того, 400 — 500 человек не поместиться в профессорских квартирах. Это значит будет надобно набить все, как сельдями, а и так уже очень тесно жить в корпусе ученикам. А бедные профессора? Ведь квартира не шутка. А бедные отцы? Ведь 120 платить (да еще одевать), ведь большей части очень тяжело. Ведь вы знаете, как эти вещи в Саратове делаются.
Продолжайте мне писать в университет. Во-первых, потому, что почтальоны иногда очень долго не приносят на квартиру письма (раз, вместо субботы, или лучше, пятницы, я получил его в среду), во-вторых, я не знаю хорошенько, переменим мы или нет квартиру.
Ал. Яковл. вам кланяется. Прощайте. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Напишите об архиерее: я буду знать про себя.
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШКВСКИМ
12 апреля 1847 г.
Милые мои папенька и маменька! В четверг я спрашивал Александра Ивановича, нашего инспектора, о том, как бы мне сдать экзамены пораньше. Он сказал, что об этом надобно просить непременно попечителя, без него нельзя, а ему должно представить уважительную причину. Это меня заставило призадуматься. Я думал, что это зависит от профессоров, на которых я надеялся, что они, если я попрошу их, позволят. А Пушкина просить, если бы я надеялся твердо, что он позволит, мне не хотелось бы. А ведь очень может быть, что и не позволит. У него и того, что он должен по закону позволить, так что если не позволит, то можно жаловаться, и его заставят позволить, не скоро допросишься, а этого уже и вовсе. Кроме этого, надобно обманывать: ведь то, что надобно ехать домой повидаться, не причина. А обманывать мне не хотелось бы, хоть лучшего он и не стоит. Правда, Александр Яковлевич Стобеус хотел просить его, если нужно; да все лучше бы не просить и Ал[ександра] Яковлевича, если можно. И кто знает, может быть (и вероятно) он не так хорош с Пушкиным, чтобы ему обращаться к Пушкину с просьбою ничего не значило.
Поэтому я уже не хотел бы просить о том, чтобы экзамены позволили мне сдать раньше. А если не сдавать их раньше, то не знаю уж, стоит ли того, чтобы ехать. Тогда отсюда я выеду 6 или 7 июня, а здесь опять должен быть 14 или 15 августа (так в 1846 году начались лекции, так, должно быть, начнутся и в ны-
127
нешнем). Приехать после начатия лекций мне бы не хотелось, а еще больше не захочется этого вам. Потому дома жить мне приведется 6 недель. Приеду я около 18 июня, уехать должен не позже 3 августа.
Был я вчера у Александра Власьевича Терещенки. Он говорит, что мне вовсе не должно ехать домой, разве на следующий год. Это так. Поездка в Саратов будет стоить 80 — 100 р. сер., а здесь прожить два месяца эти 35 — 40. Я теперь уже почти и передумал. Кроме того, вакация все пройдет не так задаром, как тогда, когда я поеду в Саратов. Конечно, и мне не то что не хотелось быть в Саратове, это уже нечего говорить, да уж я не знаю, как. А главное — вам, может быть, хочется повидаться со мною; если же не это, я не знаю, должно ли ехать.
У Стобеуса я был в четверг. Он не совсем здоров.
Ответ на это письмо я должен получить около 10 мая. До тех пор не стану просить, чтобы позволили раньше сдать экзамены. Если вам угодно, чтобы я сдавал экзамены раньше, напишите. В пять дней по получении вашего ответа я сдам их. Но в таком случае напишите еще письмо, которое можно было бы показать Пушкину. Если же вам угодно, чтобы я выехал 6 июня, то выгода вот какая: просить никого не нужно, а можно мне прожить дома до 20 — 25 или даже дольше августа. Не думайте, чтобы потеря была велика. Ведь теперь, слава богу, средство образования настоящее не лекции, а книги. Прошли уже времена, когда не было книг, и тысячи шли за Абелярдом в пустыню. Теперь у Раумера два слушателя. Да и справедливо. Больше и лучше экспромтом он не прочитает, нежели написал. Все университетское учение (то есть лекции) существенной пользы не приносит, а что я три недели или месяц просрочил, это никому и не будет заметно. Но если я буду просить о том, чтобы позволили мне ехать раньше надлежащего, то обязываюсь явиться аккуратно, когда следует.
Правда, что я говорю? Вам самим не будет приятно, если я проживу дома столько, что приеду по начатии лекций.
Так я теперь располагаю ждать вашего ответа, между тем ни о чем не просить, а на всякий случай приготовиться так, чтобы мочь сдать экзамены, если вам угодно, тотчас по получении ответа.
Я написал это письмо глупое, но уже зарань обдумать и написать я вовсе не умею. Сколько раз я принимался писать зарань — напишу, положу в ящик, перед отправлением на почту прочитаю и увижу, что так глупо написано, что мочи нет, возьму и изорву или положу в сторону, а сам напишу новое, такое же бестолковое и глупое, но которого прочесть нет уже времени, все равно, как нет времени прочесть и этого; это непрочитанное уже и отправляется, а если бы прочитал, то и не отправил бы.
Не думайте, чтобы мне не хотелось быть дома или хотелось бы сколько-нибудь остаться в Петербурге: вовсе нет; если бы я располагал собою, то прожил бы дома все время, пока приготов-
128
люсь сдать экзамен на кандидата: да ведь, конечно, так не делается, так что и говорить.
Так вот что: если собственно вам хочется, чтобы я был в Саратове, то, конечно, я поеду; а если вам не очень много самим этого хочется, а вы это для меня, так уже лучше я останусь здесь на этот год.
Сделайте милость, как вам угодно, мне что-то кажется, что всегда как я что сделаю по своему желанию или по своим планам, то выходит глупость, и я всегда после за все браню себя, что бы ни сделал. Если вы напишете: делай, как хочешь, так поеду я — стану бранить себя года полтора, не поеду — тоже опять стану года полтора бранить себя. Уже лучше не полагайтесь на меня и не принимайте в расчет того, что и как мне хочется: ехать или не ехать, сдавать или [не] сдавать раньше экзамены — я и сам не знаю — знаю только, что все, что я сделаю сам, все выходит глупо, а напишите, как вам угодно.
Прощайте, милая маменька и милый папенька. Простите меня, если я этим глупым письмом огорчил вас. Целую вашу ручку. Сын ваш Николай.
Кланяюсь своему крестному папеньке, Николаю Ивановичу, Анне Ивановне, Кондратию Герасимовичу, Якову Феодоровичу, Алексею Тимофеевичу, Василию Димитриевичу и Марье Феодоровне.
Целую вас, милые братья и сестрицы. Не успел написать вам ничего, да и нечего; так и быть.
Ах, да, пустое писал, а что нужно забыл: добрый Олимп Яковлевич справлялся о Егорушкином деле: пенсия уже назначена, разумеется, 100 р. асс., 22 февр. послано предписание в Саратов губернатору. Вы уже, стало быть, это знаете. Был 2 раза у П. Ив. Промпт., не заставал его дома, а Алекс. Ильинишне тоже, я думаю, уже назначена пенсия, и послано давно предписание выдавать ее.
67
РОДНЫМ
Суббота, 19 апреля 1847 г.
Милые мои папенька и маменька! Прочитал новость, которую вы сообщаете мне в письме вашем от 1 апреля. Рад ли я ей или нет, нечего и говорить. Что же вы ничего не пишете, когда и как началось это, когда по вашему теперешнему рас[по]ложению кончится?
С тою же почтою получил я письмо от Ивана Григорьевича, в котором он, извещая о том же самом, просит справиться о положении его дела у секретаря в Синоде, Бирюковича, к которому, как он пишет, он со следующею почтою отправляет письмо. Я дол-
9 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
129
жен подождать, пока это письмо будет получено Бирюковичем, и так как почта со дня на день приходит все позднее и позднее, то отправлюсь к нему во вторник или среду (22 или 23) и в среду же надеюсь написать ответ Ивану Григорьевичу.
Уже, конечно, такой интересной новости, как сообщили вы мне, я вам сообщить не в силах, но и у нас есть довольно приятная: Анна Димитриевна Колумбова в половине мая будет сюда, не знаю, надолго ли (вероятно, на несколько дней). Разумеется, как узнаю о приезде ее, я отправлюсь к ней. Впрочем, я думаю, Ступины уже говорили вам об этом. Александр Феодорович, который так же, как я, слава богу, жив и здоров, делал новые справки о Дмитрий-Емельяновичевом деле. Нового, впрочем, кажется, ничего не узнал.
Постепенно все спуская интересность своих новостей, наконец, сообщу вам и несколько любопытных фактов о погоде, о которой так давно уже не писал. Нева, к нашему величайшему прискорбию, еще не разошлась; мы продолжаем, ругая ее, ходить по твердо еще стоящим мостам в университет. Увы, но надеемся, что когда-нибудь пойдет и Нева, и мы избавимся от хождения во святилище наук, куда так влечет нас наше любознательное сердце.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Кланяюсь своему крестному папеньке, Анне Ивановне, Николаю Ивановичу, Алексею Тимофеевичу, Кондратию Герасимовичу, Якову Феодоровичу.
Поздравляю тебя от всей души, милая сестрица. Дай бог тебе быть вполне счастливою. Целую тебя.
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
Суббота, 26 апр. [1847 г.]
Милые мои папенька и маменька! В понедельник получил ваше письмо от 8 апреля. «Христианское чтение» достану я и привезу с собою, если поеду, а если не поеду нынешний год, то пришлю с кем-нибудь; может быть, достать их будет стоить рубля полтора серебром, если нужно будет заказывать, чтобы их достать. Но, вероятно, можно будет достать дешевле.
Во вторник был в Духовно-учебном управлении, у А. П. Бирюковича; он получил письмо от Ивана Григорьевича, но все был нездоров и только что во вторник пришел в первый раз в Д. у. управление. Потому и не мог еще ничего мне тогда сказать, а велел только зайти в пятницу, обещаясь к тому времени справиться. Вчера (в пятницу) я зашел в Д. у. управление, но его там опять не было, ни в пятницу, ни, как мне сказали, в четверг: должно
130
быть, опять не совсем здоров. Побываю во вторник. Может быть, к тому времени опять явится.
В ночь с понедельника на вторник пошла Нева. Вчера был уже наведен мост, но в университете никого не было. Ныне, может быть, будет что-нибудь там.
Я, слава богу, поживаю себе попрежнему. Другим очень тяжел петербургский климат, а мне, кажется, напротив, здоров.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
P. S. Александр Феодорович вам кланяется, как и всегда; у них было два экзамена: из уголовного права, самый трудный, и из энциклопедии законоведения, Александр Феодорович сдал их очень хорошо, при попечителе; получил, разумеется, по 5, и теперь, наверное, кандидат. Попечитель на экзамене из уголовного права вызвал его сам и на обоих экзаменах остался им очень доволен.
Кланяюсь своему крестному папеньке, Алексею Тимофеевичу, Ивану Григорьевичу, которому прошу вас передать то, что я написал о его деле, Николаю Ивановичу, Кондратию Герасимовичу, Якову Феодоровичу, Анне Ивановне, Марье Феодоровне и Василию Димитриевичу.
Целую вас, милые братцы и сестрицы. Тетенька и дяденька, я думаю, будут в Саратове скоро?
69
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
Суббота, 3 мая 1847 г.
Милые мои папенька и маменька! Я, слава богу, поживаю себе жив и здоров. Ныне же посылаю письмо Ивану Григорьевичу.
В четверг был у меня Александр Петрович Железнов. Он говорит, что получил письмо от Петра Григорьевича, в котором он пишет ему, нельзя ли найти мне попутчиком какого-нибудь комиссионера. Он говорит, что не советовал бы мне ездить с ними, потому что они по большей части люди ненадежные и неприятные спутники.
Если вы только не переменили своего желания, чтобы я приезжал ныне в Саратов (я чего желаю, ехать или не ехать, не умею сказать), то о попутчиках не беспокойтесь, найдутся и без комиссионеров.
Что еще писать, кроме того, что я, дожидаясь вашего ответа на то свое письмо, в котором, спрашивая снова вас, ехать или не ехать, ничего не говорил пока ни Ал. Як. Стобеусу, ни университетским, и что скоро начнутся экзамены, я не знаю.
9*
131
Ни у Бородухиных, ни у Черепановых я не был, простите уже меня, потому что мне вовсе не хочется заводить здесь знакомых, к которым должно отправляться с визитами и сидеть молча и скучая, или, если говорить, то о вещах еще более скучных. Так, если бы эти знакомства были полезны, а то эти могут только доставить бесполезную потерю нескольких часов на скуку и нескольких целковых на белые перчатки и завивку. Простите уже меня, мне что-то вовсе не хочется бывать у них и терять время.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Кланяюсь своему крестному папеньке, целую у него ручку, кланяюсь Анне Ивановне и всем.
Сейчас получил ваше письмо от 17 апр[еля.] Слава богу.
70
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
9 мая [1847 г.], пятница.
Милые мои папенька и маменька! Давно уже я не писал вам, как следует, письма. Бог знает, как приходилось все: то весь вечер (пятницы) и все утро (субботы) пробудет у нас кто-нибудь, как, например, в прошлый раз Иван Васильевич Писарев просидел у нас утро, а Михайлов — вечер, то я сам не буду вечером дома или должен быть часов в 10 утра где-нибудь; так все и было решительно некогда. А уже зарань писем я не могу писать: как успею прочитать, что написал, изорву или оставлю у себя, потому что все выходит не так.
Вот теперь, наконец, собрался писать, как следует, и напишу, не знаю только опять, пошлю или нет.
В 12 часов в субботу получил я ваше письмо (нет, уже перерву, чтобы не оставлять вас в сомнении, и скажу, что пока экзамены идут хорошо). Мы условились накануне, чтобы я зашел к Михайлову, который станет дожидаться меня, и чтобы письма свои отправить вместе. Таким образом, я не успел ничего приписать к своему письму, кроме того только, что получил и прочитал ваше письмо от 22 апреля.
Воскресенье обедал я у Железновых. Сам Иван Григорьевич уехал на несколько дней в деревню.
Во вторник был экзамен у И. И. Срезневского из славянских наречий; шел вообще очень хорошо; на несколько времени заходил попечитель и Плетнев; попечитель сказал, что благодарит Измаила Ивановича, что очень доволен; тот отвечал, что если экзамен идет хорошо, то должно благодарить гг. студентов. По окончании экзамена он (один, попечитель уже ушел) опять сказал, что он благодарит нас, что он даже не надеялся, что экзамен будет так хорош. Мы попросили его показать баллы; он сказал,
132
что он сейчас будет при нас переносить их из своего чернового списка в беловые, и что если мы думаем, что кому-нибудь поставлено больше или меньше надлежащего в черновом списке, то он готов переменить. Мы, конечно, просили увеличить баллы у тех, кому мало поставлено, и таким образом из 13 человек (один не был на экзамене) у одного только осталась тройка; всем прочим, у кого было 3, переправили на 4. Полные баллы получили 7, в том числе Славинский и я (мы были вызваны последними).
Это порадовало нас. Еще более порадовал четверг.
Пришли мы на экзамен в четверг с сердцем веселящимся: Иван Яковлевич свой человек; о том, что экзаменовать будет Грефе, а не он, мы не думали: это никогда не бывало. Видим, Грефе в дежурной комнате (где бывают профессора до того времени, пока пойдут по аудиториям). Мы предполагаем, что он пришел на экзамен к Фрейтагу, у которого бывает часто на экзаменах: у Ивана Яковлевича бывает он очень редко. Вдруг со страхом слышим, что он идет по коридору с Иваном Яковлевичем: очевидно, что он идет экзаменовать нас; покрылись льдом, холоднее ладожского, который накануне шел по Неве, сердца наши: страшный человек Грефе! Во-первых, он добрый человек, очень добрый, но вспыльчив до невероятности, хоть ему уже и более 70 лет (он учитель Павского, Кочетова, Моисея саратовского и потом грузинского), а. что было прежде, смолоду, говорят, невозможно и вообразить; и теперь случается, что бросает книгу на пол, стучит ногами или закричит: Abi ad malam rem* (читают они с Фрейтагом по-латине, экзаменуют также); потом он чрезвычайно любит этимологию — что, как, почему, что это, а это как? и проч. Без неправильных глаголов ему было бы дурно на свете, а мы обыкновенно знаем свои слабые стороны, а эта слабее всех.
Но экзамен шел чудесно; Грефе ни разу не остался недоволен: говорил и по-латине и по-немецки, даже и по-русски (ну, да). Раз пять смеялся, что с ним случается редко, по окончании экзамена сказал: Contentus sum, manete in hac via, laetor** и проч.
Ну, у него мы уже не посмели спросить показать баллов; дождались субинспектора, которому передаются списки: ни одной тройки даже! 7 полных баллов и 7 четверок (нас 14 человек), или, кажется, 8 полных баллов и 6 четверок. Это удивительно. Такого экзамена давно уже не бывало ни у кого, не то что уже у Грефе. Мы сами не постигаем, как это могло быть. До экзамена каждый из нас был уверен, что не получит 4-х у Грефе. Это даже странно. Если бы все экзамены сошли так, как эти два. Впрочем, теперь остается опасен только Куторга, который иногда оставляет в курсе — другие никогда не захотят, чтобы вы из-за них остава- лись, кроме Фрейтага, который ни за что, ни за миллионы не поставит больше, чем следует. Но теперь нам у Фрейтага не экзаменоваться еще. Да и вообще у него экзамен мало принимается в расчет, а больше то, каково вы отвечали и переводили ему в продолжение года. Если счастливо пройдет еще Куторгин экзамен, то верно, что никто не останется в курсе. Да, вероятно, так и будет.
У меня пока баллы полные, что дальше будет. Должно только сказать, что эти баллы теперь не имеют прямого влияния на кандидатство: они заменяются баллами, полученными в 4 курсе, в котором пересдают экзамены изо всех факультетских предметов. Конечно, косвенное влияние их важно: они выражение мнения профессора, которое в хорошую сторону у большей части профессоров здешних легко изменяется, а в дурную с большим трудом. По этим баллам вообще образуется и мнение о студенте в университете и профессоров.
Да это все так, а главное — сюда приехала во вторник в 10 часов вечера Анна Димитриевна и остановилась у Прасковьи Алексеевны. В среду мы узнали об этом от Ивана Григорьевича Виноградова; отправились вместе с Ал. Феодор. в 5 часов вечера; ее не было, она ночевала у Переверзевых, а теперь была у Оржевских. Прасковья Алексеевна сказала, что завтра (т. е. в четверг) она будет дома; Ал. Ф. был утром. Мне утром должно было быть на экзамене, потому я отправился вечером. Анна Дмитриевна приняла так ласково, так ласково, что я не умею и сказать вам. Расцеловала, расспрашивала о вас, о всех, ну просто так очаровала, что невозможно вообразить. У ней в то время, когда я был, были еще гости. Она приехала сюда посоветоваться с доктором о своем здоровье, которое не могло не расстроиться несколько от переезда в самую дурную погоду. Она ничего почти не может есть. До вторника ее не будет дома — она должна увидеться с знакомыми — во вторник велела быть нам. Она до того любезна и ласкова, что я не знаю, можно ли еще найти такую женщину.
Прощайте пока, милые мои маменька и папенька. Допишу завтра, когда получу ваше письмо. Ныне разнесли письма в час или позже, так что невозможно уже было ныне получить с почты вашего письма от 29 апреля.
Суббота, час пополудни.
Сейчас получил ваше письмо от 29 апреля. Поздравляю милую Любиньку и Ивана Григорьевича. Дай бог им прожить весь век счастливо.
Благодарю Вас, милый папенька, за то, что Вы так отвечали на мое глупейшее письмо. Это очень хорошо, что мне не нужно будет просить о том, чтобы позволили скорее сдавать экзамены. По-
134
корно благодарю вас, милый папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Свидетельствую свое глубочайшее почтение своему крестному папеньке, Алексею Тимофеевичу, Анне Ивановне и всем.
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
Пятница, 16 мая 1847 г.
Милые мои папенька и маменька! Ныне получил ваше письмо от 6 мая. То, что Вы пишете вначале, само собою подразумевается, милый папенька.
Вы еще [не] получали, когда писали это письмо, того письма от меня, в котором я писал вам мнение Ал. Петр. Железнова о неудобствах ехать с провиантским чиновником. Я думаю, что то, что говорил он, совершенная правда. И без них можно найти попутчиков.
Я у Анны Димитриевны был два раза — больше пока не мог, потому что она слишком редко бывает дома. Завтра и все остальные дни, пока она пробудет здесь, буду заходить каждый день, как она и говорила; разумеется, часто ее не будет дома. Она полагает пробыть до 23 мая.
У нас вчера был еще экзамен из древней истории (читал нам М. С. Куторга в этот год только историю Афин от Пелопонесской войны до Демосфена: он читает себе каждый год вперед и вперед, начиная всегда с того места, где остановился в предыдущем году — у него слушают два или три курса вместе); экзамен шел очень хорошо; из 13 человек державших (один болен) только двое получили неполные баллы: один 4, другой 3. Вообще экзамены пока в нашем курсе идут очень хорошо. Мною он, кажется, остался доволен, спросил (чего, конечно, не делает обыкновенно), откуда я. Есть обыкновение у многих приготовлять начало билета лучше, нежели конец. Мих. Семенович, как человек тонкий, хорошо знает эту привычку и потому у всех спрашивал конец билета. «Оставим этот предмет; скажите об этом вот (из конца билета)». Меня не спросил.
Теперь остается пять экзаменов. Но эти пять все легче двух любых из тех трех, которые сданы уже. Никитенки и римских древностей (и тут же лат. словесн.) никто не считает и экзаменом, а так. Богословия почти тоже. Фишер строго экзаменует, но хорошо ставит и добрый человек. Касторский уже воплощенная доброта.
Теперь следует Фишеров экзамен, 21 мая (в среду).
6 или 7 июня я должен бы выехать. Поэтому (6 июня пятница) я еще успею получить ваше письмо от 27 мая. Дальше этого числа писем ко мне в Петербург уже [не] посылайте. Разве уже адресуйте на дороге куда-нибудь? В города, которые ближе
135
Москвы к Саратову, адресовать нельзя: я не знаю ведь еще, через Владимир или через Рязань я поеду; вероятно, если не найду себе здесь попутчика, и сам узнаю, как именно поеду, только в Москве.
Писать вам с дороги уже, вероятно, не буду, потому что письмо мое по почте придет после меня самого. Остается вам, если будете писать, разве адресовать в Москву, не знаю уже к Кириллу ли Михайловичу или в почтамт. Разумеется, если не найду письма у Кирилла Мих., то зайду на всякий случай в почтамт в Москве. Зайду и к Григорию Степановичу Клиэнтову. Три недели ровно остается мне до выезда в Саратов, месяц до приезда в Саратов, если бог даст.
В прошедшем письме я мало написал о том, как я рад был тому, что вы пишете, чтобы я ехал в Саратов и ехал в свое время, не прося об ускорении. Не хочется просить, особенно при этом попечителе, который прекрасный и предобрый человек, но от форм без нужды отступать не любит, да не любит и тех, которые отступают.
Прощайте. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Свидетельствую свое глубочайшее почтение своему крестному папеньке, Анне Ивановне, Алексею Тимофеевичу (Иван Васильвич Писарев также кланяется Алексею Тимофеевичу и просит его писать к себе), Николаю Ивановичу, Якову Феодоровичу, Кондрату Герасимовичу и всем.
72
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
Суббота, 2½ часа 24 мая [1847 г.]
Милые мои папенька и маменька! Анна Дмитриевна уезжает или, лучше, уехала в 9 часов утра. У нас ныне экзамен был, поэтому я не мог провожать ее; был у ней только вчера вечер.
Там пробыл весь вечер вчерашний, сидеть долго не хотелось, потому что, не выспавшись ночь хорошенько, не годится явиться на экзамен с тяжелою головою; так вчера письмо осталось не писанным, ныне утром было некогда, и вот теперь должен отправлять его позже 2 часов. Поэтому оно так и мало.
Экзамен Фишеров кончился хорошо; Срезневского (нынешний из церк.-славянского языка) тоже для меня; пока я имею полные баллы.
Прощайте, целую ваши ручки.
Или нет, я должен же полчаса дожидаться, так напишу что-нибудь еще.
Анна Дмитриевна велела мне непременно остановиться у них, не въезжая ни в гостиницу, никуда.
Попутчиков я пока еще не искал. Очень может быть, что поеду с кем-нибудь из студентов же, например с Кожевниковым, пле-
136
мянником сap. губерн., который на вакацию хочет ехать к дяде. Теперь стану искать поприлежнее; вероятно, найду здесь, а если не найду здесь, то очень нетрудно найти в Москве.
Что же ничего не пишет мне никто, кроме вас, милые папенька и маменька! Ни Сашинька, никто (может быть, в 1 письме от 13 мая и писали, но я не мог получить его с почты еще потому, что был экзамен). Был у А. Я. Стобеуса. Конечно, ничего. Он едет в Саратов, вероятно, в июле. Говорит, самому итти в монахи, не знаю как, не могу решиться, а если бы кто меня постриг без моего ведома, то я остался бы доволен.
Был у А. В. Дьяконова, не застал его дома; потом он такой добрый, заходил ко мне (мне было, должно сказать, довольно не время — это было вечером накануне Фишерова экзамена). Но все я был ему очень рад.
Удивительно мало времени. То есть не то чтобы оно все проходило в занятии, нет, большая часть идет, конечно, понапрасну, но так, что необходимо как-то ему этак пропадать, и ни сходить некогда ни к кому, ничего.
P. S. Извините, у Михайлова другая чернильница была покрыта крышкою с песочницы, и я засыпал.
Переписывать некогда.
Прощайте. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
73
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
31 мая 1847 г.
Милые мои папенька и маменька! Готовлюсь понемногу к поездке в Саратов; попутчика еще не нашел; объявлю в «Ведомостях СПБ. полиции», может быть, и явится; если не явится, поживу два-три дня в Москве, так, вероятно, найдется. Все, что только можно, я оставляю здесь у кого-нибудь, вернее всего у Михайлова, а если не у него, то у И. Г. Виноградова. Из белья почти ничего, книг тоже, как можно меньше. И шляпу, и шпагу оставляю здесь; оставил бы и мундир, но Вы, милый папенька, пишете, чтобы я привез его; легко можно измять воротник у него.
Экзамены у меня идут попрежнему; в эту неделю был экзамен из церк.-славянского языка и у Никитенки; из ц.-слав. яз. шел хуже, нежели из слав. наречий; потому что уже утомились и потому что экзаменовал один Срезневский. По его понятиям, Касторский должен был читать то, а на самом деле он читал другое, и много прошло времени, пока Срезн. понял, что именно читано.
У Никитенки недели три тому назад умер сын, которому было уже лет 8 — 10. Это ужасно поразило его, бедного; он удивительно переменился: пожелтел, глаза стали мутные, безжизненные, даже жесты его, прежде такие живые, стали вялы и медленны.
137
Послезавтра экзамен у Райковского, потом остается один Шлиттер. Пока у меня баллы полные. У Райковского на экзамене будет Евсевий, ректор Дух. академии.
Бог знает, у меня выходит какая-то несвязица в письме: это потому, что я пишу и разговариваю вместе.
О месте в дилижансе не беспокойтесь. Чемодан я возьму у Михайлова.
Вместе с вашим письмом от 20 мая получил я письмо от Ивана Григорьевича и Любиньки. Отвечать особо уже некогда, тем больше, что решительно нет времени. В Дух. учебном управлении побываю.
Получил я также письмо от Гордея Семеновича Саблукова. Он просит купить ему словарь Гиганова (русско-татарский); я все искал его, ныне только кончились поиски: решительно нет нигде; поищу в Москве. В среду пишу ему; ныне решительно не успел: до того время проходит бог знает как, что вот уже второе письмо отправляю вам не во-время, после 2-х часов, платя вдвое.
Разумеется, что я, слава богу, жив и здоров, как нельзя больше.
Покорно благодарю вас за деньги. Ныне же беру место в дилижансе.
Прощайте. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
P. S. Да, я забыл вам написать, что выезжаю 7 июня в субботу.
Свидетельствую свое почтение своему крестному папеньке, Анне Ивановне, Алексею Тимофеевичу, Якову Феодоровичу, Кондратию Герасимовичу, Василию Дмитриевичу и Марье Феодоровне.
74
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
7 июня [1847 г.] 8 часов утра.
Милые мои папенька и маменька! Ныне я выезжаю из Петербурга в 4 часа пополудни, в дилижансе 4-го заведения. Числа 10 буду в Москве. Пока я не имею попутчика, но постараюсь отыскать в Москве, где для этого пробуду, если так будет нужно, двое, трое суток, а если буду так счастлив, что сейчас найду попутчика, то не пробуду и дня.
За место в дилижансе я заплатил 77 р. асс. Ужас, как дорого. Экзамены кончились вчера. Я имею полные баллы из всех предметов. Был у Колеровых, Стобеуса, Олимпа Як., Петра Ив. Пр., Виноградова, Дьяконова.
Прощайте, милые мои папенька и маменька, до скорого свидания.
Целую Вашу ручку, милый папенька, и Вашу, милая маменька.
138
Из Москвы напишу, если не уеду днями двумя ранее почты, так что приеду раньше ее. Сын ваш Николай.
У Мосоловых побывал бы с удовольствием, но некогда решительно.
У Чертовой буду.
«Христианского чтения» за 1831 год первых частей не мог найти нигде; отыскивать не брались. Это нехорошо. «Весь Петербург в кармане» привезу.
Ныне я должен еще быть у А. П. Железнова.
Прощайте. Всего я беру с собою, как можно меньше.
Целую ваши ручки.
Денег у меня остается 11 или 12 рублей серебром.
Прощайте, до свиданья.
75
Г. С. САБЛУКОВУ
Милостивый Государь Гордей Семенович!
Получа Ваше письмо, я начал странствовать по книжным лавкам, без всякого пристрастия, не обходя ни одной: результат моих поисков пока был отрицательный: я нигде в Петербурге не нашел ни одного экземпляра Словаря Гиганова. Третьего дня был у Юнгмейстера, который почти один не был еще почтен моим посещением: то же самое: «Словаря Гиганова у нас нет, а есть только Букварь его». У Глазунова и Крашенинникова брались отыскивать этот словарь, но не отыскали нигде в Петербурге.
Не думайте, однако, чтобы я потерял надежду исполнить Ваше желание: побываю в книжных лавках в Москве, где я буду числа 10, может быть, там и найдется. Если же не найду и там, то поражу страшным проклятием наши книжные лавки, в которых нельзя ничего порядочного найти.
Так как «Семь Моаллакат и пр.» и Словарь Болдырева изданы в Москве, то их здесь также нет. Из Москвы брались их выписать, но я сам буду в Москве и куплю их там.
Ныне в 4 часа пополудни я выезжаю из Петербурга.
Прощайте, до свидания. С истинным почтением имею честь остаться Вашим покорнейшим слугою Николай Чернышевский.
7 июня 1847 г.
76
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
Москва. 14 июня [1847 г.]
Милые мои папенька и маменька! Ныне я еду из Москвы, чрез Рязань и Тамбов. До Козлова я нашел попутчика, чиновника, едущего по казенной надобности в своем экипаже.
В Москве я прожил 3 суток. То дожидался денег, то подорож-
139
ной, взять которую я мог не иначе, как только записавшись на части въехавшим в Москву.
На это также понадобились сутки.
Кирилл Михайлович и Анна Димитриевна так приняли меня, что уже я и не знаю, как их благодарить. Кирилл Михайлович был так добр, что взял на себя все хлопоты по почтамту и полиции.
Гордею Семеновичу я достал книги, о которых он писал: Словарь Гиганова, Моаллаки; и не знаю, возьму ли словарь Болдырева: говорят, он стоит 10 р. асс., я решился дать 1½ р. с., больше не смею. Не знаю, возьмут ли. Сейчас иду в лавку, узнать. «Христ. чтения» не мог достать.
Прощайте. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
77
Н. Д. и А. Г. ПЫПИНЫМ
8 декабря [1847 г.] СПБ.
Милые мои дяденька и тетенька! Около недели тому назад получил я письмо от Ивана Григорьича и Любиньки. Они пишут, что Любинька была опасно больна, но теперь, слава богу, выздоровела; что, побуждаемый, между прочим, и этим, Иван Григорьич отлагает свою поездку в Петербург по крайней мере на полгода и пока определяется служить в Саратове и, вероятно, воспользуется выгодным предложением вице-губернатора. Не знаю, что вам сказать об этом известии; я его ожидал и теперь, может быть, даже доволен тем, что путешествие Ив. Григ. сюда отлагается, хотя я и думаю, что собственно мне будет несравненно лучше и приятнее жить здесь, когда они здесь будут. Эта трудность достать здесь порядочное место заставляет задумываться. Без протекции получить место вовсе невозможно, просто-напросто невозможно; протекции? Есть ли они у Ивана Григорьича, я не знаю: следовательно, мы в своих думах о Ив. Григ. и Любиньке не можем рассчитывать на них. У Любиньки могут быть две: Кузьма Григорьич Репинский, который, кажется, настолько помнит папеньку, чтобы сделать, что может, для его родных по его просьбе; но в самом ли деле это так? Судя по его обращению со мною, внимательности к папеньке, кажется, что так, а ведь бог знает. Потом — Анна Дмитриевна и Кир. Мих. Когда я был в Москве у них, они, и А. Дм. и Кир. Мих., говорили мне, что если нужно будет ходатайство с их стороны, они сделают все, что только могут; это и без того было бы почти несомненно, судя по прежней любви их к Любиньке; но ведь опять и это все было, пока не было в них действительной нужды, а часто бывает, что вас уверяют в готовности сделать вам услугу, пока вы точно не потребуете ее; а потребовали вы — является совершенная невоз-
140
можность исполнить вашу просьбу, несмотря на всю готовность. Но Анна Дмитриевна едет нынешнюю зиму в Саратов, и положение и расположение их к Любиньке должно точнее определиться, мнение об Ив. Григор. должно образоваться; а от мнения о человеке очень много зависит в этом случае: должно быть слишком мало расположенным и почти нерасчетливым, чтобы не рекомендовать человека, если уверен, что это человек такой дельный, что, рекомендуя его, оказываешь услугу тому, у кого будет он служить; и нужно так много любви и отвержения расчетов, чтобы рекомендовать человека, если думаешь, что он не поддержит рекомендации, что я не думаю найти столько у А. Дмитриевны и К. М. Поэтому поездка А. Дм. в Саратов будет очень важна для обеих сторон; мы узнаем решительно и точно расположение А. Д. и К. М. к Любиньке и то, в какой мере можно полагаться на их протекцию; Анна Дм. образует мнение об Ив. Григ., а от этого мнения слишком много будет зависеть образ действия Колумбовых в этом деле: мнение А. Д—ы всегда есть мнение К. м—а; да и А. Д—на едва ли не более в состоянии сделать, что нужно для Ив. Гр—а, нежели сам К. Мих—ч.
Таким образом, хорошо, что Ив. Гр—ч остается в Саратове до приезда туда А. Д—ы, если (в чем я почти не сомневаюсь) помощь Колумбовых нужна будет им с Любинькою. Но кроме этого, верно то, сколько времени прослужит Ив. Гр. в Саратове, стольким же меньше нужно будет ему служить здесь до столоначальника — место, которого нельзя вручить иначе, как человеку в большой степени опытному, и которое может уже обеспечить для них жизнь безнуждную (столонач. получает 2 500 р. асс.). Таким образом, пока все к лучшему.
Что написать вам о моей жизни здесь? Я живу пока точно так же, как в прошлом году, кроме того, что живу один, а не с Александром Феодоровичем уже. Вероятно, наши уже писали вам, что мне представился случай давать уроки. Я получаю теперь 70 — 85 р. асс. в месяц, после буду получать больше. По всему видимому, этот урок останется за мною, если я захочу, конечно, т. е. если я не найду других более обильных источников дохода, по крайней мере 3 года — до поступления старшего мальчика (теперь ему 13 лет) в университет. Таким образом у меня есть верные 950 — 1 000 рубл. в год. Это пока, но со временем я надеюсь получать больше, потому что я принимаюсь пробовать путь к деньгам через свою, такую громадную, ученость: зачем скрывать светильник под спудом и лишать человечество света? За эти истории я принимаюсь с рождества и в январе надеюсь достичь какого-нибудь положительного результата. До сих пор я все мечтал, ждал вот не ныне — завтра шагнуть прямо за облака, без дальних околичностей получить тысяч сто серебром пенсиону и Андрея Первозванного, да того, что мне отведут квартиру во дворце; теперь я увидел, что на эти вещи нечего надеяться. По-
141
тому до сих пор я все ждал, да ждал; за обыкновенные средства доставать деньги десятками к сотнями только рублей не хотел приниматься, теперь — нет, увидел, что должно прибегнуть к тем же средствам, к каким прибегают и все, а что жареная утка сама мне в рот не летит. Это не так блестяще и громадно, зато здесь не будет обмана.
Это я говорю к тому, что Сашенька, по окончании курса в гимназии, что там ни будет, здесь ли уже будет Любинька и Ив. Григ., или все еще будут в Саратове (ведь осталось всего год 5½ месяцев), должен поступить в здешний университет. Если он сам захочет содержать себя, и если представятся мне средства дать ему эту возможность, и я буду видеть, что это нисколько не помешает ему таким же блестящим образом кончить курс и в университете, как, безо всякого сомнения, кончит он его в cap. гимназии, ну, он может и сам трудиться; если же нет, то у меня уже и теперь есть средства, а тем более будут они через полтора года, без отягощения себе, содержать его здесь, пока он будет в университете, и то время, какое будет нужно ему для того, чтобы держать экзамены на высшие степени. Следовательно, ни вам, ни ему, ни нашим, ни мне о нем и о том, что будет по окончании его курса в гимназии, беспокоиться нечего. Дай только бог, чтобы он был здоров. А уже это нельзя, стыдно будет ему, или хоть и мне даже, стать не больше, как учителем гимназии или чем-нибудь тому подобным: самолюбие не допустит.
А у Сашеньки такая голова, что он обещает многое. За это еще не ручалось бы то, что он лучше всех идет в гимназии: это могло бы зависеть и от того только, что другие плохи, и от одного долбления уроков, или от уменья пустить пыль в глаза; нет, у него живое, очень живое и быстрое соображение, большой ум, вообще замечательные дарования, большая проницательность.
Не знаю теперь, что Сереженька? А о Сашеньке можно не беспокоиться.
Как теперь вы, милые дяденька и тетенька? Как идут ваши дела?
Скажите, как Егорушка? Я думаю, он стал еще умнее и послушнее? Я целую тебя, милый братец. Если я поеду в Саратов на лето, привезу тебе прекрасный молоточек; или, может быть, тебе надобно теперь что-нибудь другое уже, пулю или топорик или огниву или чугунку? Ты напиши мне это; напиши, здоров ли ты, милый братец? Здесь есть дом, где льют пули и ядра; кругом его стоят пушки, а по всей улице, которая так и называется Литейная, накладены высокие кучи ядер и пуль; не дают только их, стоят кругом часовые.
Начинаю опять писать о себе.
Знакомств у меня новых почти нет, старые все остались, как прежде. Некоторые из моих приятелей подвизаются на литера-
142
турном поприще, на котором скоро может быть явлюсь и я (впрочем, это будет зависеть от обстоятельств).
Я здесь наслаждаюсь совершенным здоровьем и, по уверению всех, знающих меня, особенно тех, которые не видели меня месяц или полтора, начинаю очень и очень полнеть (т. е. толстеть), так что подаю надежды, что заменю для Саратова Осипа Ивановича.
Холеры здесь не было и до лета не будет, по уверению всех докторов; что будет летом, бог знает. Погода до 3 или 4 декабря стояла чрезвычайно теплая и довольно грязная, теперь дня три или четыре холода, и по Неве пошел лед, мосты развели, и лекций теперь у нас нет, что для меня в настоящее время приятно.
Прощайте пока, милые дяденька и тетенька. Целую вас и всех братцев и сестриц моих, которые живут в Аткарске.
Адресуйте мне письмо, если будете писать, о чем я прошу вас, просто в университет: «Н. Г. Ч., студенту СПБургского университета, в университет», и только: так письма доходят вернее и скорее. Истинно любящий вас племянник ваш Николай Чернышевский.
78
ПЫПИНЫМ
8 февр. 1848 г.
Милая тетенька! Ныне я получил ваше письмо и так был обрадован им, что ныне же сажусь отвечать вам на него.
Что сказать и думать о намерениях Ивана Григорьевича, сколько они известны нам, я решительно не знаю. О планах и поступках человека едва ли кто, кроме его самого, может справедливо, т. е. сообразно с истиною, судить; особенно это должно сказать относительно человека такого молчаливого, как Иван Григор. Должно слишком хорошо знать человека, его положение и те надежды, какими он руководствуется, и те планы, какие он имеет, чтобы, принимая роль судьи на себя, не наделать самых смешных и грубых ошибок. По крайней мере я так сужу по тем суждениям, которые мне удается слышать от других относительно себя: и хвалят, разумеется, и корят (я говорю это про людей, живущих здесь, которые уже по этому одному, казалось бы, в состоянии судить обо мне гораздо основательнее, нежели я об Ив. Григ.), но нисколько не за дело и не к месту: у них речь идет совсем о другом человеке, с другим характером, в другом положении, с другими планами и побуждениями, так что это только имя мое употребляется, а говорится вовсе не обо мне, а о другом человеке, который им только и воображается. Трудно человеку судить о ком-нибудь!
Если Ив. Григ. не хочет служить в Саратове, несмотря на видимую выгоду, а непременно хочет ехать в Петербург, то, я уверен сам в себе, а не говорю только это Вам, у него должны быть на то важные причины. Странно было бы отгадывать мне,
143
который так мало знаю свет и людские отношения, какие именно; если захочешь отгадывать, нельзя почти не ошибиться (это все равно: месяца два назад я обещался быть одном знакомом доме на вечере и не был; стали отгадывать, почему? или потому, что сделался болен (да, у него часто болят зубы, и легко простужается он, а теперь холодно), или его задержали гости; или лучше: случилось нужное дело; нет, он охотник читать: верно, достал новый номер журнала, — и т. п.; кажется, самые вероятные причины; а вышло просто, что у меня один знакомый взял шпагу на день и продержал неделю; я хватился шпаги — она у него; я к нему — ан он сам уехал с нею на вечер); но вероятных и самых основательных причин представляется, если захочешь подумать об этом, так много, что только выбирай.
Что он не остался служить в Саратове — едва ли можно пожалеть об этом; во-первых, служа там, едва ли добьешься места выше секретаря; даже советников всех ведь посылают отсюда; во-вторых, — тамошняя служба — меч не обоюду, а отовсюду острый: напр., бери взятки — известное дело, от суда-таки не уйдешь; не бери — жалованья так мало, что жить почти нечем; или: потакай другим мошенничать — с ними вместе пропадешь; не потакай — они тебя отдадут под суд и так далее. В-третьих — особенно ничего путного нельзя надеяться при теперешнем губернаторе, который в глазах министра, Оржевского и проч. отъявленный дурак и еще отъявленнейший негодяй и пьяница, из этого можно вывесть и четвертое: попадете вы к нему в немилость — ну, разумеется, в таком случае лучше было не служить в Саратове; попадете в милость — это послужит дурною рекомендациею для вас, и когда вы после явитесь в Петербург, вас примут не слишком хорошо. И таких сторон можно найти в саратовской службе очень много.
Вы пишете, милая тетенька, что стороною слышали, что сестра Ив. Григор. говорила Любиньке, чтобы она осталась в Саратове, когда Ив. Гр. поедет в Петербург; но если она и говорила ей это, не должно думать, чтобы она говорила по поручению Ив. Григ.: он так благоразумен (разумеется, сколько я его знаю), что не станет брать кого-либо в посредники между собою и женою. Вы помните, что он говорил Любиньке, бывши еще женихом: «Что бы Вам ни стали говорить от моего имени, не принимайте за мое поручение: все, что нужно, я передам сам». Вы помните, что и тогда находились непрошенные посредники. Не должно только быть несправедливу и к ним: они, конечно, и теперь действуют и тогда хотели действовать из чистой любви и желания добра Ив. Григорьичу; что вмешательством своим они скорее могли и могут произвести неприятности для всех, это так, это другое дело. Но против этого достаточно будет вспомнить, что все это говорится от их собственного лица, а не от лица Ивана Григ.
144
Что Анне Дмитриевне понравился Ив. Григ., это по многим причинам хорошо и приятно для меня: Анна Дмитриевна женщина очень умная и знающая людей.
Конечно, для вас всех, милая тетенька, должно было быть приятнее, если бы Ив. Григ. и Любинька остались в Саратове; но что же делать? Ведь Вам также всем было бы приятнее, если бы и я не выезжал из Саратова, и Саша мог бы не выезжать, и все- таки вот меня отвезли сами, Сашенька тоже уедет, и Вы говорите, что дума о том, что, может быть, по окончании курса в гимназии не будет ему средств учиться в университете, для Вас так тяжела, что Вы стараетесь избегать ее; то же самое и с Ив. Григ—ем: такой уже теперь порядок вещей, что для того, чтобы быть чем-нибудь (о выскочках не говорим: ведь это исключения), надобно учиться в высших заведениях и служить в столице: без этих двух условий так и останешься ничем, как был. Не оставаться же в самом деле Ивану Григор. профессором семинарии, с 900 жалования, да в зависимости от всякого дурака. Не посмешище ли с одной стороны и не жалость ли с другой Константин Максим. Сокольский? Можно показниться, глядя на него.
Изложивши свои глупые мысли о Ив. Григ. и Любиньке не для того, чтобы сказать Вам что-нибудь утешительное (мне кажется, что едва ли когда должно бывает стараться закрашивать истину или то, что считаешь за истину, лучше уже промолчать, хоть это и дурно), а потому, что я здесь ни с кем не люблю трактовать о семейных делах, а между тем хочется, поздравлю Вас, милая тетенька, и Вас, милый дяденька, со внучкою; потом перейдем к другим предметам.
Не знаю, поеду ли я домой ныне на вакацию; если останусь здесь, то постараюсь сделать что-нибудь такое, что бы могло обеспечить мое положение здесь по выходе из университета и улучшить положение мое, пока я в университете. Обстоятельства, с одной стороны, кажутся благоприятствующими, и я хотел бы провести вакацию здесь. Теперь приближаются экзамены, и, вероятно, время до вакации пройдет все в приготовлениях к ним. Но после я займусь серьезно делами, которые обещают больше плодов.
Во всяком случае я не сомневаюсь нисколько в том, что Сашенька, по окончании курса в сарат. гимназии, приедет сюда в университет, и ему будет полная возможность кончить здесь курс самым блистательным образом; если я говорю о блистательном окончании курса, это не потому, чтобы я считал такое окончание курса чем-нибудь хорошим само по себе, нет, просто необходимо обратить на себя внимание, чтобы дали дорогу и средства выйти в люди, а не погрузиться в бесчисленном множестве служащих или учителей гимназии.
Кажется, по всем расчетам моим, что я имею полное право надеяться на улучшение моего положения здесь с году на год; даже теперь оно лучше уже, нежели было за три или за два ме
10 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
145
сяца — а и при теперешнем положении дел Сашенька может свободно жить здесь; если бы представлялось много выгод, можно бы даже нынешний год перейти ему в одну из здешних гимназий, чтобы кончить курс здесь; но это решительно все равно, выгод никаких нет, могут быть только некоторые неудобства при переходе. Я говорю для того, чтобы показать вам, что серьезно и теперь даже дела здесь находятся в таком положении, что не представляется никакого препятствия Сашеньке быть здесь. Он лучше меня будет приготовлен к университету, поэтому ему гораздо легче моего будет итти в университет: решительно не потребуется никакого занятия от него, кроме трех недель во время экзаменов, и он остальным временем, т. е. 11 месяцами в году, может располагать совершенно свободно. Употребление с пользою свободного времени здесь найти можно, хотя не без труда, быть может.
Что я совершенно здоров, это дело такое естественное, что мне и писать о нем не следует. Но Вы, милая тетенька, совершенно справедливо объяснили мне причину того, что я теперь совершенно спокоен; странно, кажется, дела и хлопот прибавилось, а я между тем чувствую себя гораздо лучше, нежели тогда, как жил здесь, повидимому, совершенно беззаботно: это действительно оттого, что я перестал думать о том, сколько мое житье здесь стоит папеньке и маменьке, что деньги, им достающиеся с таким трудом, идут здесь, бог знает еще, с пользою или без пользы.
Прощайте, милые мои дяденька и тетенька. Целую вас. Племянник ваш Николай Ч.
2 марта 1848 г.
P. S. Доканчиваю письмо это через три недели после того, как начал его: так быстро идет время! Извините меня, милые мои дяденька и тетенька, что я так долго медлил ответом.
Милый мой братец Егорушка!
Мне пишут, друг мой, что ты теперь такой благоразумный, слушаешься, сидишь тихо, все разговариваешь с маменькою; утешай, мой друг, маменьку свою, веди себя и вперед так же благоразумно: ведь ты знаешь сам, как послушный сын утешает свою маменьку и как она любит его за это. Если поеду к вам летом, постараюсь запастись всеми вещами, нужными для тебя.
Прощай, милый мой братец, целую тебя. Брат твой Николай Ч.
Милая моя сестрица Евгеньичка! Ты пишешь, что луны не видишь, только у солнца видела уши; а я вот так ни солнца, ни луны не вижу, да бог знает, когда они соблаговолят показать себя.
Да, ты напомнила мне об Алекс. Федоровиче; он удивительно часто вспоминает о тебе: мы часто говорим с ним о тебе и о Сереженьке, но о тебе чаще. Он теперь получил место младшего помощника столоначальника, 1 200 р. асс. жалованья.
146
Весело ли, или, по крайней мере, не слишком ли скучно жить тебе в Аткарске, милая сестрица? Есть ли у тебя книги, чтобы читать? Если есть, то все можно жить. Я тебе пока желаю именно этого: получать побольше книг.
Ты, впрочем, не думай о том, что живешь в Аткарске: я вот живу будто бы и в Петербурге, а на деле выходит даже и не в Аткарске, а просто в Иткарке. У вас там что, вы себе составляете аристократию, знакомы с князьями, которые ходят в гости не по улицам, а просто через плетень; а я вот незнаком ни с одним князем, может быть, оттого, что здесь плетня нет. Прощай, милая сестрица. Будь здорова и весела. Целую тебя. Брат твой
Николай Ч.
79
Г. С. САБЛУКОВУ
Почтеннейший и любезнейший наставник Гордей Семенович!
Трудно представить, как мне приятно было получить письмо от Вас, кого я из всех людей, которым я обязан чем-нибудь в Саратове, и уважаю более всех как ученого и наставника моего, и люблю более всех как человека.
Позвольте мне прежде всего попросить у Вас извинения за то, что я пропустил столько времени, не писавши к Вам: бог знает, как проходит это несчастное время: думаешь сделать и то, и то, — и не успеваешь сделать ничего, а если и успеваешь сделать что-нибудь, то успеваешь сделать только гораздо уже позже того, нежели хотел бы и следовало бы.
От глубины души я разделяю скорбь Вашу и всех знающих Вас о потере Пелагеи Исидоровны. Более, нежели для кого-нибудь, должно быть тяжело остаться одиноким для Вас, при Вашем характере и образе жизни, при Вашем желании отстраниться бы, если бы было можно, от всех этих несносных мелочей житейских, которые теперь всею своею тягостью и докучливостью легли на Вас. Тем более тяжела эта потеря для Вас теперь, когда для Ваших малюток так нужна была бы материнская заботливость.
Покорно Вас благодарю от лица Григория Евлампиевича и Серапиона Евлампиевича Благосветловых за Вашу память о них. Я до сих пор со времени получения Вашего письма ни с одним из них еще не виделся — так разлучает жителей своих Петербург, — но знаю, что они будут обрадованы Вашею памятью о них: они, да и все саратовцы, находящиеся здесь, так уважают Вас.
Сделайте милость, если Вам нужно будет что-нибудь по книжной части, поручайте мне: для меня будет большим удовольствием исполнить Ваши поручения. Точно так же, если Вам понадобились бы справки и выписки из книг, которых нет в Саратове, я всегда с большим удовольствием приму на себя сделать их и переслать Вам, хлопот это не будет стоить мне никаких, потому что я и без того бываю в Публичной библиотеке и живу недалеко от нее.
10*
147
Бывши в Саратове, я слышал от Вас о глиняных горшках, находимых в земле, и вещах, которые обыкновенно бывают около них: просе (полусожженном) и угольях, о том, что подле бывает площадка из камней; сколько я мог упомнить, это все очень похоже на те вещи, которые бывают находимы в славянских так называемых городищах. Поэтому я принял на себя смелость просить Вас обратить Ваше внимание на отрывок из лекций профессора здешнего университета Измаила Ивановича Срезневского «О городищах», который посылаю при этом письме. Жаль, что время не позволило ему сказать подробнее о вещах, находимых в городищах. Если Вы найдете сходство между этими вещами и устройством внутренности городищ и между теми остатками построек и вещами, которые находятся в Саратовской губ., то позвольте Вас попросить написать ему об этом прямо, или передать эти сведения чрез меня: во всяком случае, это был бы новый факт для науки — и о границах славян на Востоке, и о быте их до Х века.
И. И. Срезневский один из лучших людей, которых я знаю, и он будет Вам очень благодарен за эти сведения; если Вам показались бы нужными более подробные сведения о городищах, он за удовольствие поставит сообщить Вам их.
С истинным уважением и преданностью честь имею быть Вашим покорнейшим слугою Николай Чернышевский.
27 апреля 1848 года, С.-Петербург.
80
[Конец апреля 1848 г.]
Милый дяденька! Честь имею поздравить Вас с днем Вашего ангела.
Милая тетенька! Вас и милых моих братцев и сестриц поздравляю с дорогим именинником. Вы пишете, милая тетенька, что давно не имеете никаких сведений об Иване Григорьевиче и Любиньке; я тоже давно уже не получал от них писем; наши мне тоже ничего не пишут о них.
Сколько я могу судить, зная так мало, Ивану Григорьевичу нельзя было распорядиться иначе. Он хотел ехать в сентябре в Петербург; помешала холера, и Вы сами согласитесь, что осенью было ехать невозможно, когда по всей дороге до Москвы она сильно действовала до самого рождества; места в Саратове ему принимать нельзя было, потому что он думал ехать по первому зимнему пути, и связываться с Саратовом из двух, много трех месяцев было нельзя, согласитесь. Ехать зимою помешала Любинькина беременность и потом болезнь, и, думая ехать, может быть, в половине марта, он не мог же опять из двух-трех месяцев начинать служить. Но ехать по зимнему пути помешала Любинькина непредвиденная болезнь, и конечно, отложивши в марте
148
поездку до конца или середины мая, нельзя было опять начинать службы. Таким образом, обстоятельства, которых нельзя было принять в расчет, потому что нельзя было предвидеть, заставили его прожить в Саратове, из которого хотел он выехать осенью, прожить до лета, и все это время прошло так, что он всегда должен был предполагать, что через два, много через три месяца ему можно будет выехать из Саратова. Я думаю, что они выедут, как скоро установится дорога.
Я нынешний год остаюсь в Петербурге на вакацию. Вообще это хорошо, потому что, оставаясь здесь, я думаю кое-что сделать; но само собою, что и увидеться с родными имеет свои приятности. Между прочим, жаль, что я не увижусь нынешний год с Сашенькою. Он, я думаю, очень много вырос. В том году бывши в Саратове, я удивился тому, как он переменился.
Бог даст, на следующий год он поедет сюда. Как же в самом деле можно, чтобы он поступил на службу, окончивши курс только в гимназии? Ведь, конечно, бог знает, что будет после, а теперь тем, кто не имеет ученых степеней, трудно итти вперед; год от году больше и больше стесняют их.
Средства, бог даст, для того, чтобы жить здесь, будут; мне ведь всего будет оставаться в университете, когда он приедет сюда, только один год. Там можно надеяться чего-нибудь лучшего, лишь бы только хорошо кончить курс. Иван Григорьевич и Любинька будут тогда жить здесь, следовательно, если будет так нужно, содержание ему не будет стоить ничего. Одним словом, сколько можно ручаться за будущее, можно сказать наверное, что ему жизнь здесь, пока он будет в университете, будет лучше, нежели хоть, например, мне, хоть и я здесь живу почти ничем не хуже того, как жил дома, кроме разве того, что иногда неприятно, что один только.
Бог даст, все устроится хорошо, и вы, милые дяденька и тетенька, не должны беспокоиться о Сашеньке.
Пасху я встретил дома, и почти весь праздник просидел дома. Так что-то лень выходить со двора.
Ступины жили у нас от 4 марта до 17 апреля; теперь они давно уже в Москве. Зачем был здесь Дмитрий Емельянович, вы, я думаю, знаете: он приезжал хлопотать по своему делу, чтобы позволили ему снова вступить в службу; окончательного решения нет еще, но можно надеяться, что дело будет решено в его пользу.
Вы пишете о войне; бог знает, будет ли она. Может быть, и не будет.
Прощайте, милые мои тетенька и дяденька.
Покорно вас благодарю за то, что вы не позабываете меня. Племянник ваш Николай Чернышевский.
P. S. Александр Федорович свидетельствует вам свое почтение, кланяется тебе, Евгеньичка: он очень тебя помнит и любит.
149
Целую тебя, милый братец Егорушка. Вот, слава богу, опять весна, и тебе опять можно играть на дворе (со двора ведь ты ныне уже не уходишь, мне писали, и я благодарю тебя за это).
Милая тетенька! Извините мою рассеянность: я и позабыл было поздравить Вас с прошедшим днем Вашего ангела; извините меня, сделайте милость!
Поздравляю вас, милый дяденька и милые братцы и сестрицы, с дорогою именинницею.
Поздравляю и тебя с прошедшим днем твоего ангела, милый братец Егорушка. Дай бог тебе быть здорову и утешать свою маменьку послушанием.
Александр Федорович свидетельствует вам свое почтение.
Жаль, милая моя сестрица Евгеньичка, что у тебя не бывает часто книг. Очень жаль.
Александр Федорович тебе кланяется. Боже, какое обилие князей в Аткарске! Из них, кажется, можно составить особое порядочное село. После этого Аткарск должен получить большую важность в политическом отношении. Верно, туда переведут несколько департаментов Сената и генерал-губернатора откуда-нибудь. Тогда уже не будет ни плетней, ни зелени под вашими окнами.
Прощай, целую тебя. Брат твой Николай Ч.
81
17 мая 1848.
Милые мои папенька и маменька! Я, слава богу жив и здоров и, мало того, что здоров, весел, несмотря на то, что на дворе погода пасмурная.
Отчего я весел, это я расскажу сейчас.
Во-первых: один мой хороший знакомый, с которым мы познакомились в университете, вчера женился на...
82
И. И. СРЕЗНЕВСКОМУ
Я передал, тому назад несколько дней, Вашему человеку для доставления Вам два листа выписок из Парамейника, хранящегося в Румянцевском музее под № 302, и дожидался ответа Вашего с тем же человеком. Но теперь мне сказали, что он остался жить у Вас на даче; не зная, чью дачу Вы занимаете, я не могу явиться сам к Вам и потому должен писать к Вам, хотя, может быть, это и неловко с моей стороны.
150
Я прошу Вас написать мне, стоит ли Парамейник № 302 то своему языку того, чтобы делать из него выписки, и если стоит, то как велики были бы нужны Вам?
Текст Парамейника № 303 близок к тексту Парамейника № 302, только в № 303 больше описок, пропусков и повторений; лучше ли будет списывать текст № 303 вполне, или только отмечать варианты его с № 302 и в последнем случае отмечать ли все варианты, или только серьезные, оставляя без внимания очевидные описки, как пропуски и повторения слов и букв и варианты орфографические?
Из № 302 я выписывал только собственные паремии, а находящиеся между чтениями из Ветхого завета церковные песни и проч. пропускал: должен ли был я так делать, или лучше будет выписывать все сряду? Если так, то я должен буду попросить у Вас опять переданные Вам листы, чтобы мне вписать, что следует, пропущенное.
Я обещал достать Вам лучший экземпляр записок курса славянских древностей, читанного Вами в нынешнем году в университете. Сличивши различные редакции записок, я увидел, что хотя одни из них лучше других, но каждый экземпляр много может быть улучшен, если сличить его с другими экземплярами, с выписками из источников, какие есть у меня, и, для некоторых лекций, с Шафариком. Так как я не мог произвольно делать поправок и приписок на чужих записках, и, кроме того, большая половина времени идет не на переписку, а на сличение различных редакций, то я стал составлять для Вас новый экземпляр, который будет полнее и лучше всех прежних, при помощи которых составлен. Не знаю только, так ли я стал писать, чтобы Вам, когда Вы будете читать курс славянских древностей во второй раз, было бы удобно делать поправки и пополнения в нем. Может быть, другая форма, как показал Вам опыт, удобнее. Для того, чтобы узнать это, я вместе с выписками из Парамейника отослал к Вам начало этих записок (прошу у Вас извинения за описки, если они там найдутся: я не успел прочитать тех листиков, которые отправлены к Вам): поэтому я и теперь продолжаю это дело медленно, ожидая, не нужно ли будет сделать каких-нибудь перемен.
Теперь у меня много свободного времени, и я прошу Вас располагать им.
С глубоким уважением имею честь остаться Вашим покорнейшим слугою.
Студент Н. Чернышевский.
19 июня 1848 г.
P. S. Ответ я прошу Вас адресовать в университет, где я бываю почти каждый день.
151
Н. Д. и А. Г. ПЫПИНЫМ
[Около 10 июля 1848 г.]
Милые мои дяденька и тетенька! Вот уже больше месяца, как Иван Григорьевич и Любинька принадлежат к числу петербургских жителей; к климату и воде, о чем вы столько беспокоитесь, они уже должны совершенно привыкнуть, и я не заметил, чтобы вода невская имела на них сколько-нибудь дурного влияния, пока еще они не успели привыкнуть к ней.
Прощайте, милые дяденька и тетенька. Целую вас и всех своих братцев и сестриц.
Племянник ваш Николай Чернышевский.
Сашенька верно еще в Аткарске — пускай он отдыхает и больше бегает и играет — здесь уже не знаю, часто ли будет приводиться ему бегать или играть.
[9 августа 1848 г.]
...Из того, что делается в Петербурге, я не знаю ничего, как есть; раньше знал, по крайней мере, что делаются в неимоверном количестве набрюшники и перцовка, но теперь холера прошла, ни набрюшников, ни перцовки более не делают, что делают вместо них — я не знаю; в провинциях делается весьма многое, напр., в лесных местах весьма хорошо делаются оглобли и лопаты, а в безлесных — кизяки (если вы не знаете…), но эти вещи или недостойны просвещенного внимания, или, если достойны, то я не могу без некоторого оскорбления вам и несправедливости предполагать, что они ускользнули от вашей любознательности, а как таковое предположение необходимо для того, чтобы я решился писать вам о них, а этого предположения именно сделать я и не вправе, и не решусь, то и не могу писать вам об этих делающихся в наших провинциях вещах. Теперь долг повелевает мне приступить к рассказу о совершающемся за границей, ограничиваясь примерами того, чего я не знаю. Итак, во-первых, я не знаю, совершается ли на Западе покупка хороших карандашей по гривеннику серебром или соответствующей ценностью своею гривеннику монете, или совершается она у нас или дешевле, или, — чего не дай боже, потому что зачем же желать дороговизны? она сокращает потребление, а следовательно, и производство — дороже; нет, я надеюсь, что дешевле, но, увы, я только надеюсь, но знать наверное я не знаю; это для меня так прискорбно что я
152
принужден стереть выкатившуюся от избытка чувств слезу и обойтись посредством платка. Слезу стер и посредством платка обошелся. Теперь продолжаю: во-вторых, я не знаю, совершаются ли на Западе купчие крепости так, как у нас в местах присутственных второй инстанции или, может быть, и первой. Многого и другого не знаю из совершающегося на Западе, но эти два пункта самые важные, и сомнение относительно их очень тяжело для души моей, а средств разрешить так занимающие меня вопросы эти никаких, никаких!!! О, как многого не знает еще человечество вообще, и я в особенности, из того, что знать ему было бы необходимо для его спокойствия и для его блага... Грустно жить на свете после этого. Единственная отрада в таком грустном житье на вышереченном свете, что я надеюсь увидеться с вами к началу сентября. Ваш... Ах, да! Вообразите себе свинью. Вообразили? В таком случае можете меня не воображать, потому что я весьма похож на нее — забыл написать вам свой адрес для того, чтобы зашли ко мне, когда приедете...
85
Н. Д. и А. Г. ПЫПИНЫМ
1 февраля 1849 г.
Милые мои дяденька и тетенька. Извините меня, сделайте милость, что я так долго не писал Вам ничего. Теперь, вот видите, — исправляюсь.
Если можно только, то лучше Сашеньке ехать сюда, тем более, что здесь носятся слухи, что все университеты, кроме здешнего и московского, будут закрыты. Что Антропов обещал пособие, это не слишком важно: ведь он обещал пособие только на дорогу, а это всего (до Казани 600 верст) 60 рублей ассигнациями, — а что дальше, он ничего не сказал, да не от него это зависит, а от попечителя округа. И здесь также, если только Сашенька привезет свидетельство о несостоятельности своей, тотчас же станут выдавать ему, если попросит он, стипендию 300 рублей ассигнациями в год (7 рублей 15 коп. сер. в месяц); а эта стипендия по крайней мере совершенно ни к чему не обязывает, не то что казенное содержание, которое после иногда очень тяжело приходится. Прощайте. Целую вас и своих милых сестриц. Племянник ваш Николай Ч.
86
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
23 августа 1849 г.
Милые мои папенька и маменька! И мы до сих пор еще не получали письма от Сашеньки и ждем, что он напишет и нам.
Лекции начались у нас обыкновенным порядком в пятницу,
153
19. Большая часть профессоров уже читают, некоторые еще не воротились из своих маленьких путешествий. У нас в лекциях перемены вот какие: Фишер в 4 курсе ничего не читает; читает историю русской литературы Плетнев (ректор наш); читает историю русского законодательства (не факультетский предмет) Неволин. В следующий раз я пошлю Вам, милый папенька, расписание лекций. Теперь я еще сам не знаю наизусть всей недели. Вот скоро нужно будет решать, что делать по окончании курса.
Погода стояла прекрасная. Но ныне как-то нахмурилось, и, может быть, пойдут дожди.
Здесь нынешнее лето веселились господа, имеющие охоту и возможность веселиться, так, как никогда еще, кажется. Особенно много толкуют о вечерах Излера на минеральных искусственных водах. В прошлый раз, говорят, было там 5 600 посетителей (за вход по 1 р. сер.); и между тем они устраиваются так великолепно, что до сих пор едва, говорят, сбор (и еще более кушанья, чай и т. д., которые берут, разумеется, во множестве) покрывал издержки. Все лето беспрестанно летали оттуда воздухоплаватели, под конец стали даже подыматься и дамы. Я, конечно, не был там ни разу. Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Целую своих милых сестрицу и братца.
87
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
29 августа 1849.
Милые мои папенька и маменька! На этой неделе, кроме вашего письма, мы получили и письмо из Аткарска; но от Сашеньки письма все еще не получали.
Вы хвалите арбузы, а я уже почти позабыл и вкус в них. Долго ли еще придется отказываться от них, не знаю; а хотелось бы поесть их.
Теперь еще неизвестно нам, сколько всего остается студентов в университете здешнем; когда узнаю, напишу Вам об этом, милый папенька. В первый курс поступило по одному (кажется, по одному) ученику из каждой гимназии Петербургского округа, всего около 12, должно быть, человек, и человек пять по экзамену (двоих, например, приказал принять, т. е. допустить к экзамену, наследник, третий — сын Ленца, декана естественного факультета, и т. п.). Таким образом первый курс составился из 15 — 16 человек, и они разбрелись на 6 факультетов по двое и по трое на факультет. На наш факультет поступило двое — это еще ничего, но странно, я думаю, профессорам, привыкшим к сотне или больше слушателей, как Неволин, Калмыков и другие юристы, видеть перед собою троих.
154
Посылаю Вам, милый папенька, список лекций нашего курса.
Грефе читает у нас (т. е. переводит) Οιδιπους τυραννος Софокла.
Штейнман (зять Грефе, молодой человек, которого хвалят) читает греческие древности.
Фрейтаг переводит Тибулла,
Устрялов новую (с Петра и большую половину года, кажется, о Петре) историю.
Никитенкины лекции педагогические, т. е. посвящаются на чтение наших статей, разговоры об относящихся к литературе вопросах и т. п.
Куторга еще не начинал лекций. Не знаю, будет ли он продолжать среднюю историю (с начала феодального периода, на котором остановился в прошедшем году) или начнет новую.
Плетнев читает историю русской литературы. Срезневский еще не начинал лекций. Будет читать или историю русского языка, или русской литературы, в древнейший период.
Неволин читает историю русского законодательства.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки.
Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне. Целую своих милых сестриц и братца.
[К письму от 29 авг. 1849 г.]
Расписание лекций 4 курса филологического факультета:
Дни
Первая лекция
(9 — 10½)
Вторая лекция
(10½ — 12)
Третья лекция
(12 — 1½)
Четвертая лекция
(1½ — 3)
Понедельник . . .
—
Грефе
Фрейтаг
Устрялов
Вторник . . . . . . .
Грефе
Штейнман
Никитенко
Куторга
Среда . . . . . . . . .
—
—
Плетнев
Куторга
Четверг . . . . . . . .
Фрейтаг
—
Грефе
Куторга
Пятница . . . . . . .
—
—
Срезневский
Устрялов
Суббота . . . . . . .
—
Плетнев
Неволин
—
88
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
6 сентября 1849 г.
Милые мои папенька и маменька! В субботу получили мы ваше письмо от 23 августа. Покорно благодарю вас, милые мои папенька и маменька, за деньги, присланные с ним.
Баллы, полученные Сашенькою, таковы, по крайней мере те, которые вы сообщили нам, что в здешнем университете и тогда,
155
когда бывают большие приемы, не всякий раз, я думаю, бывают получающие такие баллы на приемном экзамене. По нашему счету у него вышло бы 5 пятерок и 3 четверки, или в общем балле 45/8; в наш прием (т. е. когда поступал я) самый высший общий балл был 47/11 — почти такой же, как у Сашеньки (455/88 у Сашеньки и 456/88 этот балл); слава богу, что он так хорошо держал экзамен. Я думаю, что и в Казани относительное достоинство баллов то же, что и здесь. Мы от него еще ничего не получали. Любопытно теперь еще знать, по какому факультету пойдет он.
В университете нашем нового то, что казеннокоштные студенты к 3 сентября должны были все перейти на частные квартиры; им, вместо прежнего содержания от казны, стали выдавать деньги, по 200 р. сер. в год; для тех, у кого есть родственники здесь, это очень хорошо, они даже будут служить маленькою помощью для родственников; но у кого нет родственников здесь, 200 р. сер. маловато. Их выселили из университета потому, что понадобились занимаемые ими комнаты. Некоторые говорят, что в них хочет устроить себе квартиру попечитель — этого было бы нельзя никак похвалить, да и квартира была бы не слишком удобна — комнаты все проходные, так что ряд их походит больше на коридор с маленькими перехватами, нежели на ряд комнат. Но, кажется, этот слух несправедлив, — если так, то все они, а если он даже и справедлив, то, по крайней мере, часть комнат будет обращена под библиотеку — этого намерения нельзя не похвалить. До сих пор библиотека помещалась в большой галлерее, идущей вдоль всего здания и имеющей около 150 сажен длины; она, если угодно, великолепна, но плохо натапливается зимою — а это, конечно, нехорошо для книг. Университетская библиотека гораздо лучше, нежели я думал — я судил по каталогам, но каталоги слишком давно составлены, и новых книг в них почти не вносили. Теперь составлен новый каталог, но он должен быть еще рассмотрен Советом и тогда только будет отдан в употребление.
Мы живем без особенных приключений, если не считать приключением того, что иногда помочит дождь.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне, Алексею Тимофеевичу и Катерине Григорьевне, Кондратию Герасимовичу.
Целую своих милых сестрицу и братца. Ведь я думаю, Варенька уже воротилась в Саратов.
Да, Александр Федорович, он всегда просит свидетельствовать вам свое глубочайшее почтение, перешел с субботы жить к тем самым французам, у которых остались мы с ним на квартире после Вашего отъезда отсюда, милая маменька. У него не будет почти особенной комнаты (только маленькая для того, чтобы
156
спать только), а будет он жить вместе с ними, чтобы как можно больше иметь сношений с ними и 3 раза в неделю будет он брать у своего хозяина урок во французском языке. За все это платит он по 15 р. сер. в месяц (обедает он не дома). Я надеюсь вместе с ним, что он успеет выучиться говорить по-французски.
89
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
13 сентября 1849 г.
Милые мои папенька и маменька! Мы все теперь, слава богу, здоровы. Письмо ваше от 30 августа получили мы в пятницу, 9-го сентября. Я не умею объяснить себе, как случилось то, что вы получили от нас письмо не во-время — не знаю, кто тут и виноват: вероятнее всего виноват я. Будем стараться, чтобы вперед этого не случалось.
От Сашеньки все еще не получали мы ничего. Но все ждем, что он будет писать и нам. Слава богу, что он хорошо кончил экзамен; впрочем, противного невозможно было и предполагать. По какому-то пойдет он факультету? Что значит дух корпорации или, как это сказать — дух сословия, что ли: я сам много раз жалел сначала (особенно во 2 курсе), что не пошел по естественному или камеральному факультету; а теперь, признаюсь, я с большим удовольствием услышал бы, что Сашенька пошел по филологическому.
Иван Иванович Попов, живущий здесь, получил от Пластова отца письмо, которым он просит его распорядиться вещами, оставшимися после сына: одни продать, другие переслать к нему, вырученными деньгами заплатить долги. Он поручает и мне принять в этом участие, если у меня будет желание; разумеется, я не вступился в это дело, уже по одному тому, что не имею охоты хлопотать без необходимости. Но может быть, что Пластов обратится к Вам, милый папенька, чтобы узнать, как именно тут все сделано Поповым, какие вещи остались и т. д. Если не считать одежду, которую отец велит всю переслать к себе, то вещей у Пластова не осталось никаких почти: всего только простой диван и простой столик, которые вместе можно продать, может быть, рубля за три серебром — кроме этого, решительно ничего. Деньги, оставшиеся после Пластова, все истрачены на похороны, по словам Попова. А Пластов был должен не знаю кому-то 16 рублей серебром (и в залоге были часы его) да хозяину за квартиру 6 — 75 коп. или около этого серебром. Всего около 23 р. сер. — а у Попова выручится за проданные вещи всего 3, может быть 4 р. сер. — он, когда я виделся с ним, был потому в затруднении, что ему делать. Скрипка Пластова в починке, и нужно, чтобы взять ее, заплатить за починку столько денег (кажется, 25 р. сер.), сколько нельзя
157
будет получить за нее, продав ее. Потому, вероятно, лучше было бы (не знаю, как сделает Попов) оставить ее у мастера, который ее поправляет.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Свидетельствую мое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне, Алексею Тимофеевичу и Катерине Григорьевне.
90
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
27 сентября 1849 г.
Милые мои папенька и маменька! Простите нас за нашу неисправность в посылке двух предыдущих писем: мы были в таких хлопотах с переездом в город. Очень долго искали квартиру; наконец нашли такую, которая, мне кажется, гораздо удобнее прошлогодней. Мне нравится также и то, что она очень недалеко от университета, т. е. недалеко, судя по-петербургски: всего четверть часа ходьбы. Зимою, когда можно будет ходить через Неву, мне кажется, это время сократится еще четырьмя или пятью минутами.
Покорно благодарю вас, милая маменька и милый папенька, за белье и платок, присланные на прошлой неделе. Белья у меня и прежде было достаточно и теперь, милая маменька, я думаю, года два можно будет не беспокоиться о нем. Платок такой великолепный, что прелесть: им можно будет похвалиться перед кем угодно. Теперь у меня и платков также достаточно, я думаю, года на два.
Вы приказываете написать о платье, милый папенька. Если что понадобится сшить до окончания курса, так одни брюки; остального не должно ничего шить.
Правда, что сюртук, который еще не совсем истерт, уже очень поношен (ему ведь уже два года с небольшим), но и он еще может достать на несколько времени, а с нынешнего же дня в университет начинаю я надевать мундир, который всего почти только во время экзаменов и был надеваем мною, 10 — 12 раз в год. Его можно было носить еще целый год каждый день до окончания курса остается всего (если, даст бог, все пойдет, как прежде, без особенного чего-нибудь) мне только 8 месяцев; лекции кончаются с первого апреля, след., всего остается только полгода ходить в университет — с апреля начинаются экзамены, и некогда будет выходить куда бы то ни было, кроме как на экзамены, всего 9 — 10 раз; стоит ли для полугода шить новый сюртук, когда есть что носить? Шинель зимняя, я думаю, проносится мною еще не одну зиму: летняя, правда, очень дурна, но она уже не понадобится
158
почти: разве пять, шесть раз до окончания курса придется надеть ее, и уже холодной шинели никак поэтому не годится делать. Надевши статское платье, вероятно, я не захочу шить холодной шинели, а сделаю вместо ее пальто, которое гораздо удобнее. А брюки посмотрю, может быть, и закажу недели через две; это можно потому, что они не пропадут; все равно ведь буду носить их, и надев статское платье. Не знаю только, не нужно ли уже будет переждать грязь, отложить до рождества.
Прощайте до следующего письма, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки.
Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Александр Федорович свидетельствует вам свое глубочайшее почтение. О нем напишу в следующий раз, если впрочем, нечего будет писать, кроме того.
91
Г. И и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
4 октября 1849 г.
Милые мои папенька и маменька! Мы, слава богу, живы и здоровы. Получили письмо Ваше, милая маменька, от 17 сентября; но более еще не получали; не знаем, отчего это: зачитаете ли Вы письмо от 17 сент. за следующее, или уже так медленно стала ходить почта?
Нового у нас, кажется, ничего нет; ждут только возвращения гвардии, которой, кажется, готовится торжественный прием.
С Александром Федоровичем теперь мы видимся часто. Он живет, как я, кажется, уже писал вам, у тех французов, у которых жил, когда Вы, милая маменька, приезжали сюда, и учится говорить по-французски; за стол, комнату (впрочем дурную)и 12 уроков по 1½ часа в месяц платит он 25 р. сер Служит он попрежнему.
От Сашеньки до сих пор еще ничего не получали.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки.
92
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
11 октября 1849 г.
Милые мои папенька и маменька! Мы здесь поживаем, как нельзя лучше — по крайней мере я (не знаю, могу ли я уверять Вас и за других, как за себя). Та квартира, которую мы теперь
159
занимаем, для меня очень удобна и хороша, а по местоположению своему — ко всему близко, как только может быть близко по-здешнему, и сама по себе для меня удобна.
Сейчас мы выменяли для меня халат у татарина на старые вещи. До сих пор я носил все старый свой сюртук или пальто, которое мне сшили на дорогу в Петербург. Наконец, оно истерлось до последней невозможности и нужно было, вместо его, купить что-нибудь другое. Я сначала думал было взять в магазине пальто, но когда пораздумал, то увидел, что лучше халат. Одно из побуждений было то, что за него можно сбыть старые, изношенные вещи, которых без того некуда девать.
Мы виноваты перед вами, что пропустили две почты, не пославши, или пославши не во-время уже письма; это наделали хлопоты с исканием квартиры, а потом с переездом.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
93
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
17 октября 1849 г.
Милые мои папенька и маменька! Мы все, слава богу, пока здоровы, и больше нам нечего, кажется, сказать о себе. Правда, мне нужно отвечать Вам, милая маменька, на Ваши вопросы обо мне; но позвольте мне отложить это до одного из следующих писем, чтобы отвечать полнее и обдуманнее. Я тоже должен буду вас спросить, милые мои папенька и маменька, как вы располагаете, чтобы я поступил по окончании курса. Но оставим пока это. А недолго уже и до окончания курса, когда нужно будет выбирать себе дорогу — всего только 7½ — 8 месяцев: быстро бежит время!
Покорно благодарю Вас, милая маменька, за деньги, присланные Вами с Вашим последним письмом.
Вы пишете, чтобы мы ждали в Петербурге молодого Ступина с женою: вовсе уже вероятно он едет сюда? Ведь, кажется, 6 лет, которые обязываются прослужить за границею кончающие курс в Восточном институте, уже прошли. Если Дмитрий Емельянович в Москве, то и его нужно ждать в Петербург.
У меня как-то накопилось довольно много дела: только я ленив и трачу много времени по-пустому, тогда как должен был бы как нельзя больше дорожить им, и теперь и несколько времени по окончании курса, ведь время очень важное. Бывать я нигде не бываю, но бог знает на что трачу пропасть, я думаю, половину, если не больше, времени.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
160
Целую вас, милые сестрица и братец. Целую ручку у своего крестного папеньки. Свидетельствую свое глубочайшее уважение бабушке Анне Ивановне, Алексею Тимофеевичу и Катерине Григорьевне.
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
25 октября 1849 г.
Милые мои папенька и маменька! Покорно благодарю Вас за присланные с последним письмом Вашим деньги. Часть их в самом деле употреблю на сапоги и брюки. Не беспокойтесь о моей одежде: она неплоха и не в лохмотьях. В одеяле мне пока слишком скоро нет большой надобности, милая маменька: старое хотя и старо, но греет пока хорошо. Я, кажется, благодарил Вас, милые папенька и маменька мои, за прекрасный чай, который получили мы от Вас в тот самый день, в который приехали с дачи в город. Он очень хорош. Впрочем, и здесь чай в хороших магазинах бывает хорош.
У нас большие перемены в правительственных лицах. Министр наш, граф Уваров, подал в отставку. Это предвидели уже давно, и с неделю тому назад разнеслись решительные слухи, что на-днях он подает в отставку. Наконец вчера действительно подал.
Все говорят, что на место его будет министром народного просвещения граф Протасов. Кажется, это несомненно. Пять дней тому назад говорили, что на место Протасова обер-прокурором в синоде будет князь Ширинский-Шихматов, который теперь товарищ министра народного просвещения, и тогда говорили за верное, что место его (товарища мин. нар. просв.) займет наш попечитель, Мусин-Пушкин, а попечителем сделают теперешнего помощника попечителя Кочубея. Теперь перестали говорить о Ширинском и, следовательно, о этих дальнейших переменах от его перемещения. Напротив, третьего дня я слышал, что обер-прокурором в Синоде будет Адлерберг, молодой человек, очень близкий через своего отца к государю, который его очень любит, почти домашний человек в императорском семействе. Он русский и чрезвычайно набожный человек, как я слышал. Вчера, наконец, я слышал, что обер-прокурором будет или он, или Ростовцев, или, наконец, Протасов останется и обер-прокурором попрежнему, сделавшись министром народного просвещения?
Скоро узнаем это вернее.
Прощайте, милые мои папенька и маменька, целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую своих милых сестрицу и братцев. От Сашеньки мы еще ничего не получали. Целую ручку у своего крестного папеньки. Честь имею поздравить его с именинником, а Михаила Ивановича с наступающим днем его ангела.
11 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
161
7
Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне, Алексею Тимофеевичу и Катерине Григорьевне.
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
31 октября 1849 г.
Милые мои папенька и маменька! Мы, славу богу, пока живы и здоровы — но только и всего, больше, кажется, ничего не можем о себе сказать.
В последний понедельник напечатан рескрипт, которым Уваров, по его просьбе, основанной на расстроенном состоянии его здоровья, увольняется в отставку, с сохранением звания члена Государственного совета. Нового министра еще не назначено, как кажется, потому, что Протасову предлагают, но он все еще отказывается. Однако думают, что будет все-таки министром он. Другие, впрочем, говорят, что сделают Суворова, а Корфа, вместо Бутурлина, управляющим Публичной библиотекой.
Мне как-то приятно, милый папенька, что Сашенька пошел по филологическому факультету. Странно, что я скорее сказал бы, если бы привелось рассуждать об этом, что лучше всего итти по камеральному, потому что дорога шире и прямее, а предметы между тем также занимательны; а между тем приятно, что он пошел по филологическому. Странно, а между тем так: почти всегда человек любит свое состояние, хоть может находить другие и выгоднее. Мы, наконец, получили от Сашеньки письмо, которое он очень оригинально начинает: «Странно, что я до сих пор не получаю от вас писем, хоть вы и не знаете моего адреса, потому и не могли писать ко мне».
Так в Казани лекции по часу — у нас по полутора часа, по- старому. У них тоже много лекций.
Покорно благодарю Вас, милый папенька, за расписание лекций, которое Вы сообщили нам в последнем письме. Это хорошо, что Сашенька учится по-английски.
Мы будем писать ему, может быть, завтра же.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую вас, милая Варенька и Сереженька. Целую ручку у своего крестного папеньки. Честь имею поздравить его с именинником, а Михаила Ивановича со днем его ангела.
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
8 ноября 1849 г.
Милые мои папенька и маменька! У нас все еще не назначено министра, и теперь уже, кажется, совершенно и не знают, кто бу-
162
дет назначен. Вероятно, оставили назначение до 6 декабря или, может быть, до Нового года. Кажется, больше других вероятности быть назначенным имеет Протасов.
Вы, я думаю прочитали в газетах довольно важную для университетов новость: ректор будет вперед не выбираться профессорами, а назначаться правительством, и будет, как все лица от правительства, назначаться на неопределенное время, а не на 4 года. Он не будет занимать кафедры, чтобы ничем не развлекаться в своей должности, а обязанности и права этой должности будут определены инструкциею, которую велено составить. Он будет назначаться из лиц, имеющих ученую степень. Таким образом, наш ректор займет к университету и особенно к профессорам, которых до сих пор был он товарищ, а теперь будет начальник, такое же положение, какое занимают директоры гимназий, директор Педагогического института и т. д. Перемена важная, особенно для профессоров. У нас, вероятно, будет ректором Плетнев, теперешний ректор по выбору. Это превосходнейший человек, деликатный, добрый, но вместе и умный человек.
Вот еще новость: Олимп Яковлевич женился (кажется, в воскресенье или в субботу). Женился он на сестре одного своего товарища по университету, Булбенковой. Больше я пока ничего не знаю.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Целую своих милых сестрицу и братца.
97
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
15 ноября 1849 г.
Милые мои папенька и маменька! Вашего последнего письма мы еще не получали, потому что пошел лед по Неве, и я думал, что перебраться на ту сторону в университет нельзя. Но теперь открывается, что можно, — есть ход через Новый мост, на который набросали мостки. Таким образом ныне же отправлюсь за вашим письмом.
Мы все, слава богу, здоровы, и кроме этого опять-таки нечего сказать нам о себе. Я все собираюсь посоветоваться с вами серьезно о том, что мне делать по окончании курса, но все жду, пока лучше определятся мои отношения в Петербурге к разным лицам, чего я жду с недели на неделю и которые все еще не определяются. Но во всяком случае возможность остаться в Петербурге, я думаю, будет; возможность получить место в гимназии, может быть, и не представится, но, вероятно, можно было бы достать место где-нибудь в другом учебном заведении, напр.,
11*
163
в кадетском корпусе, каком-нибудь Аудиторском или Строительном училище и т. д. Но для этого нужно прежде всего знать ваше решение, милые мои папенька и маменька. Не знаю я, как вы думаете: стараться ли мне оставаться, если возможно будет (а вероятно, будет можно) здесь в Петербурге, или ехать к вам в Саратов? Что скажу я на это, я и сам не знаю. Правду говорят, что Петербург как-то не выпускает, кого раз захватил, будто водоворот какой; и не видишь ничего хорошего в нем для тебя покуда, и знаешь, что на родине с родителями жить лучше, и приятнее, и покойнее, а все думаешь: «Здесь зато средоточие всего». А чего это всего? Бог знает. По крайней мере мне на долю из этого «всего» не доставалось еще ничего, кроме ходьбы верст за 5 в иные годы каждый день.
Решайте, милые мои папенька и маменька: оставаться ли мне здесь, если можно, стараться ли об этом или ехать по окончании курса служить к вам в саратовскую гимназию, если будет можно, или в гражданскую службу. Не принимайте в соображение ничего, кроме того, что собственно вам будет приятнее. Я прошу вас думать об этом вопросе: его решение совершенно зависит от одних вас. Я не скажу ни «да», ни «нет», если вы захотите, чтобы я сам отвечал на то, оставаться ли мне здесь. Я сам ничего не знаю. Теперь я думаю об этом. Думают, что если остаться здесь, карьера прямее — я не знаю, и мне так казалось бы, но бог знает. Под карьерою понимаю я, если оставаться здесь, держать на магистра, потом, если будут силы и возможность (да и польза, которая, впрочем, верно будет) на доктора. По какому предмету держать? Я не знаю еще. По близким отношениям к Срезневскому, который так и затягивает в возделыватели того поприща, которое сам он избрал, может быть, придется держать по славянским наречиям, хоть этот предмет сам по себе меньше следующих привлекателен для меня. По расположению Никитенки и по вероятности выгоды от того (выгод, впрочем, слав. наречия доставят, может быть, и больше) может быть по словесности. Самому мне хотелось бы всего больше по истории, но Куторга меня вовсе не знает, у него есть другие люди, которым он прочит места, и поэтому здесь меньше всего кажется и выгод, и легкости. Наконец, я с удовольствием, с большим удовольствием стал бы держать по философии. Но всего этого, мне кажется, можно достигнуть и уехавши в Саратов, может быть, даже лучше, нежели здесь: книг на 100 рубл. серебром — и, кажется, довольно. Потом можно приехать сюда сдать экзамен. Но это кажется слишком неверно, слишком фантастически: бог знает, выберешься ли из Саратова, раз туда заехал?
О том, какие надежды у меня здесь, я надеюсь, буду в состоянии определительнее, нежели сейчас, написать вам недели через две или через три, тогда я буду и просить у вас ответа, если он не готов у вас и будет зависеть от того, какие именно места можно
164
надеяться мне получить здесь на первый раз, каким образом устроить на первый раз свою жизнь здесь, а не оттого, как вам самим было бы угодно, как для вас самих было бы приятнее. А я вас просил бы больше всего, можно сказать, исключительно, думать об этом. Может быть, вам было слишком много приятнее видеть меня живущим с вами вместе; не колеблитесь в таком случае: остальное пустяки, главное ваше спокойствие и удовольствие. Если вам угодно, чтобы я ехал в Саратов по окончании курса, если вы решились на это, напишите мне в следующем письме. А если вы еще сами не знаете, на что решиться, думаете принимать при этом решении в соображение другие обстоятельства, кроме своего и моего (которое, я надеюсь, всегда будет состоять в том, чтобы сообразоваться с вашим желанием, и, если бы можно было, жить подле вас, а не врозь) удовольствия, то подождите для того, чтобы отвечать, одного из следующих моих писем, в котором я лучше и точнее опишу вам свои здешние отношения и виды.
Честь имею поздравить Вас, милая маменька, со днем Вашего рождения, желаю Вам быть здоровыми и благополучными, не видеть неприятностей, видеть исполнение своих желаний.
Целую ваши ручки, милые мои папенька и маменька. Сын ваш Николай.
Целую свою милую сестрицу и братца. Целую ручку у своего крестного папеньки. Свидетельствую свое глубочайшее уважение бабушке Анне Ивановне.
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
22 ноября 1849 г.
Милые мои папенька и маменька! Мы получили ваше письмо от 1 ноября, а следующего еще я не получал, потому что в понедельник был праздник, а в субботу его еще не было.
Итак, вы позволяете мне оставаться здесь по окончании курса, милые мои папенька и маменька. Я не решался просить вас об этом прямо, но, верно, не мог скрыть того, что мне и самому хотелось бы оставаться здесь. Странно может показаться, что всякий живет в Петербурге гораздо хуже, нежели мог бы жить в провинции, тем больше на родине, а между тем все стремится в Петербург, и раз попавши в Петербург, всякому уже так и не хочется расставаться с ним. Мое желание, впрочем, оставаться, если можно, по крайней мере на первое время в Петербурге слишком легко объяснить, потому что причины его очень просты и ясны: мне хотелось бы служить по ученой части; следовательно, нужно будет, сколько возможно, стараться о приобретении ученых степеней, — а для этого, конечно, почти необходимо оставаться в Петербурге: сюда и из других университетов уезжают очень многие
165
для этого, а тому, кто окончит курс здесь, слишком странно было [бы] уезжать жить для приготовления к магистерскому экзамену, например, в Казань. Эта же самая причина, вероятно, заставила и вас, милые мои папенька и маменька, решить, чтобы я оставался здесь. Покорно благодарю вас за это решение: оно очень, очень обрадовало меня. Дай только бог, чтоб я смог воспользоваться им так, чтобы вам не нужно было раскаиваться в нем, так, чтобы и вам, и мне были от него выгода и удовольствие. Я очень, очень благодарен вам, милые мои папенька и маменька, за это позволение. Я и ожидал его и надеялся; но я думал и о том, что и вам точно так же, как мне, очень хотелось бы, чтобы нам жить вместе; во мне это желание было так сильно, что совершенно перевешивало желание оставаться здесь; и если бы спросить меня самого, то, может быть, я отвечал бы, что лучше уже поеду я к вам, нежели жить врозь опять бог знает сколько времени. А между тем мне чрезвычайно хотелось, если можно будет, остаться здесь, а между тем, когда вы позволили остаться мне здесь, я чрезвычайно доволен: странно, какая во мне нерешительность или, лучше сказать, какое противоречие с самим собою. Впрочем, я думаю, не я один такой, а большая часть людей.
О своих мыслях и надеждах на тот случай, если оставаться здесь, вообще я писал вам уже в прошлом письме. Для того, чтобы написать совершенно определенно, я все жду с недели на неделю того, что сам буду в состоянии знать получше о своих здешних отношениях. Говоря опять вообще, я могу теперь надеяться на Никитенку и на Срезневского, что они постараются доставить мне, что могут. Они оба говорили со мною об этом. Никитенко может доставить учительское место, если не в гимназии, то в одном из подобных гимназиям заведений. Срезневский тоже, может быть, будет в состоянии что-нибудь сделать. Если бы открылось место в 4 гимназии, директором которой Фишер, я думаю, и он не отказал бы мне. Я надеюсь (если только будет случай — это зависит от всего нашего курса) еще сблизиться и с Плетневым. Кроме того, теперь я думаю так, что если месяца через три не получу никаких определенных видов на какое-нибудь место или что-нибудь такое, что могло бы заменить учительское место, то я напишу диссертацию для кандидатской степени по предмету Куторги или Устрялова (всеобщей или русской истории), чтобы сделаться и им известным с хорошей стороны.
Но все это еще только надежды, и с этими надеждами можно полгода пробыть без места. Но зато полгода я полагаю теперь самым долгим сроком; вероятно, место сыщется гораздо прежде, может быть (и я надеюсь несколько), можно будет иметь уверение, что дадут такое-то место еще до окончания курса.
Разумеется, очень много зависит от экзаменов, но я о них не беспокоюсь: если не будет со мною ничего особенного или не случится какого-нибудь такого, каких нельзя предвидеть и ожидать,
166
происшествия, то экзамены, конечно, сойдут хорошо. О них я не беспокоюсь, хоть думаю с большою скукою, потому что целых два месяца этих будут самые хлопотливые; но уж нельзя же избежать этого; нужно будет читать и перечитывать несколько раз кипы записок.
Николай Дмитриевич Ступин приехал сюда. Я, может быть, побываю у них.
О сюртуке я подумаю, милый папенька. Не знаю еще, шить ли его, или деньги, которые вам угодно прислать на него, оставить для того, чтобы взнести в университет. Позвольте мне подумать. В следующем письме я напишу, что я сделаю.
Это очень хорошо, что Сашенька учится по-английски. Что у них прибавили политическую экономию, это чудесно, потому что теперь она и история (то есть и то и другое, как приложение философии, и вместе главные опоры, источники для философии) стоят теперь во главе всех наук. Без политической экономии теперь нельзя шагу ступить в научном мире. И это не то, что мода, как говорят иные, нет, вопросы политико-экономические действительно теперь стоят на первом плане и в теории, и на практике, то есть и в науке, и в жизни государственной.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Я не позабыл, сколько могу помнить, в предыдущем письме поздравить Вас, милая маменька, со днем Вашего рождения. Но, если бы позабыл, то теперь еще не поздно: поздравляю Вас снова и желаю Вам всего радостного.
Целую ручку у своего крестного папеньки.
Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне и всем.
Целую своих милых сестрицу и братца.
99
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
29 ноября 1849 г.
Милые мои папенька и маменька! Обдумавши хорошенько, я решился не шить пока сюртука: его решительно не нужно или, лучше сказать, он решительно пропадет задаром. Лекции у нас будут только до 1 апреля, всего поэтому остается 3 месяца учебного времени (с 19 или 18 дек. до 12 янв., как вам известно, лекций не бывает); что же он останется так, совершенно не ношенный? Поэтому я 25 р. сер. решился оставить и просить у вас позволения употребить эти деньги не на сюртук, которого вовсе шить нет, как мне кажется, надобности, а на то, чтобы заплатить в университет за последнее полугодие деньги, которые обязан я
167
взносить: всего остается месяц до нового года. Я жду вашего позволения на это, милые мои папенька и маменька. Я думаю, что это будет лучше, нежели употребить их на сюртук, который пропадает задаром. Таким образом, я берегу эти 25 р. сер. до получения вашего ответа на это письмо. На прежде присланные деньги я успел сделать жилет; из этих употребил 3 р. 50 коп. сер. на то, чтобы переменить воротник у шинели, который был уже слишком плох. За 2 р. 50 коп. сер. купил енотовый воротник, не слишком-то, но все-таки довольно порядочный, а рубль сер. взяли за то, чтобы пришить его.
О том, кто будет министром, перестали уже и говорить — верного никто не знает. Не знают и того, будет ли Плетнев ректором или кто другой.
Да, я позабыл было написать: Александр Федорович (он свидетельствует вам свое глубочайшее почтение) сказывал мне вчера за верное, что Иакова нижегородского, бывшего саратовского, вызывают присутствовать в Синод. Не может ли это иметь хороших последствий для тех дел, которые теперь там так странно производятся? т. е. для Ивана Фотиевича?
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Целую своих милых сестрицу и братца.
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
6 декабря 1849 г.
Милые мои папенька и маменька! Мы не получали от вас на этой неделе письма, как вы и предуведомили нас.
Вот ныне остается полгода ровно (с двумя днями) до окончания наших экзаменов, до того времени, когда мы выйдем из университета, и меньше четырех месяцев до начала экзаменов.
О том, кто будет министром, ничего не говорят.
Работа моя над Ипатьевскою летописью, о которой я вам писал уже, идет гораздо медленнее, нежели я предполагал; главным образом от того, что я беспрестанно отвлекаюсь от нее то тем, то другим. Нынешний день начинаю приводить слова в алфавитный порядок. Думаю, что успею кончить эту часть работы раньше нового года, но едва ли мои думы оправдаются, — верно она займет больше времени.
Когда я кончу это, составлю словарь в алфавитном порядке, я примусь приводить его в порядок по корням и [займусь] составлением грамматики по этой летописи; потом (это уж едва ли на-
168
чать даже успею до окончания курса) определением значения слов.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Вот уже в четвертый раз провожу я день своих именин в Петербурге.
Целую своих милых сестрицу и братца.
Целую ручку своего крестного папеньки. Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне. Алексею Тимофеевичу и Екатерине Григорьевне, Якову Федоровичу, Кондратию Герасимовичу.
101
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
12 декабря 1849 г.
Милые мои папенька и маменька! Покорно благодарю вас за деньги, присланные мне в подарок ко дню моего ангела. Покорно благодарю вас также за прекрасный платок, который вы прислали мне: он так хорош, что мне жаль будет носить его; я и тот, который вы прислали прежде, еще ни разу не брал: оба они так хороши, что жаль их носить. Покорно благодарю вас, милая маменька, и за чудесное одеяло, которое вы прислали мне; старое еще очень могло служить эту зиму, даже, может быть, продержалось бы еще и следующую, хоть правду сказать, я его изорвал в одном или двух местах со своею привычкою закутываться и завертываться, как никто кроме меня и не умеет — я все попрежнему строго сохраняю эту привычку и даже усовершенствовался в этом искусстве. Старое одеяло я отдал Марье.
Только позвольте просить вас, милые мои папенька и маменька, не присылать мне столько денег: они для меня почти лишние или, лучше сказать, вовсе лишние, и я даже трачу их на пустяки иногда; позвольте же просить вас не присылать их так много.
Позвольте вместо этого просить вас о том (впрочем, может быть, вы и без просьбы моей уже решились на это) не соглашаться на то, если бы аткарские тетенька и дяденька вздумали отдать Сашеньку на казенное; сделайте милость, не отдавайте. Я в последнее время стал было думать, что это ничего, и в самом деле, если можно сказать, что в каком-нибудь университете можно итти на казенное, то в здешнем университете, и именно по нашему факультету; благодаря главным образом, кажется, Куторге, профессору истории, у нас по нашему факультету учреждена лет пять или года четыре назад стипендия в пользу одного из казенных студентов, окончивших курс по нашему факультету, каждый год: ему дается 1 500 или 1 800 рублей ассигн. (по 1 000 или 1 200 р. в год, не знаю, в продолжение 1½ года) с обязательством дер-
169
жать экзамен на магистра по одной из факультетских кафедр; кажется, чего лучше после этого? Получить ее легко казенному студенту, потому что их всего в каждом курсе 2 — 3 человека (в нашем 2). А между тем, все профессора, как скоро заговаривают с вами об окончании курса или тому подобном, спрашивают вас: «Ведь вы, кажется, не казенный?» — «Нет». — «Ну и слава богу». Значит, есть большая разница. Мне самому говорили это двое, с которыми одними и случалось мне говорить об этом. Верно, и все скажут то же.
У нас ныне подано в Совет примерное расписание экзаменов, которое, конечно, Совет и утвердит без изменений. Очень хорошо сделали, что выхлопотали, чтобы экзамены в 4 курсе начались с апреля. У нас по нашему распределению, которое, верно, утвердит Совет, первый экзамен 8 апреля, Фишеров, последний 7 июня, Неволина. До пасхи 3 экзамена, после пасхи 5. С концом этой недели оканчиваются и лекции в этом году, а в 1850 будет у нас всего 11 недель лекций, потому что согласились на нашу просьбу кончить лекции у нас с концом марта.
Александр Федорович вам просит каждый раз свидетельствовать его почтение, но я все позабываю.
Да, ныне мы получили второе письмо от Сашеньки.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Свидетельствую свое глубочайшее уважение бабушке Анне Ивановне.
Целую своих милых сестрицу и братца.
13 декабря 1849 г. 9 часов утра.
Честь имею поздравить Вас, милая маменька, с днем Вашего ангела. Дай бог, чтобы следующий год прошел для Вас совершенно благополучно и счастливо, и чтобы я мог приехать к Вам на следующий год на день Вашего ангела — желание, бог знает, исполнимое ли; но почему же не быть ему и исполнимым? Если бы устроилось хоть наполовину так, как я думал бы, что нужно устроиться делам моим к окончанию курса, то можно было бы и привести в исполнение это желание.
Честь имею поздравить Вас, милый папенька, с именинницею.
Поздравляю и вас, милая Варенька и милый Сереженька.
102
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
20 декабря 1849 г.
Милые мои папенька и маменька! Честь имею поздравить вас с Новым годом и пожелать вам, чтобы он не принес вам ничего, кроме радости и здоровья, ни одного огорчения, ни одной не-
170
приятности. В продолжение его, я думаю, мы увидимся с вами, и, может быть, мне можно будет долго прожить в Саратове.
Ваше письмо от 6 декабря мы получили.
Нынешний день у нас уже нет лекций — вчера кончились, и до 12 января мы свободны. Никитенко сказывал, что П. А. Плетнев, теперешний ректор, представлен в ректоры, вследствие нового распоряжения, по которому ректора университета назначаются государем, по представлению министра, и остаются ректорами не определенный срок, а пока не подадут в отставку или не будут сменены. Нет сомнения, что его и утвердят ректором. Тогда Никитенко сделается ординарным профессором, чем уже давно следовало бы его сделать.
О том, кто будет у нас министром, и говорить перестали. Если сосчитать всех, кого можно считать кандидатами на это место, наберется, я думаю, их больше 10 человек: Протасов, Корф, Ростовцев, Ширинский-Шихматов, Суворов, Строганов, и бог знает сколько еще, которых не припомнишь. А другие слухи говорят, что не будет министра народного просвещения, а будет, вместо его, Совет, в котором будет председатель и 5 — 6 членов.
Я слышал также, но это вещи подлежащие сомнению, что Нессельрод (по старости) выходит в отставку и вместо его министром иностранных дел будет Синявин, недавно сделанный товарищем министра из директоров Азиатского департамента.
Еще большему сомнению подлежит, что выйдет в отставку или уедет за границу надолго министр юстиции, граф Панин, и его место займет статс-секретарь при Комиссии прошений Голицын (я не уверен, впрочем, верно ли я написал фамилию). Панин будто бы смягчил самовластно наказание, определенное Государственным советом за жестокое обращение с крестьянами Трубецким — верно, все это пустые выдумки.
В иностранных газетах говорят, что должно опасаться на следующее лето опять войны: Россия в союзе с Австриею будет воевать против Пруссии, чтоб заставить ее отказаться от образования в Германии более тесного союза, главою которого Пруссия и в который вошли теперь все германские мелкие государства, кроме Баварии, Саксонии, Виртемберга и, кажется, Ганновера. Но и эти государства, кроме разве Баварии, будут принуждены вступить в прусский союз, потому общественное мнение необыкновенно сильно требует соединения Германии в одно политическое целое. И Бавария, вероятно, не устоит против всеобщего желания своего народа. Австрия очень опасается этого союза и ясно уже грозила Пруссии вооруженным вмешательством. Пруссия не может отступить назад, потому что слишком совестно было бы уже, потому что правительство и король и народ не хотят отступать и, наконец, потому, что ей грозят внутренние волнения, если она отступится. Она и отвечала Австрии, что будет продолжать итти прежнею дорогою, и доказывает законность своих поступков. Те-
171
перь неизвестно, решится ли Австрия исполнить свою угрозу — вероятнее, замечают иностранные газеты, что нет. Но, однако, довольно давно уже на северных границах Австрия собирает войска. Теперь разнеслись слухи о том, что австрийские войска вступят в Саксонию, чтобы дать ей возможность удержаться от союза в Пруссиею. Но саксонское правительство, вероятно, принуждено будет в таком случае народным голосом обратиться с жалобою и с просьбою о помощи к новой центральной власти, устроенной Пруссиею, т. е. к Пруссии, и Пруссия предварительно уже объявила Саксонии, что она готова помогать ей всеми силами. Кроме этой войны, опасаются еще иностранные газеты войны России с Турциею за придунайские княжества (Валахию и Молдавию). Наконец, демократы говорят еще, что Россия намерена в союзе с Австриею объявить войну Франции. Это всего меньше вероятно уже и по тому одному, что во Франции открыто приготовляется теперь восстановление монархии: из-за чего же воевать захотим мы, когда сами французы хотят делать то, к чему будто бы мы хотим принудить их.
Впрочем, может быть, вам будет так же скучно читать эти политические новости, как мне писать их; но кроме их нечего писать.
Александр Федорович свидетельствует вам свое глубочайшее почтение. Он часто бывает у здешних Ступиных. Николай Дмитриевич вовсе не показался ему таким светским, таким ловким, таким блестящим молодым человеком, как кажется он своей маменьке и сестрицам. Напротив, он называет его неряхою, говорит, что платье на нем дурно сшито и сделано без вкуса. А маменька все думает, что Николинька (или Николай, ведь так она его зовет) самый блестящий молодой человек, лев одним словом. Вот что значит материнское или отцовское сердце — и на свете нет лучше наших детей.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую вашу ручку. Сын ваш Николай.
Целую своих милых сестриц и братца и поздравляю их с Новым годом.
Целую ручку у своего крестного папеньки и поздравляю его с Новым годом, так же как и бабушку Анну Ивановну, Алексея Тимофеевича и Катерину Григорьевну, Якова Федоровича, Кондратия Герасимовича, Дарью Семеновну и Устинью Васильевну.
103
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
27 декабря 1849 г.
Милые мои папенька и маменька! Честь имею поздравить Вас с наступившим и наступающим праздником.
172
Что же такое с Вами, милый папенька? Вы, может быть, простудили свои глаза, или уже слишком Вы утомляете их тем, что беспрестанно пишете?
Покорно благодарю Вас за деньги, присланные Вами при Вашем последнем письме. Позвольте повторить Вам относительно этого просьбу, с которою я уже обращался к Вам в одном из предыдущих писем.
Сюртука я себе делать не стану.
С самого начала при университете остаться будет нельзя, я думаю; хорошо очень было бы, если б захотели причислить к нему, и тогда, когда выдержишь или будешь держать экзамен на магистра. Во 2-е отделение канцелярии почти нельзя и думать поступить: так трудно; искателей всегда бездна, и все с большими протекциями. Да там и нет таких мест, которые бы, по крайней мере в других департаментах, имели привычку давать только что окончившим курс: самые младшие чиновники равняются столоначальникам департаментским.
Лучше всего из того, чего можно надеяться получить, хотелось бы мне получить учительское место в Петербурге. Да и это, кто знает, получишь ли.
Странно, какую любовь внушает к себе своим обитателям Петербург, между тем, как ничем ее не заслуживает, повидимому; и не только происходит эта любовь от того, что здесь средоточие всех надежд для всякого, особенно служащего, а отчасти и совершенно бескорыстная. Не помню, когда на-днях шел я с Вознесенского мимо Сената на Васильевский, и так мне милы вдруг стали и эти дома, и памятник Петру, и площадь — просто смешно было самому.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки.
Покорно благодарю Кондрата Герасимовича за его любовь ко мне и прошу его благословения для будущей новой эпохи своей жизни.
Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне и всем нашим знакомым.
Целую своих милых сестрицу и братцев.
104
3 января 1850 г.
Милые мои папенька и маменька! Не знаю, что написать вам, кроме того, что мы, слава богу, здоровы. Новый год не принес нам ничего нового. Да я, впрочем, и не виделся ни с кем еще, потому не мог ничего слышать, если бы что и было нового.
173
Написать разве то, что Иван Григорьевич купил диван? Но это он сам, я думаю, напишет вам. Диван хорош.
Слышал я, что Плетнев утвержден в звании ректора, в которое теперь назначаются государем, а не выбираются Советом. Никитенко делается или сделан уже ординарным профессором, чему давно уже пора было бы быть.
Я на-днях начал заниматься опять Ипатьевскою летописью. Теперь отделываю букву Д (только что начал).
Зима нынешняя не холодна пока, хотя и теплою нельзя ее назвать.
От Сашеньки мы ждем письма, потому что ему пора уже отвечать нам.
У Иакова я не знаю, когда именно мы будем. В эти дни ему, конечно, не до нас, нужно несколько погодить.
Прощайте до следующего письма, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки.
Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне и всем.
Целую своих милых сестрицу и братца.
105
10 января 1850 г.
Милые мои папенька и маменька! Мы с Иваном Григорьевичем теперь собираемся быть у преосвященного Иакова; теперь, я думаю, он скорее может принять нас, нежели на праздники. Только не знаю еще, когда соберемся: теперь некогда Ивану Григорьевичу, а то будет некогда мне, потому послезавтра у нас опять начинаются лекции. Плетнев утвержден ректором здешнего университета и уже отказался от кафедры; на его место сделан уже или будет сделан ординарным профессором Никитенко; кто будет на месте Никитенки, я еще не знаю. Мы не знаем, будет ли у нас читать Никитенко вместо Плетнева, или те лекции, которые читал Плетнев, останутся свободными. Никитенке не хотелось читать, потому что, говорит он, принимаешься доканчивать то, что начал другой, скучно, да и неудобно. Кроме того, что за приятность иметь две лишние лекции в неделю?
Кроме этого, нового нет ничего.
Сильнее прежнего начинают говорить, что комиссия, преобразовывающая учебные заведения и особенно университеты, хочет сделать так, что кончающие курс в университетах не будут получать никаких преимуществ в чинах, а только 4 года, которые пробыли они в университете, будут зачитаться в службу тем, ко-
174
торые имели право служить, а купцам и мещанам будет даваться почетное гражданство или что-то в этом роде. Это самое верное средство отбить у всех охоту итти в университет. Другие говорят, что не обер-офицерские дети и не будут допускаемы в университет, а некоторые говорят, что и обер-офицерские дети не будут допускаемы, а одни только дворяне.
Мы, я думаю, еще успеем уйти от всех этих перемен.
Здесь есть католическая Духовная академия; в ней читали некоторые русские (напр., Никитенко словесность, Куторга русскую историю); папа выхлопотал, чтобы русским не позволяли читать там лекции, чтобы читали одни католики, и православные профессора были удалены (это было в ноябре или конце октября). Но ведь в нашей академии читает же Фишер, да еще философию, которая несравненно ближе связана с религиею, нежели русская история или словесность.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Целую своих милых сестрицу и братца. Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне.
Александр Федорович всегда просит и теперь просил засвидетельствовать вам его глубочайшее уважение.
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
17 января 1850 г.
Милые мои папенька и маменька! Мы получили ваше письмо от 4 января, вместе с ним получили письмо от аткарских.
Точного адреса своей квартиры мы не написали вот каким образом: я думал, что напишет Любинька или Иван Григорьевич, а они думали, что напишу я. Мы живем в Большой Конюшенной в доме Кошанского, против Финской церкви, в квартире № 8.
Покорно благодарю вас за посылку, которую вы послали нам с Поляковым. Вчера еще не спрашивал он меня в университете: или не успел еще приехать, или еще занят делами.
У нас вот уже дней пять стоит также довольно большой мороз градусов 20 или 17. Особенно вчера было холодно. Каково ныне, я еще не знаю.
О своих занятиях я не знаю, что Вам написать, милая маменька: больше всего это мелкие занятия по университету. Иногда нужно бывает несколько приготовиться к лекции, иногда поправить или переписать записанное на лекции.
Если я не писал Вам ничего о своих знакомствах, милая маменька, то это потому, что новых ни одного нет, а о старых писал
175
я Вам тогда, когда начинались они, когда я был в первом или во втором курсе. Чаще всех видаюсь я с В. П. Лободовским и А. Ф. Раевым. Александр Федорович заходит к нам раз, иногда два раза в неделю. Я тоже у него бываю. Чаще всего мы видимся с ним потому, что он так добр, что берет для меня старые (то есть полученные с месяц тому назад) нумера французского журнала, который называется «Journal des Débats» — журнал прений. Берет он его у Оржевских. Так или он приносит мне их, или я отношу их к нему. Мы с ним большие приятели, т. е. в роде того, как были еще в Саратове, до отъезда его в Петербург. Приятельство наше поддерживается более всего вот почему: он охотник толковать о своих делах — о своем положении по службе, о своих надеждах, о своих отношениях, о своих намерениях и т. п. — ему и нужно поэтому человека, которому он мог бы толковать обо всем этом, не опасаясь, что это обратится как-нибудь ему во вред или сделается известным, кому не нужно бы. Меня, кажется, считает он человеком молчаливым (не знаю, справедливо ли), думает, что я и сам не стану смеяться над тем, что ему случится сказать, и что не стану рассказывать об этом другим, кому он сам не считает нужным сказать что-нибудь. Я имею еще и ту выгоду в этом отношении, что незнаком или, по крайней мере, никогда почти не вижусь ни с кем из остальных его знакомых. Вот он и толкует со мною обо всем почти, о чем думает. Впрочем, и кроме этого, кажется мне, нельзя сказать, чтоб у него не было некоторого расположения ко мне. Я, нельзя сказать, чтобы чувствовал к нему особенное расположение, потому что считаю его человеком ума не бог знает какого, в отношении к наукам или чему-нибудь подобному, потому самому мне толковать с ним о том, что занимает меня из того, что относится к отвлеченным вопросам, большой приятности нет, а толковать о своих делах, надеждах и намерениях я как-то не привык, главным образом потому, что по опыту знаю, как незанимательно слушать, когда другой толкует о себе, между тем как тот, кому толкуют, не принимает в мелочных подробностях его жизни большого участия, а потому остерегаюсь, сколько могу, от наскучиванья другим разговором о том, что их не будет интересовать. Но, однако, нельзя сказать, чтобы я вовсе не питал никакого расположения к Александру Федоровичу: иногда бываешь доволен, если видишь его дела в хорошем положении. Больше, впрочем, это расположение с моей стороны к нему род благодарности за доброе расположение его ко мне. Он, вообще говоря, человек хороший и даже добрый.
Кроме его, так же часто, как с ним; вижусь я с Лободовским и потом еще с двумя или тремя товарищами по курсу изредка. О них я напишу Вам в следующем письме, милая маменька, а фамилии их, если угодно, напишу теперь же. Это Славинский, Корелкин — хочется прибрать кого-нибудь еще, но, кажется, уже нельзя прибрать никого. Прощайте до следующего письма, милые
176
мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Целую своих милых сестрицу и братца.
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
24 января 1850 г.
Милые мои папенька и маменька! В субботу я был в университете на второй лекции и, когда сошел вниз посмотреть письма от вас, швейцар мне сказал, что от преосвященного Иакова приходил человек сказать, чтобы я зашел к нему, когда кончатся лекции.
Я хотел сам быть у него, но одному мне казалось быть не так ловко, как вместе с Иваном Григорьевичем, и мы хотели итти вместе. Но Ивану Григорьевичу было все недосуг, и мы все откладывали.
Теперь мне было очень приятно, что он присылал за мною, но вместе и очень стыдно, что я дождался до этого; мне давно бы уже следовало быть у него.
Я пошел к нему, как кончились лекции. Он живет на Ярославском подворье.
Он встретил меня очень ласково; спросил о Вас, милый папенька: «Я очень, очень помню: он много послужил церкви, много послужил и мне». — Я сказал ему, что Вы теперь, слава богу, здоровы, что я, как услышал, что он приехал, хотел явиться к нему и принять его благословение, но не знал, должен ли осмелиться* беспокоить его высокопреосвященство. Он спросил о Вас, милая маменька, здоровы ли Вы, спросил, думаю ли я, что Вы скучились обо мне. Потом стал спрашивать об университете, о том, каково мне тут жить, и каково идут мои дела по университету. Я сказал, что жить мне, слава богу, хорошо; что чтò вперед бог даст, а теперь пока в университете у меня нет ничего дурного; что Петербург мне нравится. «Напиши своему папеньке, что и мне он понравился; не только своим великолепием и богатством, не только тем, что здесь средоточие всего в России: и правительства, и наук, и торговли, — но и благочестием своих жителей, и это более всего. Не только в простом народе находишь тут веру, но и между знатными и вельможами видишь очень многих, отличающихся истинным благочестием, это очень утешительно. Церкви здесь всегда наполнены народом (о том, каковы по своему благочестию знатные, я, разумеется, ничего сам от себя не могу сказать, потому что не знаю лично никого из них, но что в церквах здесь и по будням очень немало народу, почти столько — поменьше, разумеется, как у нас в праздник, а по воскресеньям всегда тесно в большей части церквей, несмотря на их огромность, — это и я
скажу, и Вы, милая маменька, верно, это помните); все, сколько видишь, усердны к вере: и простые люди, и знатные, и богатые, и бедные: это было для меня очень утешительно видеть».
Потом он опять стал спрашивать о нашем семействе; спрашивал о том, благочинным ли Вы попрежнему, милый папенька. Я сказал, что попрежнему. «Ну, слава богу, значит, он пользуется доверенностью нового преосвященного своего. Верно, он нашел в нем такого же верного и дорогого помощника себе, каким имел и я в нем», и он долго говорил о том, как он ценил и ценит Вас, милый папенька; позвольте мне не писать его выражений, потому что мне неприлично может быть писать Вам похвалы Вам.
«Успокоился ли он после того неприятного случая, которому так незаслуженно подвергся он?» Я сказал, что Вы мне ничего об этом не пишете, что, конечно, надобно думать, что время заставило несколько хладнокровнее покоряться обстоятельствам, но что забывать вовсе не в наших силах. «Ну, напиши же ему, что никто не может убежать скорбей; что если мы захотим послушать св. писания, то оно говорит нам, что скорби, в которые попускает впасть нас бог, знак его любви к нам; «если, говорит оно, подвергаетесь вы скорбям, то радуйтесь, потому что значит, что вы дети божии; потому что кого не испытует бог скорбями, того не любит он». «Без скорбей невозможно спастись», опять мы читаем в нем, то есть, как я понимаю, без скорбей нельзя стать ничем высоким, хорошим, нельзя стать настоящим человеком. Я сам подвергался скорбям; тяжело было переносить; но, слава богу, бог помог мне перенести их, и я благодарю теперь за них бога. Подвергшись испытанию, он выйдет из него тем чище, тем достойнее и перед богом и в глазах человеческих. Пусть мужается».
Опять стал спрашивать о Вас, милая маменька, о Вас он тоже много говорил. Спрашивал о Любиньке (которую он знает больше всего потому, что она прежде жила с нами вместе), о Иване Григорьевиче (который раз из Сената заходил к нему, но не застал его дома), о тетеньке, как они теперь живут; я сказал, что теперь, слава богу, не так, как прежде.
«Ну, пиши же своему папеньке, что я очень, очень помню его; дай бог ему быть здоровым; а я вот, приехавши сюда, все не могу еще поправиться; я и там у себя чувствовал некоторое расстройство, а здесь с дороги и после перемены климата чувствую еще больше что-то нехорошо себя».
Он дал мне в благословение книжку «Окружное послание Восточной церкви». Велел заходить к себе. Мне так теперь совестно, что я так медлил сам явиться к нему за благословением, думая, что, может быть, что мне не следует беспокоить его. Теперь нужно бывать у него. Напишите ему, милый папенька: это ему будет приятно, я думаю: он так помнит Вас, высказывает такую любовь к Вам.
Вчера, 23 числа, мне сказал Ал. Фед., что сюда приехала
178
утром Анна Дмитриевна и остановилась у Ник. Дм. Ступина. Я и у Ник. Дм. хотел уже быть, да все собирался уже. А вчера, шедши мимо их квартиры, решился зайти. Анна Дмитриевна была еще у Переверзевых на обеде, когда я пришел, потом скоро воротилась. Ник. Дмитр. сам нездоров теперь, застудил флюс или что-то подобное на руке и теперь должен сидеть. Александры Антоновны я не видел, потому что она занималась все детьми, из которых один тоже болен. Они вам кланяются.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Целую своих милых сестрицу и братца.
108
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
31 января 1850 г.
Милые мои папенька и маменька.
О том, как исполнено ваше поручение о покупке ножичка, Вам написала Любинька, милый папенька. Не знаю, так ли это сделано, как Вам было угодно.
Ив. Егор. Поляков не догадался спросить моего адреса у швейцара, поэтому просто оставил мне письмо в университете с своим адресом. Я был у него, взял у него посылку вашу и просил его к нам. Он был на другой день, но меня не было дома; он несколько времени посидел у нас с Любинькою и Ив. Григорьевичем. Покорно благодарим вас, милые папенька и маменька, за икру: она так хороша, что такой здесь едва ли можно найти.
Я виноват перед Вами, милый папенька, что до сих пор не отвечал на Ваш вопрос о старшем Благосветлове: у субинспектора мне не хотелось бы об этом спрашивать, потому что этим высказываешь какое-то сомнение в том, о ком спрашиваешь; я все дожидался, пока увижусь с его братом. Но, получивши Ваше последнее письмо, я справился в университете, и мне сказали, что он не выходил и, тем более, не был исключаем из университета, а и теперь остается студентом его. Верно, в Саратове говорят, что он исключен. Я не знаю, отчего этот слух произошел. Может быть, не оттого ли, что его фамилию смешали с фамилиею покойного Лебедевского, который выходил было из здешнего университета, думая перейти в московский, но перед смертью опять, кажется, поступил в студенты здешнего. Вам, может быть, покажется странно, что я сам не знал того, продолжает ли Благосветлов быть студентом, или нет; если продолжает, то я бы видел его, если не вижу его в университете, значит, он уже не студент. Но, во-первых, многие студенты никогда не бывают в университете или почти никогда, особенно юристы и камералисты; во-вторых, если бы Благосветлов и бывал каждый день, я мог бы его не видеть, потому что обык-
12*
179
новенно не выхожу из аудитории в коридор, в котором прохаживаются студенты между лекциями и в котором только и видятся студенты разных факультетов; может быть, и Благосветлов имеет ту же привычку, и кажется, что имеет — тем легче нам не видаться с ним по два, по три месяца. Теперь он болен, как говорил мне швейцар. Простите мою медленность, милый папенька.
Я виноват также, что еще не отвечал Вам, милый папенька, на вопрос Ваш о Филиппове, студенте здешнего университета, замешанном в деле Петрашевского. Лично я его не знал; кто знал, говорят, что он много занимался естественными науками и некоторые (напр., геогнозию и минералогию) знал чрезвычайно хорошо (он шел по естеств. факультету). Говорят тоже, не знаю только, интересно ли Вам будет знать это, что замешался он в это дело потому, что был в коротком знакомстве с другими обвиняемыми, что его выпустили бы, как совершенно ни в чем невиновного, если бы у него не был такой горячий характер; он, раздраженный тем, что без вины сидел несколько месяцев в крепости, слишком дерзко отвечал судьям, т. е. не отвечал, а укорял или слишком горячо упрекал их в неосмотрительности, и поэтому был сочтен очень опасным человеком. Не знаю, правда ли это, или он в самом деле участвовал в чем-нибудь. Да никто почти не знает и того, было ли действительно что-нибудь, в чем бы можно было участвовать — большая часть думает, что кроме того, что собирались молодые люди, неосторожные на язык и напитанные чтением французских книг, и толковали о политике, едва ли что было. А впрочем, бог знает. Только что-то мало вероятия, чтобы что-нибудь было подобное декабрьскому замыслу. Вообще здесь об этом деле очень мало говорили, т. е. кроме тех, у кого были тут замешаны знакомые, никто и не говорил и не думал, потому что считали это все слишком пустым шумом. В провинциях, должно быть, думали, что тут есть что-нибудь серьезное, потому что приезжие обыкновенно спрашивали: «Ну что тут было у вас?»
Иной просто отвечает: «А что такое? Я ничего не слыхал» и в самом деле он или не слыхал, или уже успел позабыть.
Вообще было это дело, не заслуживающее внимания. Кажется, жалели, что и подняли шум из-за него; но раз поднявши шум, разумеется, уже нельзя же было кончить ничем.
Действительно, милый папенька, для получения степени кандидата нужно представить диссертацию. Я ее еще не начинал писать, потому что все было некогда — жаль только, что хлопотал я часто по пустякам. И едва ли будет время приняться за нее прежде конца или последних чисел февраля — много еще нужно сделать другого дела. Если останется довольно времени, я напишу Куторге по кафедре истории, скорее всего взявши что-нибудь из XV — XVI века; если не будет на это достаточно времени (что и случится, вероятно), напишу Никитенке, из истории русской литературы — на это понадобится разве недели две, чтобы уже написать
180
предлиннейшую и даже прекраснейшую, потому что тут не нужно много приготовительных работ. Проща те, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Да позабыл было: в пятницу дали нам министра — государь утвердил Ширинского-Шихматова, прежнего товарища министра. Это, кажется, самое лучшее, чего можно было ждать. Он, говорят, добрый и прекрасный человек; правда, что человек слабый и потому могущий подвергаться дурным влияниям, но что же делать? Все он лучше всех, которые надеялись быть министрами.
109
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
[7 февраля 1850 г.]
Милые мои папенька и маменька! Покорно благодарю вас за деньги, присланные в последнем вашем письме. Ножичек Ив. Григорьевич купил, не знаю только, такой ли, какого вам хотелось, милый папенька. Если не такой, то вы сделайте милость напишите: я поищу получше.
Вы спрашиваете о том, могу я кончить с правом служить прямо в министерствах — я не знаю, могу ли сказать, что кончу. Право служить в министерствах получают трое каждый год, по одному из каждого факультета; в каждом факультете по два отделения; в нашем — наше и восточное. Право получает, конечно, тот, у кого лучше баллы на окончательном экзамене. Если на нем баллы у двоих или более равны, — тот, у кого они лучше на предыдущих экзаменах. Теперь пока, кажется мне, у меня были баллы лучше других на двух экзаменах; на одном (во втором курсе) удалось еще одному получить такие же баллы. Впрочем, не ручаюсь за совершенную верность своих слов, потому что, может быть, и за 2 курс баллы у меня лучше, но едва ли. Но это только в нашем отделении; какие баллы у студентов нашего курса восточного отделения, я не знаю; кажется, у одного из них тоже очень хорошие баллы. А о том, какие баллы получу я и получат другие на этом экзамене, трудно сказать что-нибудь положительное. Если даст бог получить такие же и мне и другим студентам нашего отделения, какие получали мы в прошлые года, то кажется, что я буду иметь право служить в министерстве прямо. Если вам угодно, чтобы я служил по гражданской службе, то вы скажите мне это, милые мои папенька и маменька, — для меня лучше то, что кажется лучше вам.
Относительно тех лиц, которых вы можете просить обо мне, милый папенька, мне известно вот что:
Служить у Оржевского, кажется, хуже, нежели где бы то ни было, потому что он человек слишком нещедрый; у него так туго даются места, как нельзя более. Можно наверное сказать, что он
181
заставит более полгода прождать штатного места. Переверзева он, не знаю я, и послушается ли, потому что не любит его, хотя по наружности они очень хороши; да и Переверзев его тоже не любит. Поэтому ни Федора Лукича, ни преосвященного Иакова, кажется мне, нельзя утруждать просьбами обо мне.
Софронов, я теперь не знаю, чем здесь. Постараюсь узнать и напишу в следующем письме, может ли что-нибудь сделать, если бы и захотел.
По министерству иностранных дел определиться очень трудно, потому что туда теснится знатная молодежь. Нужно иметь для этого человека, который был бы большой приятель кому-нибудь из тамошних.
Не знаю также и о том, имеет ли какую-нибудь силу здесь и Железнов. Т. е. сила эта состоит не в том, чтобы быть важным чиновником: часто самый важный сановник не может располагать ни одним местом у других и не имеет у себя ни одного места, на которое определял бы, — например, статс-секретарь Никитин должен же был просить у Оржевского места одному из товарищей Алекс. Федор., потому что ни сам не имел для него места, ни другого никого не имел, кроме Оржевского, кого мог бы просить. Оржевский принял, конечно, но не давал несколько более года штатного места. Поэтому, если человек не имеет возможности дать места, — прося его, только стеснишь и его, [и] себя.
Вот Козьма Григорьевич имеет у себя иногда в распоряжении места и для Вас, конечно, дал бы, если бы мог; но трудно ему, очень трудно располагать этими местами, потому что они считаются едва ли не лучшими из всех департаментских мест, и потому можно представить, что на каждое являются кандидаты с сильнейшими протекциями, так что по большой части Козьме Григорьевичу бывает совершенно ничего нельзя сделать человеку, хоть и хотел бы. Кроме того, у них, кажется, принято за правило давать места только тем, кто прослужил уже 2 — 3 года где-нибудь в другом месте. Отчасти и потому уже, что самые низшие места у них (те, из которых одно занимает Ол. Яков.) равняются месту столоначальника в департаментах; а места столоначальников даются не иначе теперь, как через 2 — 3 года службы.
Так как у меня остается времени свободного до экзаменов более, нежели я сначала думал, то я думаю писать диссертацию Фишеру, что-нибудь из истории философии, например хоть о Лейбнице. Недели через три я кончу свои занятия и тогда поговорю с ним.
В пятницу я видел Григ. Евл. Благосветлова в университете. Он говорил, что был месяца два болен; болезнь его, после многих вариаций, которые она всегда любит в Петербурге, кончилась грудною болью. Теперь он опять начал бывать в университете. Он говорил, что инспектор был у него во время болезни несколько раз, постоянно гонял к нему университетского доктора (который
182
не отличается любовью посещать больных студентов) и т. д. — значит, не только не был он исключен из университета, но на очень хорошем счету у инспектора, который также не слишком отличается заботливостью. Он просил засвидетельствовать Вам милый папенька, его глубочайшее почтение. Впрочем, он всегда говорит с большою признательностью о Вас.
Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне.
Целую ручку у своего крестного папеньки.
Прощайте до следующего письма, милые мои папенька и маменька.
Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую своих милых сестрицу и братца.
P. S. Ныне приснилось мне, что я дома, у вас, будто бы уже июнь месяц, и я уехал к Вам.
110
14 февраля 1850 г.
Милые мои папенька и маменька! Едва я не позабыл, что ныне нужно отправить письмо к вам, и вспомнил уже тогда, когда стал одеваться итти в университет. Поэтому и не мог почти ничего написать.
Любинька, верно, вам напишет, что мы перешли на другую квартиру; это переселение совершилось в субботу.
В Петербурге новостей, кажется, нет никаких.
В среду на акте был у нас новый наш министр. Главным действующим лицом на акте был Иаков, потому что ни митрополита, ни Иннокентия не было.
Иакова, кажется, хотят перевести в Воронеж — это, кажется, много выше нижегородской кафедры.
Прощайте до следующего письма, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Целую своих милых сестрицу и братца. Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне.
111
21 февраля 1850 г.
Милые мои папенька и маменька! Мы, слава богу, теперь все здоровы.
У преосвященного Иакова буду я скорее всего в один из последних дней масляницы.
183
У нас по министерству опять новость: назначили товарищем министра Норова, того, который написал путешествие во Святую землю. Вчера он был у нас в университете; к нам зашел он, когда была лекция Фрейтага. Его лицо мне понравилось более, чем лица других наших высших сановников — умное и благородное. Росту он среднего или несколько пониже среднего; одной ноги нет (он ведь прежде был военным). Приезжал он к нам в простом фраке.
Пробыл у нас в аудитории минут пять, разговаривая с Фрейтагом по-французски (по-русски Фрейтаг может несколько говорить, но с трудом, поэтому никогда не говорит). Взошедши и подавая ему руку, он сказал: «Мне очень приятно познакомиться с вами, сколько по причине ваших глубоких познаний, столько и по причине вашего родства с нашим знаменитым кавказским героем» (Фрейтаг, генерал, бывший на Кавказе, кажется, брат нашему). Потом обменялись с ним несколькими словами о латинских поэтах, из которых видно, что он знаком с ними.
У нас все ждут и государя в университет, но, верно, ждут понапрасну.
Слухи о войне на следующую весну все усиливаются, и теперь, кажется, не подлежит сомнению, что мы готовимся к войне с Пруссиею. Будет ли в самом деле война, это другой вопрос. Мне кажется, что скорее кончат дело взаимными уступками и помирятся, потому что нет сомнения, что с обеих сторон, особенно с прусской, слишком много есть соображений, заставляющих бояться войны. Если бы хотели воевать с Турциею, это было бы вероятнее, но войска направляются к Неману; а двух войн в одно время, вероятно, не начнут, надобно думать.
Прусский король, прогуливавшись, ушиб себе ногу о камень (каким образом? упал из коляски или с лошади? — об этом не успели еще известить, потому что это известие получено по телеграфу); впрочем, не сильно, потому что через два дня уже мог он принимать и заниматься, хотя из комнаты еще не может выходить.
Ha-днях привезли к нам из Англии 374 пуда золота (или 372, не знаю хорошенько), потому что мы заключили там заем на эту сумму (5 милл. фунтов стерлингов, 30 милл. с небольшим рублей серебром); официальное назначение этих денег — окончание московской железной дороги. В самом деле на это ли заняли их. или, как говорили англичане, на покрытие издержек Венгерской войны (стоившей 150 милл. ассигнациями), разумеется, нельзя нам решить.
Еще новостей, кажется, нет. Не знаю, кажется, и эти для вас не слишком интересны. Но пишу на всякий случай.
Недолго остается уже до начала экзаменов. Всего 6 недель. Пора начинать писать диссертацию для степени. Я теперь хочу писать Фишеру из философии и завтра поговорю с ним. Я хотел писать из истории философии, о Лейбнице; не знаю, одобрит ли он выбор предмета.
184
Так вот теперь всего 3½ месяца осталось до окончания курса. Что-то даст бог после.
Икру мы едим с большим удовольствием, и почти всю уже, кажется, съели. Она очень хороша.
Покорно благодарю вас, милые мои папенька и маменька, за деньги, присланные при последнем вашем письме.
Целую ручку у своего крестного папеньки.
Целую своих милых сестрицу и братца. Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
112
27 февраля 1850 г.
Милые мои папенька и маменька! Мы все, слава богу, здоровы и кроме этого и лучше этого пока нечего сказать.
В пятницу я вздумал поговорить с Фишером о диссертации, которую хотел писать для него (я хотел писать о Лейбнице). Только я сказал ему: «Позвольте мне посоветоваться с вами, Адам Андреевич: я хотел писать по вашей кафедре диссертацию на кандидата», как он сказал с живостью: «Нет, не пишите, не советую; время неудобное». После этого, кажется, не нужно комментариев к тому, каково ныне время.
На другой день я поговорил с Никитенкою и начну на-днях писать о Фон-Визине. Впрочем, теперь жалею, что не поговорил прежде с Куторгою. Теперь уже неловко, сказавши другому профессору, что буду писать ему.
Если Вам это известно, милый папенька, то я попросил бы Вас написать мне, какие именно были в Саратове следствия того, что были разосланы к епархиальным архиереям проекты закона о том, чтобы причетницких детей не принимать в семинарии: некоторые опасаются, что архиереи, может быть, уже стали соображаться с ними, и опасаются за своих родственников. Я думаю, что при переходе в риторический класс в саратовской семинарии дети священнослужителей переводятся так же беспрепятственно, как и дети священников, потому что ведь эти указы разосланы только для того, чтобы архиереи подали о них свои мнения, а не для того, что они уже имеют силу закона — может быть, они никогда и не получат ее.
Если Афанасий помнит еще о Неволине, то Вы, может быть, сообщите ему при случае, что Неволин женился. Это большей части знающих его казалось забавным, потому что он так небрежно держал себя относительно внешности, так плохо и беззаботно одевался, причесывался и т. д., что нельзя не посмеяться, вообразивши его женихом. Само собою, это говорится так; он человек, заслуживающий глубокого уважения своим трудолюбием,
185
своею ученостью, своею деятельностью. Женился он на девушке, но молода ли она, много ли приданого, ничего я не слышал. Не знаю хорошенько и ее фамилии.
Не знаю, отчего это Григ. Благосветлова назвали в той бумаге, о которой Вы пишете, бывшим студентом — правда, что чиновники нашего правления не отличаются умом, и можно скорее всего приписать это какому-нибудь глупому недосмотру с их стороны; но такой недосмотр был бы уже велик и странен; впрочем, и то нужно сказать, что они делают недосмотры еще больше этого, которые ежедневно читаешь на объявлениях, привешенных по стенам.
О Норове, товарище министра нашего, я писал Вам; пока еще ничего не слышно о них с министром.
Едва ли была болезнь преосвященного Иакова тяжела до такой степени, чтобы он был соборован: он говорил в довольно общих выражениях только, что был нездоров.
Во всем Петербурге только и слышно теперь, что гром барабанов, труб и т. д.: беспрестанно войска учатся.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне, Алексею Тимофеевичу, Кондрату Герасимовичу.
Целую своих милых сестрицу и братца.
113
6 марта 1850 г.
Милые мои папенька и маменька! Чтобы сохранить себя от всякой возможности предаться на масляницу каким-нибудь излишествам, я догадался очень умно вспомнить о своей старинной зубной боли; как раз в пятницу же вечером заболели у меня слегка зубы; я вычистил их табаком, и они замолчали на сутки; в субботу опять занывали, воскресенье опять, ныне (в понедельник) опять — день совершенно ничего, вечером нужно прибегать к табаку. Поэтому я и сидел все эти дни дома, опасаясь, чтоб не простудить их и чтоб не принялись они болеть серьезно. Поэтому и не взял я до сих пор вашего письма из университета. А может быть, его и не приносили еще и принесут только завтра, во вторник, потому что на масляницу почти никогда не получал я писем во-время. Завтра мне нужно быть в университете, и я возьму его.
Впрочем, не беспокойтесь, зубы у меня болели или болят очень, очень не сильно, и если я не выходил, то только по осторожности, чтоб не заболели сильнее.
186
У нас очень хорошая новость, что лекции кончаются 15 числа — следовательно, больше свободного времени для экзаменов. Итак, остается почти только неделя походить еще на лекции.
Поэтому мне вздумалось, что лучше говеть не на страстной неделе, а этак на 4, на 5. Не знаю еще, нужно сообразить это.
Новостей, кажется, нет никаких.
Разве то, что в Синод хотят вызывать Григория, архиепископа тверского (мне говорили, что он ученик и любимец московского Филарета и имеет с ним сходство в характере — Вы, я думаю, больше знаете о нем, милый папенька). Это еще более усилит в Синоде митрополита и Баженова (Иннокентий, кажется, больше держит сторону обер-прокурора).
Слышал я еще вот какой анекдот о том, как был назначен министром Ширинский. Государь спросил кого-то из своих приближенных: «Что говорят — кто будет назначен министром нар. Прос.?» — «Все говорят, в[аше] в[еличество], что граф Протасов». Через два часа государь назначил Ширинского. Все это, конечно, вещи очень апокрифические.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне и всем. Целую своих милых сестрицу и братца.
14 марта 1850 г.
Милые мои папенька и маменька! Покорно благодарю вас за деньги, присланные с вашим письмом, которое получил я в прошлый вторник.
Так как на акте нашем не было ни митрополита, ни Иннокентия, то Иаков занимал первое место. До его приезда сидел на нем министр, как он вошел, встали и усадили его председателем. Он раздавал и медали. Ряса на нем была, кажется, темнокоричневого цвета, почти черная. Но утвердительно сказать не могу, потому что и теперь я все так же пропускаю все мимо глаз, как и прежде.
А. Ив. Жегин был у нас. Я думаю, вам напишет об этом Любинька.
Вам угодно знать новости здешние? Я не знаю, угождаю ли я вам, когда сообщаю что-нибудь о заграничных происшествиях или об отношениях наших с другими державами, — мне кажется, что я ошибаюсь, если когда думаю, что должен писать вам что-нибудь об этом. Но теперь напишу на всякий случай.
187
Слухи о войне все продолжают ходить. Война если будет, то будет или с Пруссиею (эта может обратиться во всеобщую войну и потому-то невероятна — западные державы неохотно при настоящем положении дел решатся на войну), или с Турциею (здесь почти без сомнения объявит нам войну и Англия — и опять по этому самому война не слишком вероятна: ведь это и для нас, и для Англии страшный шаг).
У нас лекции кончаются послезавтра или, если профессор успеет кончить, даже завтра.
Мы начинаем довольно серьезно готовиться к экзамену.
Ныне была у нас (понедельник) последняя лекция Срезневского; он простился с нами в очень теплых выражениях.
Даже и Фрейтаг простился довольно мило, чего от него мы не ожидали. Это, что лекции кончаются 15 марта, вздумал попечитель, за что нельзя не благодарить его.
Чем ближе подходит время окончания курса, тем больше думаешь о том, какое получишь и скоро ли получишь место. У нас в курсе 12 человек, едва ли когда столько бывало в филологическом факультете. Из них человек 9 или 8 по крайней мере хотят остаться здесь; другие (не знаю даже, едва ли есть хоть один, который хотел бы) немногие согласятся принять место не в Петербурге, если уже так понадобится.
И теперь человека четыре из наших думают держать на магистра. Разумеется, некоторые только думают, а терпения недостанет. Есть и такие (и кроме меня), которые не ограничатся, пожалуй, и магистром, дай только волю. Один, впрочем, верно уже будет держать на магистра (Корелкин).
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне и всем.
Целую своих милых сестрицу и братца.
115
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
21 марта 1850 г.
Милые мои папенька и маменька! Вот у нас уже совсем кончились лекции; через две с половиной недели начнутся экзамены.
Мы нынешний великий пост постимся, хотя не совсем, потому что едим рыбу.
Я на-днях буду у преосвященного Иакова, попрошу у него благословения на экзамены.
188
Вы спрашиваете о моих знакомых, милая маменька? Кроме товарищей по университету, из которых с двумя или с тремя буду я поддерживать знакомство и по окончании курса, из своих ровесников по летам я не знаком порядочно ни с кем.
Самый хороший мой знакомый уже давно, года три, Вас. Петр. Лободовский, годами четырьмя или пятью постарше меня. Я с ним часто виделся, когда мы жили на прежней квартире, раза четыре в неделю иногда. Теперь, когда живем очень далеко друг от друга, в разных концах города, видимся, конечно, реже. Мне потому понравилось его знакомство, что он мне кажется умнее, да и по характеру лучше всех других молодых людей, с которыми я встречался: другие кажутся перед ним как-то слабоватыми по уму. Живет он очень небогато, похуже, нежели живем мы. Живет тем, что дает уроки. Он человек женатый.
В первое время по приезде сюда я был тоже очень хорошо знаком с Михайловым; но он скоро уехал в Нижний-Новгород служить к дяде. Теперь, кажется, опять хочет воротиться сюда, по крайней мере, на несколько времени.
Потом я большой приятель попрежнему с Александром Федоровичем.
Из товарищей по университету я буду продолжать знакомство со Славинским (если вы помните, я писал вам о нем, он сын протопопа у здешней Пантелеймоновской церкви у Летнего сада), и, вероятно, с Корелкиным — впрочем, это еще как случится. Если будет продолжаться мое знакомство с другими товарищами, так это по каким-нибудь случайным обстоятельствам — напр., если приведется часто где-нибудь встречаться, служить в одном месте или т. п.
Собственно настоящее хорошее расположение я имею к Лободовскому и к Славинскому. С другими знаком, потому что случилось познакомиться. И с Алекс. Федоровичем, напр., разве, если б не были у нас такие родственные отношения в Саратове, и если поэтому не пришлось бы жить два года вместе, я стал бы коротким приятелем? А теперь, разумеется, по привычке чувствуешь к нему, т. е. его делам, участие.
Да, я позабыл было Ивана Васильевича. Ныне мы с ним редко видимся, с тем пор, как воротились с дачи, раза четыре всего. Но в сущности он славный человек, и увидеться с ним иногда бывает приятно.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне и всем.
Целую своих милых сестрицу и братца.
189
116
Г. И. И Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
28 марта 1850. СПБ.
Милые мои папенька и маменька! Мы получили ваше письмо от 14 марта. Я пока понемногу готовлюсь к экзаменам. Кажется, я еще не посылал вам расписания их — вот оно:
Апрель . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Фишер Май . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Устрялов
» . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Никитенко » . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Грефе
» . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Фрейтаг Июнь . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Неволин
Май . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Срезневский » . . . . . . . . . . . . . 6 и 7 новые языки
» . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Куторга
Фрейтаг говорит на лекции по-латине, точно так же, как и Грефе, студенты тоже по мере сил своих говорят пo-латине; экзамен также из латинского и греческого бывает на латинском.
В следующем письме, вероятно, напишу фамилию жены Неволина — теперь еще не узнал хорошенько, но помнится, что — Миллер; что немецкая фамилия, это верно.
Покорно благодарю Вас, милый папенька, что Вы потрудились написать о церковнослужительских детях.
Здесь уже началась теплая погода; вчера было очень тепло, солнечная сторона широких улиц уже начинает просыхать, один из тротуаров на всех улицах уже совершенно сухой.
Губернатор саратовский здесь, кажется, успел поставить себя на хорошем счету в министерстве. А Бахметев вызван, кажется, потому, что под каким-то делом и, кажется, довольно нехорошим.
Новостей, кажется, никаких нет в Петербурге. Кажется, нет никаких новостей и за границей.
Прощайте до следующего письма, милые мои маменька и папенька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне, Кондратию Герасимовичу, Якову Федоровичу и всем.
Целую своих милых сестрицу и братца.
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
4 апреля 1850 г.
Милые мои папенька и маменька! Любиньке заметно стало лучше — скоро, я думаю, начнет она выходить; я думаю, как только просохнет.
А просохнет скоро; и теперь уже большая часть мостовой суха; вероятно, через неделю можно будет ходить без калош.
190
Нева уже готовится вскрыться; по льду уже не ходят. Дурно, очень дурно сделает она, если не продержится до субботы — у нас в этот день (8 апреля) экзамен; если мост будет разведен, а перевоза еще не будет, придется откладывать экзамен до другого дня, а это всегда неприятно.
Я смешался, милый папенька, и теперь уже не могу припомнить хорошенько, кого, Гавриила или Григория вызывают в Синод, — кажется, что Григория.
Когда я прочитал в вашем письме о смерти Волкова, я вздумал: не угодно ли будет, чтобы я по окончании курса попросился на это место, если оно еще не занято и не будет (что и вероятно) до тех пор занято?
За успех я отвечать не могу, но очень может быть, что и можно будет выпросить это место.
Что касается собственно до меня, я не умею сказать хорошенько, что я выбрал бы — остаться здесь, или поехать в Саратов — кажется, что поехал бы к вам. Если вам угодно, я стану просить об этом.
Что касается до будущей карьеры, так то, что я прослужу несколько лет в Саратове, ей помешает очень немного; вероятнее даже, что не помешает вовсе или еще пособит, если я буду жить там, все равно я буду заниматься тем же, чем стал бы заниматься и здесь, и через несколько времени поеду в Петербург держать на магистра; если не поеду, значит, и здесь не стал бы держать (но теперь я иначе и не думаю, как держать непременно), значит, все равно был бы я и здесь учителем, если еще успел бы достать учительское место, чего может и не случиться.
Сделайте милость, милые мои маменька и папенька, подумайте об этом, вероятно место выпросить можно, если оно не занято еще (место, я понимаю, старшего учителя словесности в саратовской гимназии. А может быть, там есть еще и другие места по нашему факультету?). А я скорее всего стал бы проситься туда. Но, сделайте милость, решите это вы и напишите, что вы решите, что в ы решите, а не так, чтоб я делал, как мне кажется лучше.
Сделайте милость, напишите так, чтоб не осталось сомнения.
Прощайте до следующего письма, милые мои папенька и маменька.
Ваше письмо с ответом на это будет получено мною 28 — 29 числа апреля и 1 же мая у нас будет экзамен Срезневского, на котором представится, вероятно, случай попросить, если вы напишете, что нужно.
Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне, Кондратию Герасимовичу, Якову Федоровичу и всем.
Целую своих милых сестрицу и братца.
191
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
Милые мои папенька и маменька! Вчера был у нас Фишеров экзамен; он прошел для всех нас хорошо. Собственно назначен был он в пятницу, но в пятницу было «открытие нового цензурного комитета» (какого это? уж я не знаю), и Фишера назначили присутствовать при этом.
Теперь и Никитенкин экзамен отложили поэтому до субботы, чтобы было время приготовиться.
Я заходил к Иакову; он нездоров и не принимает. Зайду на-днях спросить о его здоровье. Нездоров он от здешнего климата и по всегдашней слабости своего здоровья.
Покорно благодарю вас, милые мои папенька и маменька, за деньги, присланные вами с вашим последним письмом.
Ключарев служил здесь, кажется, довольно порядочно, но неужели можно кому бы то ни было поверить на слово, что он близким человеком к министру? Возможное ли это дело для Ключарева и подобных ему молодых людей незнатного происхождения? Блестящая, самая блестящая служба будет тогда, если через два-три года удастся такому человеку занять место столоначальника — да и этого нынче никогда не бывает. Положение об экзаменах на магистра я знаю несколько; и через год держат редко, обыкновенно проходит 1½ — 2 года в приготовлениях.
Новостей здесь нет никаких; да и за границей тоже.
Здесь почти все улицы совершенно сухи. Грязь есть только в отдаленных узеньких закоулках.
Нева еще не вскрылась.
Прощайте до следующего письма, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Целую своих милых сестрицу и братца. Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне, Кондратию Герасимовичу, Якову Федоровичу и всем.
Александр Федорович свидетельствует вам свое глубочайшее почтение.
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
18 апреля 1850 г.
Милые мои папенька и маменька! На этой неделе было у нас два экзамена — Никитенкин и Фрейтагов. Оба они для меня прошли как следует. Теперь остается еще пять или, по-настоящему
192
(нужно же считать и экзамен из какого-нибудь нового языка) шесть экзаменов, четыре факультетских и два (Неволина и из новых языков) нефакультетских.
Письма вашего от 4 апреля мы еще до сих пор не получали; конечно, потому, что дорога испортилась.
Я начал говеть. Причащаться хочу в субботу у ранней обедни. Если я огорчал вас, милые мои папенька и маменька, по своей нерассудительности, простите меня.
Любиньке довольно заметно становится лучше.
Нового в Петербурге едва ли есть что-нибудь. Разве то, что опять начались холода, как Нева вскрылась. Да, разве прибавить еще, что одну барку на Неве сорвало льдом с якоря и понесло вниз по течению на новый мост. А на нем во всю длину выстроены леса для того, чтоб можно было наложить арки (после, конечно, леса выберут из-под арок). Чтобы не разрушило мачтою леса, начали ее рубить. А между тем барку нанесло сильно на бык, и она разбилась. Видевшие, что на ней были люди, думали, что они погибли, и эта весть разнеслась по городу. Один мой знакомый пошел узнать подробности погибели и, нашедши у Нового моста мужика, спросил его, много ли потонуло людей? «Нету, барин, народу-то никого не потонуло, повыскакали на эти же самые леса, об которые разбилась барка — я сам ведь был тоже на ней; а такое несчастие случилось — топор потеряли; так и потонул, — а совсем новый был».
Во Франции так не обошлось на-днях так благополучно. Шел батальон солдат через висячий мост. Одна цепь оборвалась; солдаты бросились к другой стороне моста — и другая цепь не выдержала, и мост полетел в реку. Из четырех рот уцелела только одна, которая уже успела перейти; а три другие потонули, почти все до последнего человека. Всего погибло более двухсот человек, или лучше сказать, более трехсот, потому что из вытащенных ни один почти не остался в живых, несмотря на все пособия.
Честь имею поздравить вас с светлым праздником; он будет уже прошедшим, когда вы получите это письмо, но я по своей всегдашней забывчивости, кажется, пропустил поздравить вас прежде.
Вчера встретился с Андр. Ив. Жегиным. Он ездил в Москву; теперь опять воротился сюда и проживет здесь праздник.
Прощайте до следующего письма, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне, Якову Федоровичу, Кондратию Герасимовичу.
Целую своих милых сестрицу и братца.
13 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
193
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
25 апреля 1850 г.
Милые мои папенька и маменька!
Честь имею поздравить вас с светлым праздником. Желаю вам встречать его в следующие годы счастливо и в радости. Мы его встретили почти без всякого особенного приготовления или торжества, главное потому, что Любинька еще не совсем выздоровела, хотя и очень заметно поправляется. Я думаю, что она скоро станет выходить. Я тоже почти не праздновал, потому что совершенно некогда.
Поэтому же отчасти, а отчасти и по собственной вине, я и говел не совсем исправно; заутрени две пропустил. Причащался в субботу.
На пасху ни у кого почти не был; только был в университете за вашим письмом; но его до сих пор еще нет.
В понедельник у нас экзамен.
Вчера был у нас Андрей Ив[анович] Жегин. Он пробудет здесь и Фомину неделю.
Не знаю, есть ли какие-нибудь новости. Я, кажется, ни одной не слыхал.
На первый день пасхи погода была чудесная; теперь пасмурно, и вчера раза два начинал накрапывать дождик. Нева прошла уже давно; теперь, кажется, прошел весь или почти весь лед и из Ладожского озера.
Да, я слышал на-днях, что Куторгина книжка «История Афинской республики от изгнания Гиппарха до смерти Мильтиада» удостоена половинной Демидовской премии. Это небольшая книжка, страничек в 150. Конечно, она лучше всего, что выходило в России по древней истории, и лучше без всякого сравнения.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне, Кондратию Герасимовичу, Алексею Тимофеевичу и Катерине Григорьевне, Якову Федоровичу и всем. Целую своих милых сестрицу и братца и поздравляю их с праздником.
2 мая 1850 г.
Милые мои папенька и маменька! Заключая из вашего письма, что вам будет более приятно, если я получу место в Саратове, я стану проситься туда. Здесь попечитель Казанского
194
округа Молоствов, его хотели попросить, если будет нужно, и теперь я попрошу исполнения этого обещания.
Только позвольте мне просить вас не огорчаться, если я не так, может быть, понял ваше желание, — вы, как прежде, так и в этом последнем письме, выразили его так неопределенно или с такими оговорками, что я мог ошибиться, мог понять ваши слова не в том значении, какое вы придавали им. Это меня приводит в затруднение относительно того, на что решиться. Я и не знаю, если я решился не так, как по вашему желанию мне нужно было решиться, это значит только, что во мне не достало проницательности отгадать вашу волю, а не то, что не было желания исполнить ее.
Вы все отлагаете решительный ответ свой до того времени, когда я более объясню вам тот или другой пункт в моих мыслях относительно будущего. Но как будто выбор будущего мною зависит от воли человека — главное, случай: представится случай, и сделаешься или принужден будешь сделаться не тем, чем думал; не представится случай — и не сделаешься тем, чем хотел быть — последнее бывает всего чаще с людьми, подобными мне, у которых планы отзываются каким-то, по их собственному мнению, не совсем практическим характером.
Неужели от меня зависел бы выбор рода службы, если бы я оставался здесь? Я хотел бы получить место учителя здесь в гимназии, а наверное можно сказать, что мне удалось бы получить его через год, через полтора, выдержавши на магистра, не иначе. А что же делать до тех пор? Не так же жить; и поступил бы куда-нибудь на службу. А куда поступить? Этого нельзя здесь разбирать, — куда бы ни поступить, лишь бы поступить, потому что здесь не места ищут людей, а люди места. А поступивши на службу, разве можно предвидеть, как она пойдет и куда завлечет? Пойди она удачно, тогда, конечно, должно будет не упускать обстоятельств, все остальное на время бросить и заняться службою. А бросивши на время, можно бросить и навсегда. Ничего верного нельзя сказать вперед. Можно только иметь кое-какие планы, а за то, исполнятся ли они, нельзя ручаться; можно ручаться скорее за то, что они не исполнятся, а будет как-нибудь иначе, нежели предполагал. Что до моих планов, они были бы такие, чтобы держать на магистра, потом на доктора.
Но ведь этого мало сказать: «держать на магистра и доктора» — до докторства пройдет четыре-пять лет, да и докторство, еще неизвестно, много или мало принесет пользы — конечно, должно думать, что принесет много пользы, но очень может и не принести, как случится.
Таким образом, жизнь наша, т. е. жизнь людей, не имеющих независимости, — а для независимости нужно слишком большое имение — гораздо более зависит от обстоятельств, нежели от нашей воли. Выбираешь себе цель, это так, но пока достигнешь це-
13*
195
ли, нельзя же быть ничем, должен занять какое-нибудь место в обществе, а оно повлечет с собою столько условий, отношений и т. д., что немного останется на долю собственной воли.
Таким образом я буду просить о месте в Саратове. Если удастся получить его. я буду, живя там, готовиться на магистра; если от этих приготовлений не отвлекут обстоятельства, через год, много через два (на каникулы 1851 или 1852 года) я поеду в Петербург держать на магистра. Пока здесь некоторые из наших профессоров, я могу надеяться на радушный прием. Поеду я, взяв отпуск. Если выдержу, и ничего не будет предложено мне здесь — что тогда делать? Этого нельзя сказать вперед. Может быть, ворочусь в Саратов опять, может быть, сделаю что-нибудь другое — это опять зависит от вашей воли, от обстоятельств и менее всего от моей воли. А если будет предложено здесь место — останется только благодарить и принять.
Если не получу места в Саратове, я останусь здесь, буду тоже готовиться на магистра — какого рода, учительское или нет займу место, это будет зависеть не от меня — какое будет лучше из тех, которые можно будет занять. Но прежде, вероятно, съезжу увидеться с вами, — но и это ведь «если позволят обстоятельства» — представься такой случай, упустивши который, будешь жалеть — и нельзя будет ехать.
Прощайте до следующего письма, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай,
Пишите мне решительный ответ ваш хоть в письме, которое пошлете по получении этого; может быть, он еще не опоздает, чтобы можно сообразоваться с ним. Или по крайней мере хотя буду знать. Писать более и определеннее того, нежели как пишу теперь, я не могу — я и так написал, может, много слишком опрометчивого.
Если написал что-нибудь не так, простите моему неуменью.
Распечатываю письмо, чтобы приписать вам об экзаменах. Они идут пока, как должно. Дурно итти пока им не от чего, особенно хорошего — тоже почти не было. Теперь было четыре (Фишера, Фрейтага, Никитенки и вчера Срезневского); осталось три факультетских и два (Неволина и из языков новых, из какого-нибудь) нефакультетских.
122
9 мая 1850 г.
Милые мои папенька и маменька! В среду был я у нашего попечителя, Мусина-Пушкина, попросить его рекомендации к Молоствову, попечителю Казанского округа, который в то время был здесь. Он дал мне письмо к нему. С этим письмом пошел я к Мо-
196
лоствову, который сказал мне, что он еще ничего не получал о том, что место, мною просимое, свободно; что поэтому обещать мне ничего не может; но что все, что можно, для Мусина-Пушкина сделает. Он это говорит правду, но полагаться на эту правду много нельзя — приехавши в Казань, он очень легко может забыть обо мне и отдать место, если кто-нибудь станет просить его. А едет он скоро, может быть, уже и уехал. Что же теперь будет?
Если Мусин-Пушкин ничего не скажет мне на следующем экзамене (Молоствов хотел видеться с ним прежде, нежели уедет) значит, дело не двинулось вперед. А если так, то что же делать мне? Ехать ли по окончании курса в Казань, подавать Молоствову просьбу — он отдаст мне место, если не распорядится им до тех пор, — или не делать этого? Конечно, если ехать в Саратов, необходимо следует заехать в Казань; но я спрашиваю не об этом, а о том, ехать ли нарочно собственно за тем, чтобы хлопотать о месте, если по обстоятельствам и не поехал бы без этого в Саратов нынешним летом для свидания с вами?
Это опять более всего зависит от вашего решения. Конечно, если Пушкин ничего мне не скажет о том, что Молоствов обещался ему исполнить его просьбу за меня, и если здесь найдешь место порядочное, нельзя будет верным жертвовать неверному. Но если, что гораздо вероятнее, места здесь никакого не будет мне обещано, а нужно будет искать его, то должен ли я ехать на каникулы в Саратов, оставляя пока искать здесь место, и но дороге заехать в Казань, где очень вероятно найду место в сарат. гимназии еще не отданным? или лучше оставаться здесь, чтобы не терять времени, искать места и не упустить со своею поездкою какого-нибудь благоприятного случая? Я прошу вас написать мне, милые мои папенька и маменька, что должен я сделать в этом случае.
Слух о том, что кончающие курс в университете не будут получать никаких преимуществ, кроме только того, что 4 года, проведенные ими в университете, будут зачитаться им в службу (след., они будут получать 4 года старшинства или чин 12 класса, не знаю, что именно понимают под этим), действительно с год тому назад носился здесь; и теперь иногда слышишь два-три слова об этом; но или этот проект вовсе оставлен, или не скоро еще будет приведен в действие, потому что никто о нем не думает. Нас во всяком случае, вероятно, он не захватит.
Прощайте до следующего письма, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне, Алексею Тимофеевичу и Катерине Григорьевне, Якову Федоровичу, Кондрату Герасимовичу.
Целую своих милых сестрицу и братца.
197
123
М. И. МИХАЙЛОВУ
Михаил Илларионович!
Вот можете удостовериться, что ни время, ни расстояние не ослабляет дружбы (NB если она была так слаба, что перенесла трехгодовую «разлуку», не подавая никаких признаков своего существования ни в какой форме, — ни в форме писем, ни в форме чего бы то ни было); доказательство вечности моей дружбы и других чувств к Вам у Вас в руках: читайте и удивляйтесь.
Может быть, теперь, когда я, кажется, надолго остаюсь здесь без выезда, Вы, как говорят, тоже не думаете ехать сюда скоро, мы и возобновим нашу переписку с Вами (возобновим — эвфемизм, потому что она и прежде не начиналась, если исключить одно письмо в три целые года), — ведь прежде я не писал Вам потому, что с месяца на месяц ждал Вас сюда. Пожалуйста, отвечайте на это письмо, — что до меня, я готов исправно писать Вам хотя каждый месяц.
Приступаю к делу и, чтобы не сбиться с толку, веду дело это систематически по порядку лиц в местоимениях 1) Я, 2) Ты = Вы, 3) Он, она (abest, вакансия), оно, они.
1) Я по системе Гегеля начинаю с мира материального и кончаю духовным.
А) Мир материальный. Я толст и здоров, кроме желудка, который часто расстроен от излишества в гастрономических наслаждениях. Волоса рыжи попрежнему. Бороду подстригаю, а не брею, потому что считаю неприличным такому мальчишке, как я, прибегать к употреблению бритвы.
В) Материальное как орудие или условие духовного. Кончаю курс, остаюсь здесь служить или делать что попадется под руки, а что именно делать или где служить, знаю не я, а разве один чорт. Скорее всего достану где-нибудь учительское место. Если нет, принимаюсь писать или переводить — что, не знаю; в каком духе — знаю и Вы узнаете, если дочитаете письмо (в чем не сомневаюсь).
С) Духовный мир. С самого февраля 1848 года и до настоящей минуты все более и более вовлекаюсь в политику и все тверже и тверже делаюсь в ультра-социалистском образе мыслей. Главные предметы моего поклонения Луи-Блан (которого почти не читал), к последователям которого я принадлежу, Прудон, Фейербах и т. д. Ледрю Роллена тоже люблю, но он кажется мне немного, т. е. очень и очень много отсталым человеком. Года полтора я только и дела делал, что читал газеты, и выдавалось часто по нескольку месяцев таких, что я каждый день бывал у Вольфа или где-нибудь в другой кондитерской. Теперь бываю обыкновенно у Иванова (подле Симеоновского моста), где пожираю Presse;
198
Siècle глуп, a Débats мерзки; но читаю все от первой строки до последней.
2) Ты — Вы. Надеюсь получать от Вас письма с подробным описанием этой субстанции, которую, поверьте мне, люблю от души (NB с условием, если вы не реакционер, не аристократ и не последователь Lеon Faucher, Michel Chevalier и им подобных).
Он — они. Из многоразличных существ, подходящих под этот разряд, я сделался убийцею одного существа (белого котенка) — процесс смерти его неблагопристоен, поэтому увольняю Вас от описания, скажу только, что этот котенок погиб по моей неосторожности 13 мая 1850 года. Из тех, с кем я вижусь, я чаще всего вижусь с А. Ф. Раевым, с Лободовским и кроме их почти ни с кем.
Здесь свирепствует цензура в степени невероятной и непостижимой. Подробности если хотите напишу в следующем письме. Теперь некогда уже потому, [что] Ал. Федорович ждет окончания излияния моих чувств и мыслей.
Пишите пожалуйста.
Прощайте; целую Вас.
15 мая 1850 г.
Ваш Николай Чернышевский.
124
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
16 мая 1850 года.
Милые мои папенька и маменька! Ваше письмо от 2 мая, признаюсь теперь, очень, очень обрадовало меня, потому что мне самому казалось лучше остаться здесь. Если я просился в Саратов, то, надобно сказать, с некоторого рода сожалением о том, что придется уехать отсюда.
Я очень хорошо понимаю, как было вам тяжело решиться, чтобы я оставался здесь. Покорно благодарю вас, что вы, однако, решились на это — чрезвычайно благодарю вас за это, милые мои папенька и маменька.
Если я и писал вам, и сам думал, что все равно для будущего, оставаться ли здесь, или ехать в Саратов, то это было самообольщение и неправда. Во всяком случае, те года, которые провел бы я в Саратове, были бы совершенно потеряны, потому что там не нашел бы я и не мог бы иметь никаких пособий.
Оставаясь здесь, я тотчас же по окончании курса начинаю заботиться о месте и заниматься для экзамена на магистра (хоть на это последнее сначала нельзя будет уделять много времени, потому что будет много других нужных дел).
Мне сказали, что есть место учителя русской словесности при
199
одном кадетском корпусе и что можно получить его. Я ныне подаю просьбу в штаб военно-учебных заведений.
Если получу его, то буду этим обязан Ир. Ив. Введенскому.
Если не получу, то надеюсь, что сыщется какое-нибудь другое учительское место.
При университете, может быть, и можно будет получить место, но не теперь, а через полтора, два года, когда выдержишь экзамен, по крайней мере, на магистра.
Я чрезвычайно, позвольте мне еще раз сказать это, был обрадован тем, что вы, милые мои папенька и маменька, позволяете мне остаться в Петербурге. Не знаю, много ли я выиграю в самом деле, оставаясь здесь, не знаю, много ли удастся мне исполнить из того, что я думал бы сделать — но, оставаясь здесь, все имеешь возможность и надежду быть чем-нибудь; а поехавши служить в Саратов, должно знать, пока будешь там, ничего не сделаешь полезного для себя и не встретишь ни одного случая, которым было бы можно воспользоваться. Что бог даст, а нужно же надеяться, что что-нибудь выгодное представится здесь, или успеешь сделать что-нибудь хорошее.
Покорно благодарю вас, милые мои папенька и маменька, за деньги, присланные при вашем последнем письме.
Экзаменов осталось уже немного; только два факультетских — Устрялова и Грефе; нефакультетских нечего почти считать, их тоже два — Неволина и из какого-нибудь нового языка. В субботу (13 мая) был у нас экзамен Куторги. Он шел вообще лучше всех предыдущих экзаменов, судя по результатам. Я, впрочем, сам не слышал, как отвечали, потому что, кончивши прежде всех свой экзамен, ушел из университета, некогда было слушать.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки.
Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне, Алексею Тимофеевичу и Катерине Григорьевне, Кондрату Герасимовичу, Якову Федоровичу и всем
Целую своих милых сестрицу и братца.
125
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
23 мая 1850 г.
Милые мои папенька и маменька! В предыдущем письме я писал вам, что подаю просьбу в штаб военно-учебных заведений о том, чтобы назначили мне держать пробную лекцию в одно из военно-учебных заведений (где есть места учителей); я и был там, но мне сказали, что просьбы принимают только с августа, и потому просьба моя осталась у меня в кармане. Но это все равно,
200
сказали мне, и ничему не помешает: места до тех пор не будут заняты, потому что некому будет отдать их.
Что будет до августа, предвидеть нельзя; но если до тех пор не получу места выгоднее, то подам просьбу туда — мне сказали, что на место учителя русской словесности в Дворянском полку я могу рассчитывать.
Нового в Петербурге, если не ошибаюсь, ничего нет.
Честь имею поздравить своего крестного папеньку с наступающим днем его ангела.
Окончив экзамены (а если представится случай, то и раньше), буду просить попечителя о позволении Сашеньке перейти сюда.
У нас погода чудесная, такая, что хоть бы в Одессе или где-нибудь в Италии быть ей такою: еще не было с начала весны ни одного дождя, не было почти ни одного пасмурного дня.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Я думаю, что это письмо застанет Сашеньку уже в Саратове, но ничего не пишу ему, потому что тороплюсь.
Целую его, Сереженьку, Вареньку.
Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне, Алексею Тимофеевичу и Катерине Григорьевне.
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
30 мая 1850 г.
Милые мои папенька и маменька! В пятницу был у нас экзамен Устрялова; он шел очень хорошо, так что кроме полных баллов почти ни одного не было поставлено. Завтра экзамен Грефе и вместе Штейнмана. Это последний наш факультетский экзамен.
Иван Григорьевич, я думаю, написал вам, что наш преосвященный Иаков скончался — от чего и как, мне не удалось слышать. Во вторник его хоронили.
Я до сих пор не знаю, как мне быть: ехать ли на каникулы к вам или нет? Ехать можно было бы месяца на полтора, потому что здесь нужно было бы быть в начале августа, чтобы искать места. Но я не знаю, может быть, уехавши отсюда, пропустишь какой-нибудь случай. Я сам не знаю, что делать. Как дурно я сделал в прошедшем году, что не съездил к вам, милые мои папенька и маменька, этого невозможно и сказать. Но если и теперь не поехать, может быть сделаешь то же: здесь проживешь без всякой пользы, а с вами опять не повидаешься.
А между тем, если ехать, то следовало бы на-днях взять место в почтовой карете.
Я отдал Никитенке «О Бригадире Фон-Визина», статью, которую написал на степень; на-днях он скажет мне, годится ли
201
она, или нужно переделать ее; если и не годится, убыток невелик, потому что 10 — 11 числа, я опять отдам ее переделанную, как нужно — труда немного, только и важности, что переписать.
Сколько из наших студентов кончат кандидатами, еще нельзя сказать определенно; но во всяком случае больше, нежели я предполагал — я думаю, из 12 человек 8 или, мало уже, 7. Это от того, что на окончательных экзаменах редко ставят тройки.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки.
Свидетельствую свое глубочайшее почтение бабушке Анне Ивановне, Алексею Тимофеевичу, Катерине Григорьевне.
Целую вас, милые Варенька, Сашенька и Сереженька.
Извини, пожалуйста, милый Сашенька, что я опять не пишу тебе: некогда совершенно, т. е. и много есть свободного времени, но не нынешний день. Я писал, что буду просить попечителя о том, чтобы тебе перейти сюда.
127
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
6 июня 1850 г.
Милые мои папенька и маменька! Покорно благодарю вас за деньги на проезд к вам, присланные вами в вашем письме от 23 мая. Я спрашивал, когда можно будет выехать отсюда — мне сказали, что можно тотчас же. Я поэтому думаю, что можно будет выехать отсюда около 12 — 14 числа (нужно еще кончить кое-какие дела здесь в эти дни).
У нас ныне последний экзамен; я спешу туда и поэтому пишу мало.
Я не кончаю курса первым. В этом, конечно, виноват я сам; но только этого предвидеть было нельзя, по крайней мере с той стороны, с которой это произошло — мне Грефе, вместо пяти, поставил четыре, чего никак нельзя было ждать, и что даже смешно и странно — как это вышло, я не умею и объяснить: — ошибку предполагать трудно, а не предполагать ошибки тоже странно. Я оставляю это без внимания, хотя мог бы заставить переменить балл, потому оставляю без внимания, что это заставляет непременно держать на магистра.
О Сашеньке попрошу попечителя в пятницу или субботу.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки.
Целую своих милых сестрицу и братца.
Простите меня, милые мои папенька и маменька, если я обманул ваши надежды тем, что кончаю не первым.
202
128
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
13 июня 1850 г.
Милые мои папенька и маменька! Я выезжаю отсюда в четверг 15 июня; воскресенье 18 буду в Москве. Там буду искать попутчика и, если нужно так для этого будет, останусь до вторника вечера или до среды утра, до 20 или 21; поэтому, если ничего особенного не случится, 25 или 26 буду в Саратове.
Здесь я тоже искал попутчика, но не мог найти.
В Саратове, мне кажется, должно мне оставаться на более месяца, так чтобы 25 — 26 или хоть 28 июля выехать, а к 4 — 5 августа быть здесь, чтобы не упустить места в военно-учебных завед[ен]иях (теперь есть несколько мест в Дворянском полку).
Теперь иду к попечителю поблагодарить его и попросить о Сашеньке. Может быть, я успею еще воротиться домой во-время для того, чтобы приписать здесь об успехе моей просьбы.
Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
Целую своих милых сестрицу и братцев.
Целую ручку у своего крестного папеньки.
1 час пополудни.
Был у попечителя; он велел завтра подать о Сашеньке записку — это лучше, потому что будет письменное, а не только словесное позволение перейти ему сюда. Целую ваши ручки.
129
Н. Д. ПЫПИНУ
[Казань. 28 июля 1850, вечер.]
Милый дяденька.
Сашенька уже написал вам о своих похождениях по казанским университетским мытарствам, и о том, какою приятною для него вестию заключились эти похождения — что Петерб[ургский] университет сам выписывает его. К 8 или этак августа, надобно предполагать, увидят его удивленные очи град Петров, который готовится встретить его с распростертыми объятиями. По крайней мере, за троих можно там ручаться уже, что они примут его с радостью: Любинька, Иван Григорьевич и попечитель университета Мусин-Пушкин. Даст бог, найдутся скоро и другие.
Как я жалел, что не успел повидаться с вами, милый дядень-
203
ка, и с тобою, милая Евгеньичка. Но, бог даст, может быть, скоро увидимся.
Прощайте, милый дяденька. Целую вашу ручку.
Племянник ваш Николай Чернышевский.
Целую тебя, милая сестрица Евгеньичка, и тебя, милый братец Егорушка.
130
1850 года, неизвестного месяца и числа.
(См. Записки сумасшедшего)
Христа ради простите меня, дорогой друг мой: я поступил слишком по-свински в отношении к Вам; совещусь даже поставить datum в заголовке своего письма. Одно только утешает меня — то, что замедлил я с письмом своим единственно оттого, что хотел писать Вам не иначе, как собрав все те сведения, которые хотел сообщить Вам.
Вам, кажется, можно будет приехать сюда.
По крайней мере, я советую Вам это и прошу Вас об этом.
Выдержав до мая месяца (т. е. до каникул) 1851 года пробную лекцию в военно-учебных заведениях, Вы получите место при начале следующего учебного года, т. е. в конце (середине) августа 1851 года.
А для того, чтоб иметь право держать ее, нужно выдержать экзамен в университете на домашнего учителя.
А этот экзамен вы можете держать на другой же день по приезде своем в Петербург, потому что он (Вы, конечно, ведь будете держать из русского языка) ограничивается только русским языком (грамматика, общие понятия о теории словесности, история литературы не в обширном объеме). Экзаминатор Срезневский, и я надеюсь, что он со своей стороны сделает все возможное для того, чтобы не протягивать у вас понапрасну времени.
Каково место получите Вы на первый раз, конечно, будет зависеть от того, какова будет ваша пробная лекция и от того, какие места будут свободны; но говоря вообще, служба при в[оен-но]-уч[ебных] заведениях хороша, и едва ли придется вам получать первый год менее 500 — 600 р. серебром.
Вот вам общие [сведения]. Теперь перехожу к подробностям.
А подробности Вам можно видеть лучше всего из моей истории.
Для пробной лекции назначаются две темы: одна из грамматики (мне назначили «о способах сочетания предложений»), другая из словесности (мне назначили: «о том, содействует ли теория словесности искусству писать, и в какой степени») — (из
204
грамматики еще ничего, как видите, из словесности чрезвычайно глупую). Я подал просьбу 15 августа и просил назначить лекцию как можно поскорее, если можно — прежде конца августа. Кавелин, бывший профессор Московского университета, который теперь начальником учебного отделения штаба, человек чрезвычайно деликатный, милый, обязательный, обещался назначить как только будет можно раньше. Но вышло так гадко, что лекции начались только с 11 или этак сентября. Итак, мне назначили только 13 сентября; темы я получил на другой же день после подачи просьбы. Так. обр. времени для приготовления было гораздо больше, нежели казалось нужно даже моему трусливому воображению. Собрались. Со мною держали в один вечер еще двое мизерных господ, из которых одному досталось «о наречии» из грамматики, — они, кажется, провалились; в самом деле, уже с первого же разу видно было, что это люди, слишком жалкие по уму и образованию: господин, которому досталось о наречии, уже успел подружиться со мною в продолжение получаса, которые провели мы, дожидаясь начала лекции, уже успел показать мне, где будут сидеть «тузы русского языка» (т. е. Плаксин, Чистяков, Комаров и т. д. — не знаю, дошла ли до Вас слава этих тузов), уже успел сказать, что негде было ему взять ничего о наречии, потому что «в Гречовке» — толкуй «в грамматике Греча» мало об этом и т. д. — словом выказался с головы до пяток; можете представить, каков молодец! вроде Воронина, если помните; да и тот выдержал бы, если б успел выучить наизусть то, что наскрибачил в тетрадешку свою — а то он думал, что надобно читать по тетрадке, а пришлось читать изустную лекцию, без тетрадки — он отказался; что было с другим, не получил я сведений — тоже жалкое лицо.
Из грамматики я взял W. Humboldt, Über die Kawi-Sprache, где во введении вообще о языке — тут нашел мало; взял Bern-hardi — греческий синтаксис, где есть история синтаксиса у греков (это несколько послужило в пользу); но главным образом Becker, Organism der Sprache — эту книгу прочитал почти всю; потом справился с Синтаксисом Перевлесского; тем дело и кончилось; и вышло у меня:
во-первых, взгляд на то, как развиваются постепенно с развитием умственной проницательности народа способы сочетания предложений в его речи; здесь страшные нападения на периодическое устройство речи; потом система сочетаний предложений по Беккеру с плохеньким применением к русскому языку.
Из словесности дело не требовало таких запутанных приготовлений: взял Biese, die Philosophie des Aristoteles — выписал оттуда его теорию реторики и поэзии; написал несколько слов о Горациевой Ars poёtica, l’Art poétique Буало, которых распушил чуть не по-матершинно (об Аристотеле из уважения к Гегелю и ему подобным поклонникам Ар[истотеля] не сказал ничего дурного, а
205
только объяснил, что это чистый афинянин IV века, демосфеновских времен, взгляды которого годны только были для греков IV века) — таким образом вышел обзор 2 главных теорий отшедших в вечность; переходя к новой теории, не стал говорить ничего о ее достоинствах, а сказал, что укажу на то, с чем не могу согласиться в общепринятых ныне мнениях, и пошел рубить направо и налево — первая пала под моими ударами Греция — объявил, что греки скоты; дальше пал от моей мощной руки театр и драматическая форма — доказал, что театр теперь лишился смысла и значения, с ним вместе трагедия, комедия и т. д.; и пошел, и пошел, и пошел — живого места не оставил в современной теории, кроме того, что хорошо делает она, хваля романы. Все это было пересыпано (т. е. последняя половина) гимнами Ж. Занду, Диккенсу, Гейне (которого не читал) и Гоголю; но, к счастью, дело до этого не дошло, как увидите; а первую половину приправил именами Ледрю Роллена, Кобдена, О’Коннеля; едва ли даже и до Прудона не доходило дело; только Бинбахерова имени не произносил, хотя с начала до конца проникнут был его духом.
Всего вышло из грамматики листа 1½ «Отеч[ественных] записок», из словесности, пожалуй, и два.
Увы, к чему было потеряно столько трудов!
Пробные лекции бывают по вечерам; на них присутствуют инспектора классов в[оенно]-уч[ебных] заведений и учителя того предмета, по которому вы держите лекцию. Большая часть инспекторов — люди без познаний, безмолвно соглашающиеся с учителями; большая часть учителей — люди или очень недалекие, или очень отсталые, так что и с теми, и с другими справиться можно; немногие порядочные люди вроде Введенского (имеющего теперь сильное влияние) будут рады видеть в своем кругу нового порядочного человека и в случае нужды (верно, впрочем, этого для Вас не понадобится) поддержат Вас.
Иногда собирается человек до 20; так было и в тот раз, когда я читал. Сначала я немного спутался и два раза повторил первую фразу, что учение о сочетании предложений ни в одном языке не обработано так хорошо, как другие части грамматики. Но на gauche-extrême*, на месте монтаньяров и яростной оппозиции, сидели Чистяков, автор разных глуповатых книжек по словесности, и Классовский, автор «Помпеи», сначала выступивший в литературе порядочным человеком, потом оказавшийся сотрудником Булгарина, человеком глуповатым и отсталым, теперь мой приятель и сослуживец.
Классовский не утерпел. «В немецком эта часть обработана очень хорошо». — «А, вы говорите о Беккере». — «Да». — «Так именно у него эта часть слабее всего». — «Как же это»? — «Да так, что он слишком уже буквально следовал Гегелевой методе —
zwei Gegensätze, die sich zuletzt vereinigen»*. — «Неужели?» — «Могу вас уверить». — Я продолжал и сказал, что р[усский] яз[ык] отличается тем, что более всех других любит обходиться без союзов. — Классовский опять не утерпел — «И другие языки тоже». — «Нет». — «Ajo». — «Nego»**. — «Представьте пример». — «Предоставляю вам — возьмите какое угодно сочетание предложений, вы увидите, что по-русски мы обыкновенно выбрасываем союз, а по-французски, по-немецки часто этого нельзя сделать». — «Скажите Вы пример». — «Пожалуй — ish sehe, dass Sie sitzen — я вижу, вы сидите (конечно, с моей стороны был глупый парадокс, но я не захотел отказаться от него, когда уже он у меня вырвался) и т. д.; я продолжал; сказал еще несколько фраз; дошло до такой: «младенчествующие народы не оставляют предложений без союзов или употребляют везде, кстати и некстати по нашим понятиям, один, много два союза, например, и, потому что не в состоянии отличить ясно, в какой собственно связи одно с другим два предложения, которые говорят они одно за другим». — Тут выступил на сцену Чистяков. — «Народ никогда не мыслит бессвязно». — «Да, но ясно понимать связь между своими мыслями и особенно ясно и определенно различать разные роды связи младенческие народы не в состоянии». — «Укажите на примеры». — Я из W. Humboldtʼa о китайском, о арабском, о еврейском, даже об американских языках, все это перевирая без всякого милосердия. Чистяков видит, силен в языкознании. — «Но народ никогда не мыслит бессвязно». — «Успокойтесь, не мыслит, только связь-то между мыслями плохо понимается им». — И потом беспрепятственно я продолжал пороть все, что душе угодно о разных периодах развития языка. В этом прошло с получаса, видите, я все еще говорил только вступление к моей статье. — «Довольно, я думаю», — говорит Плаксин. Все молчат, т. е. согласны. — «Так извольте перейти к теме из словесности». Я пошел катать об Аристотеле, французском Assemblée Nationale***, Кобдене и тому подобном. Не кончил я еще Аристотелевой реторики (а оставалась пиитика), меня попросили перейти к теории XVIII века в общих чертах — я сказал несколько общих фраз о Буало (я вначале сказал, что буду говорить сперва о Аристотеле, потом о теории XVIII в., потом о теперешней), меня попросили прекратить поток моего красноречия.
Эта сцена продолжалась час.
Но если б я читал один в этот вечер, то могла бы продолжаться часа два.
До моих сражений с греками, театром и т. д. дело и не доходило.
Все остались довольны.
Тут же я получил приглашение от Ржевского, инспектора классов 2 кад. корпуса, поступить к нему репетитором, пока откроется место учителя. Подумавши, я согласился, потому что удостоверился, что место у него скоро откроется, и на 3-ий день после подачи просьбы получил 15 часов из грамматики (один из учителей вышел); жалованья 100 р. асс. или 30 р. сер. за час; впрочем, поступивши в половине октября (я употребил на размышление целый месяц, потому что случились посторонние обстоятельства, помешавшие мне решиться раньше), я еще не получал жалованья; за 2 недели не стоило; но мне так сказывали, что за грамматику, если особенного условия не было, платят по 100 р. асс. или 30 р. сер. за час.
Несчастье мое было, что я не мог прочитать пробной лекции к концу августа — я получил бы место несравненно лучше; но к половине сентября все часы были везде уже розданы, и пришлось до следующего года довольствоваться тем местом, которое опросталось в течение года.
Я думаю, что, прочитавши пробную лекцию до каникул (и, конечно, Вы прочитаете ее так, что произведете фурор), Вы получите при начале года, т. е. после каникул, в конце августа, место гораздо лучше того, которое получил я.
Но прежде нужно будет Вам выдержать экзамен на домашнего учителя; это займет у Вас недели две; потом с месяц нужно будет Вам взять на приготовление пробной лекции; итого пол-тора-два, положим, месяца.
Пробные лекции читаются до конца апреля, стало быть сюда приехать Вам нужно в конце января или начале февраля.
Я знаю, что главное — деньги. Но неужели вы не можете привезти сюда каких-нибудь ста целковых, чтобы прожить 6 — 7 месяцев? Ведь 100, 120 р. сер., если Вы захотите так жить, достанет на полгода. Кроме того, теперь Вы найдете себе здесь работу в журнале, в этом не сомневайтесь; так что прожить здесь Вы будете мочь до получения места.
Так сообразите-ка свои денежные средства и напишите мне. Если у Вас может набраться столько денег, что за проездом сюда останется 100 р. сер., то приезжайте смело. Если не наберется (чего я скорее ожидаю), то напишите мне, сколько именно будет у Вас денег, и мы подумаем, как это устроить — а средство устроить найдется наверное.
Итак, знайте, что к концу февраля Вам должно быть непременно в Петербурге; иначе Вы потеряете еще год, потому что, не прочитавши пробной лекции к тому времени, когда распределяются часы в в[оенно]-уч[ебных] заведениях (конец августа), можно не получить места в течение целого года; а с мая до половины сентября пробных лекций не бывает.
Теперь перехожу к Вашим литературным трудам. «Тетушка» была прочитана на вечере у Введенского и очень понравилась;
208
жаль только, что прочитана она была не совсем хорошо: если б я знал, что чтец будет так плох, я сам стал бы читать; но все-таки ее очень хвалили.
«Фауста» я носил к Краевскому; он сказал, что поместит с большим удовольствием, когда цензура будет не так свирепа, но что теперь нечего даже и хлопотать — запретят целиком, это всего вернее, «а если и позволят печатать, то разве отдельные бессвязные, обезображенные куски». Я его спросил, от чистого ли сердца говорит он, что поместит с удовольствием, когда будет можно. — «Да, да; и вот вам доказательство — пусть у Вас рукопись будет процензурована, и тогда я сейчас помещу ее».
В самом деле, свирепость цензуры доходит до неимоверного. Елагин просто говорит: «Что я вычеркнул, за то я не боюсь, а что пропустил, то мне во сне снится; по мне хоть вся литература пропадай, лишь бы я остался на месте». — И это я слышал не от какого-нибудь либерала или недовольного, нет, от благочестивого мужа, который каждое воскресенье бывает в церкви и чтит царя, как следует верноподданному, — след., преувеличения нет в этих словах.
Да, тяжелое теперь время для литературы!
Сделайте милость, простите меня, Михаил Илларионович — я виноват пред Вами, что так долго не извещал Вас о том, что последовало с Вашими сочинениями и переводом, которые взял я с собою.
Так как нельзя теперь поместить «Фауста», так как «Тетушка» и в блаженные времена 46 и 45 годов не могла быть пропущена цензурою, как сказали мне у Введенского, то я не захотел отдавать в «Отеч. записки» «Дневник уездной барышни» и «Полково», потому что за эти маленькие статьи едва ли дадут деньги, когда они представляются от нового человека. Присылайте мне что-нибудь с почтою, если у вас есть [что]-нибудь такое, где бы не говорилось ни о боге, ни о чорте, ни о царе, ни мужиках (все эти вещи — не цензурные вещи), где бы, наконец, не было никаких следов чего-нибудь ж[орж]-зандовского, вольтеровского (которым обилует Ваша «Тетушка»), григоровичевского, искандеровского и т. д. — если у Вас есть что-нибудь цензурное, можно наверное обещать Вам, что будет помещено — бедность крайняя в порядочных повестях. Но лучше вы сделаете, если соберете сто р. сер. и приедете сами.
На что Вы решитесь вследствие моего письма, напишите мне поскорее; это письмо будет получено Вами около 3 декабря. Я жду ответа от вас к 13 декабря; и, конечно, отвечу Вам на то Ваше письмо с первою же почтою.
Корелкин получил место во Пскове, уехал туда в половине сентября, писал ко мне, и я теперь собираюсь отвечать ему. (Старшим учителем словесности.)
Лыткин уехал в Петрозаводск учит[елем] истории.
14 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
209
Славянский кончил первым, получил место в министерстве юстиции и, я думаю, хорошо пойдет.
Воронин путешествовал с отцом по России; теперь воротился, что делает, не знаю.
Соколов получил место учителя слов[есности] в Динабурге; уехал ли, не знаю.
Попов (месяца с полтора назад) приготовлялся служить. — Это самый порядочный человек изо всех, кого я знал в университете (конечно, Вы помните, что это сожитель Корелкина).
Александр Федорович написал в отчет за 5 лет, изданный департ[аментом] сельского хоз[яйства], где он служит, статью об артезианских колодцах — писал с месяц; писал, писал, думая, что написалось у него тома 3 in 4° — оказалось, что всего 4 разгонистых страницы — он был очень удивлен. Приготовляется воскресить свои рыбные промыслы для «Фауны» г-на Симашко — разумеется, это мечты юности. Он видел сон — объясните его нам с ним: видит, будто стоит он в пальто; вдруг подбегает к нему собака и схватывает его зубами за ту часть тела, которая по-латыни называется podex, и держит очень крепко, а между тем ему совсем не больно, даже как-то приятно: думали, думали мы с ним, чтó это значит, не могли решить. (А. Ф. Вам кланяется.)
Залеман все еще возится со своею диссертациею; потолстел и более ничего; где Галлер, не знаю.
В. П. Лободовский живет попрежнему; я вижусь с ним не часто, потому что решительно некогда ни мне, ни ему. Единственный человек, на которого я смотрю с уважением. А то все бестолочь какая-то, все, все без исключения, а если не бестолочь, то тупоголовый народ, напр., хоть и... ну, да лучше не стану писать, кто, потому что привык отзываться о них с уважением.
Итак, жду от Вас письма к половине декабря и тотчас же буду на него отвечать Вам. Пишите, сколько у Вас денег и решаетесь ли Вы ехать сюда: повторяю Вам, служба при в[оенно]-уч[ебных] заведениях выгодна, если приобретешь хорошую репутацию (Вы ее, конечно приобретете). Пишите же, до конца января успеем еще раз списаться, если будет нужно. Целую вас, милый друг мой.
Ваш Н. Чернышевский.
131
М. И. МИХАЙЛОВУ
Петербург. 23 декабря 1850.
Порадовало меня Ваше письмо, милый друг мой, порадовало! Дай бог, чтобы Вам поскорее добраться до Петербурга: чем скорее, тем лучше. Если Вы приедете сюда и в конце даже февраля, это ничего; но помните, что пробные лекции в нынешнем учебном году кончаются с концом апреля; а для того, чтобы получить хо-
210
рошее место, надобно к началу учебного года (т. е. следующего) прочитать пробную лекцию: иначе все часы отданы будут другим, и придется либо ждать год, либо довольствоваться оборышами.
Денежные обстоятельства Ваши устраиваются так, что с этой стороны Вы совершенно должны быть спокойны. А это главное, конечно. У Вас будет, говорите Вы, 150 — 200 р. сер. — и чудесно, совершенно довольно.
Вы пишите, что Вам делать пока?
Один господин приготовлялся у меня на домашнего учителя. Мы с ним приготовились очень мало, потому что он человек без всяких способностей, совершенно неразвитой, читавший, правда, десятка три русских книг, но не видавший и в глаза журналов. Да, конечно, выдержал экзамен он хорошо. На домашнего-то учителя поэтому приготовляться Вам уж не понадобится, конечно. Но что не мешает Вам прочитать для того, чтоб Ваша пробная лекция была тем блистательней?
Во-первых, запастись хладнокровием, чтоб не смущаться вначале и не конфузиться при возражениях, а отрезывать с плеча.
Во-вторых — запастись самоуверенностью, которая с Вашей стороны и будет совершенно законна, потому что едва ли найдется между Вашими слушателями-ценителями хоть один, который знал бы историю литературы так хорошо, как Вы.
В-третьих, — разумеется, не для чего проводить время по-пустому, если есть под руками материалы для изучения того предмета, которому хотите Вы себя посвятить. Потому перечитывайте, что есть у Вас порядочного или считающегося у других порядочным по истории русской литературы. — 4 часть Греча (История русской литературы) Вам, кажется, очень хорошо известна; перечитайте Белинского и В. Майкова; книжка Милюкова, если у Вас ее можно достать, тоже стоит быть прочитанною; примечания Галахова к хрестоматии тоже; очень не мешает просмотреть его историческую хрестоматию, если она у Вас есть, и т. д. — тоже и негодяя Шевырева глупые лекции — мерзейшую книгу, какая только есть на свете и т. д. — разумеется, все это вздор, без всего этого, кроме статей Белинского, Вы можете обойтиться — кроме этих статей, собственно говоря, ничего Вам не понадобится; а потому, что есть, читайте, чего нет, на то плюньте и забудьте думать — ведь статьи Белинского, если не найдется в Нижнем иных томов «Отеч. зап.», просмотрите и здесь, а кроме их ничего не нужно.
Из теории словесности я не знаю по чему и приготовляться; разве прочитать лекции Никитенки по приезде сюда. (Давыдова я не читал, и воображаю, что мерзость.)
Не знаю, нужно ли Вам просмотреть грамматику Востокова — я думаю, Вы и так знаете глупости, которые носят имена залогов, видов и т. п. — само собою, понадобиться может только классификация и дефиниции, а не паражины (?) и исключенья.
14*
211
Сюда приехал Корелкин на рождество; заходил ко мне. Не застал. Я к нему. Посидели с четверть часа. Говорили о Вас. (Подражание Погодину, если помните.) Фурсов и особенно Лизавета Ивановна очень Вас помнят. Корелкин приехал ухудшенный во всех отношениях, хотя не очень много, потому что... о, о, держи язычек-то, больно он у тебя остер.
Александр Федорович ждет Вас с распростертыми объятиями — не знаю только, до какой степени эти объятия привлекательны. Есть слухи, что в него влюблялись кое-кто — следовательно, есть люди, которым нравятся эти объятия — de gustibus non est disputandum*.
Я — чтó я? Я должен буду близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, уехать в Саратов, учителем словесности в гимназию. — Вы, может быть, помните, что я говорил Вам о том, как я начинал это дело и как оно рассохлось было, по моему мнению. Теперь вышло вдруг, что оно и не думало рассыхаться — вдруг присылают из Казани попечителю бумагу, чтобы он вытребовал у меня мои документы для отсылки в Казань. Мне собственно уже не хотелось, потому что я, как капитан Копейкин, кое-чего в Петербурге уже и попробовал, т. е. кое-какие надеждишки возымел, кое-какие планишки построил; но махнул рукой, сказал: «куда кривая не вынесет»,
Будь что будет, все равно —
На святое провиденье
Положился я давно, —
и отнес документы попечителю. Раньше конца февраля или начала марта едва ли я выеду из Петербурга. Но, если б и уехал я раньше совершенного окончания Ваших дел по пробной лекции, для Вас собственно мой отъезд ущербом не будет: Введенский принимает в Вас живое участие, и если я уеду, то он должен занять в отношении к Вам мое место, потому что у нас с ним свои счеты, и я в праве ожидать, чтоб он моих друзей считал своими друзьями. (Довольно вам сказать, что если б я оставался здесь, он уступил бы мне переводить «Давида Копперфильда» для «Отеч. записок» — стало быть, мы с ним хороши.)
Прощайте, милый друг; присылайте Вашего «Адама Адамыча» — только бы он был цензурный, а то дело пойдет на лад, можно думать. Не знаю, цензурна ли «Miss Sara Sampson» — если цензурна, то ее поместят с охотою, надобно думать. Но цензура строга до нелепости — этого не должно забывать при выборе для переводов и при писаньи повестей. Работу в «Отеч. зап.» Вы, конечно, можете получить. Прощайте, приезжайте и завоевывайте административное и литературное положение, победа сама напрашивается. Если поедете не раньше конца января, то напишите
еще раз по крайней мере. Я буду ждать Вашего письма к 12 — 13 января, если до тех пор не обниму Вас самих. Прощайте, милый друг, целую Вас,
Н. Чернышевский.
NB. NB. Заметьте, как замысловато написан постскриптум.
P. S. Адрес мой: В Большой Офицерской, против Малой Мастерской, дом Дубецкого. Когда Вы поедете от почтамта, т. е. с Вознесенского проспекта, Вы увидите против Мастерской мелочную лавочку, подле нее ворота, за этими воротами тотчас подъезд с улицы; так Вы по этому-то подъезду да вверх, да во второй этаж, да увидите во втором-то этаже дверь с надписью: «Архитектор Браун» — так против этой-то двери через площадку другая дверь и есть моя. Вы и стучитесь, и выйдет баба, если не яга, то похожая на ягу — она-то и есть сожительница Вашего нежного друга, который не писал Вам долго в старые года, а теперь стал таким аккуратным.
132
М. И. МИХАЙЛОВУ
СПБург. 25 января 1851 г.
Не будут приятны те вести, которые должен я сообщить Вам, любезный друг Михаил Илларионович, — тем неприятнее, что своими предыдущими письмами я сам же ввел Вас в заблуждение.
Для того, чтоб иметь право читать пробную лекцию в штабе военно-учебных заведений, нужно теперь иметь степень по крайней мере действительного студента, если не кандидата.
По прежним правилам этого не требовалось; но с полгода уже назад мне говорили, что вышел, только не напечатан и не обнародован еще, новый устав о порядке испытаний желающим поступить в преподаватели при военно-учебных заведениях; вместе с этим говорили мне, что с ним соображаются уже, но не всегда, и что, если захотят, могут не соображаться, и что решительно обязательным сделается он не раньше начала следующего учебного года. Теперь меня известили, что он стал решительно обязательным и недели через две будет и обнародован и что теперь уже решительно невозможно быть допущену к чтению пробной лекции, не представивши диплома на кандидата или по крайней мере аттестата на звание действительного студента.
Скверно! очень скверно! Лободовский также хотел было читать пробную лекцию и с неделю тому назад подавал просьбу; несколько дней прошло в сомнениях и колебаниях, обещаниях подумать и сделать, что можно; наконец, ныне ему решительно сказали, что нельзя читать пробной лекции из русской словесности, не имея и т. д.; что можно еще по новым языкам, да и то
213
сами они не знают, можно ли; а по русской словесности, не имея и т. д.
Чрезвычайно жаль, что вышел и пришел в действие так не во-время этот проклятый устав: ведь придется же, чорт возьми, что тут-то именно и вздумают захлопнуть дверь, когда уже подходишь к ней!
Когда уезжаю я отсюда, еще точно я не определил; до сих пор я думал, что приведется мне прожить довольно долго, потому что я хотел дождаться того, как Лободовский прочтет пробную лекцию; но теперь он оставил это дело, и мне оставаться здесь дольше, нежели должен я оставаться, незачем. А чтобы поспеть в Саратов к сроку (18 февр.), я должен выехать отсюда не позже 7 — 8 февраля.
Итак, вероятно, мы не увидимся... на этот раз, потому что невозможно, чтобы нам, наконец, не жить вместе. Я не хочу этого думать.
Итак, Вы приедете в Петербург без меня. Нет нужды, зайдите к моему брату (адрес Вы знаете) — он предан Вам от души и будет, если Вы захотите, Вашим... одним словом, Вашим чем угодно. Удалось мне, тайком от него, прочитать его дневник, именно ту часть, где он описывает путешествие наше (NB. Вы этого ему не сказывайте, он будет на меня сердиться) — боже, в каких красках расписал он там Вас и Ваши, «интересные» и «поучительные» беседы! А из «Тетушки», он большую часть сцен (особенно, где являются гости к Сигаевой) знает наизусть, и чрезвычайно уважает Ваш талант; серьезно, сблизьтесь с ним, он славный малый и от души уважает Вас.
Но, это важнее, познакомьтесь (или лучше просто: бывайте — они Вас уже хорошо знают) с Введенскими. Вот их адрес: на Петербургской стороне, близ Тучкова моста, по набережной (влево от моста) дом генеральши Бородиной, бывший Сидорова. В уверенности, что Вы воспользуетесь моими указаниями, описываю Вам подробно, как найти Введенских.
Немного влево от Тучкова моста на набережную выходит улица (кажется, Большой проспект); на одном углу этой улицы с набережной стоит деревянный дом, на другом каменный, белый или бледно-желтый, высокий, с мелочною лавочкою на самом углу. Подле него, по набережной все опять, другой, тоже белый, тоже высокий, тоже каменный — это и есть дом Бородиной. С набережной в него ворота; Вы входите в эти ворота, проходите их и поворачиваете направо; тут направо сейчас маленькое крылечко; Вы входите, всходите по лестнице во второй этаж, и направо дверь Введенского; на ней прибита довольно большая медная доска с надписью И. И. (Иринарх Иванович) Вѣденский (небольшое самоуправство владетеля этой доски и этой фамилии, чтоб, вместо «Введения», являлось перед Вашим умом «Вѣдѣние» источником его прозвания). Вот, пожалуй, и план:
214

Если Вы зайдете к ним в первый раз не в пятницу вечером, могут сказать Вам, что Введенского нет дома, потому что с утра до ночи делает он дело; потому, если до пятницы (в этот вечер у него собираются) будет два-три дня, дождитесь ее; а если не захотите дожидаться, отправляйтесь так, чтоб притти в 12 часов, и скажите свою фамилию, если будут говорить, что нет дома, — в это время он всегда дома — в час они обедают. Он может доставить Вам, если угодно, журнальную работу — я думаю, что всегда может.
Тонкое чувство деликатности говорит Вам, что нужно знать имя его жены — извольте, Александра Ивановна.
Вот постоянные и главные члены их общества: доктор Гавриил Родионович Городков, молодой человек лет под 30, довольно плотный и румяный, живой, веселый, бойкий, душа общества, почти всегда с палкою, набалдашник которой — голова в феске или чем-то подобном. Чудесный человек, который мне очень нравится. Неистовый обожатель Искандера и Прудона. Гоголя тоже почитает всеми силами души. Рюмин (Владимир Никол.) в военном сюртуке с голубым воротником — теперь больной грудью; тоже чудесный «юноша», как называет его Введенская. У этого юноши есть жена, Олимпиада Григорьевна. Краузольд, подслеповатый белокурый немец, товарищ Введенского по унив[ерситету]; Милюков, Александр Петр., который обыкновенно пишет в «От[ечественных] зап[исках]» разборы, славный человек; Минаева увидите, может быть, — оригинальное лицо, но преблагородный и, несмотря на странности, происходящие от отсутствия знакомства с Европою, очень умный человек. Городков, Рюмин, Милюков — стоят того, чтоб с ними познакомиться.
Вы можете, если захотите, очаровать собою это общество, особенно саму Введенскую, в сущности славную дамочку. Неизвестно только, понравится ли Вам она собою, вероятно понравится.
Что до меня — я не жалею пока, что еду в Саратов; еду я туда на год, на два много; там у меня будет больше, нежели здесь, свободного времени готовиться на магистра, и это-то собственно заставило меня решиться. Здесь по крайней мере четыре
215
дня в неделю бывают совершенно пропадшими, а часто и все семь.
Я хотел бы продолжать переписываться с Вами, мой милый друг. Потому прошу Вас, если не застанете меня здесь, писать ко мне в Саратов. Мой адрес прост: имя и фамилию, и только всего.
Прощайте. Обнимаю вас и целую. Прощайте, друг мой.
Н. Чернышевский.
P. S. Видьтесь с Васил. Петров. Лободовским; он живет в доме Сергиевской церкви (в Сергиевской улице, против самой церкви), против ворот, в нижнем этаже (маленькое деревянное крылечко) — это человек, которого я люблю от души и уважаю, как никого почти; я его так уважаю, что в разговоре с ним конфужусь за свой ум, чего со мною не бывает в других случаях никогда. Теперь я люблю очень немногих, уважаю и еще того меньше, — но его я уважаю потому, что редко встречаются, очень, очень редко люди с таким умом: удивительно умный человек! Я его ставлю на одну доску с Диккенсом, Ж. Зандом, своим приятелем Louis В1аnс’ом, Лессингом, Фейербахом и другими немногими, которых я уважаю — это, может быть, смешно, — но, действительно, это гениальный человек. Он живет попрежнему довольно, т. е. чрезвычайно скудно. Особенно замечателен он тем, что в нем нет нисколько пошлости, которую я вижу в неизмеримом количестве, «куда свой взор ни обращаю». Вы помните, что он женат; жену его зовут Надежда Егоровна.
Прощайте, еще раз целую Вас.
133
Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
Симбирск. 29 марта [1851 г.]
Милые мои папенька и маменька! Выехавши из Петербурга 12 марта втроем, благополучно доехали мы 23 марта до Симбирска. До Казани дорога была чудесная, такая, какой невозможно было и надеяться, судя по времени. Но из Казани до Симбирска (200 верст) тянулись мы двое суток. Моему спутнику Дмитрию Ивановичу Минаеву нужно было пробыть по своим делам двое или трое суток, и в это время дорога испортилась, так что здешний почтмейстер присоветовал нам остаться до субботы или до воскресенья, чтобы переждать, пока сольют мелкие речки и овражки — до субботы, по его мнению, они сольют так, что будет проезд через них довольно сносный. Мы, рассудивши, что лучше прожить трое суток в Симбирске, нежели простоять их над каким-нибудь затопленным оврагом, [согласились]. Таким обра-
216
зом, в Саратов приедем мы, может быть, 3, а скорее 4 или 5 апреля.
Бывши в Казани, представил я исправлявшему должность попечителя Лобачевскому свое свидетельство от 2-го корпуса о том, что я был задержан в Петербурге службою.
Я просил у вас, милые мои папенька и маменька, позволения пригласить жить у нас моего доброго спутника, Д. Ив. Минаева, на то время, которое проведет он в Саратове. Это будет недолго — 5, много шесть дней, а по его словам даже 2, 3 дня. Мы с ним прямо и въедем в наш дом. Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.
134
М. И. МИХАЙЛОВУ
28 мая 1851.
Извините меня, дорогой друг мой Михаил Илларионович, за мое полуторамесячное молчание — «дрянь и тряпка стал всяк человек», а я больше и хуже всех. До сих пор не мог победить своей страшной, достойной Ив. Андреевича Крылова, незабвенного нашего баснописца, лени.
Ваши тетради остались в Петербурге, у брата. Напишите ему, чтоб он Вам их прислал, если они Вам нужны теперь. Я ему с этою же почтою напишу, чтоб он дожидался повеления Вашего об отсылке их. Адрес его: в университет, Александру Николаевичу Пыпину. Он один из пламеннейших почитателей Вашей музы, без ума от вас, решительно без ума.
Как я жалею, что не удалось нам повидаться с Вами, нечего и говорить. Что делать, нас ехало трое (Минаев, тот самый, над которым, помните, мы вместе с Вами смеялись, как над творцом славной «Баянки» и над переводчиком «Слова о Полку Игореве» «для любознательных отроковиц и юношей» — что Вы скажете! Ведь в сущности-то умный, чрезвычайно со светлыми понятиями в большей части случаев человек, — да еще брат автора «Обыкнов. истории» — Ник. Алекс. Гончаров, симбирский учитель). Они торопились, и я не мог их задерживать, тем более, что нам должно было ехать по Волге, она была уже плоха; нечего делать, пришлось уехать так! и тут, спеша, сколько было возможно, насилу успели перебраться в Казани через Волгу. А потом до самого почти Симбирска опять пришлось ехать бог знает по какой дороге и бог знает как переезжать через реки за Симбирском.
В Саратове я нашел еще бóльшую глушь, чем нашли Вы в Нижнем. До сих пор я об этом, впрочем, мало тужу, потому что чем менее людей, тем менее развлечений, следов, тем скорее кончу свои дела, а кончивши их, потащусь в Петербург.
217
Воспитанники в гимназии есть довольно развитые. Я по мере сил тоже буду содействовать развитию тех, кто сам еще не дошел до того, чтоб походить на порядочного молодого человека. Учителя — смех и горе, если смотреть с той точки зрения, — с какой следует смотреть на людей, все-таки потершихся в университете — или позабыли все, кроме школьных своих тетрадок, или никогда и не имели понятия ни о чем. Разве, разве, один есть сколько-нибудь развитой из них. А то все в состоянии младенческой невинности, подобные Адаму до вкушения от древа познания добра и зла. Вы понимаете, что я поставляю условием того, чтоб называться развитым человеком. Они и не слыхивали ни о чем, кроме Филаретова катехизиса, свода законов и «Московских ведомостей» — православие, самодержавие, народность. А ведь трое из них молодые люди, и один еще немец. Директор страшный реакционер, обскурантист и абсолютист. Впрочем — и это-то хуже всего — кое-что читал и не совсем малоумен, как обыкновенно бывают директоры. Инспектор единственный порядочный человек — образованный и имеющий обо многом понятие, особенно по своей части, т. е. учебной и ученой, со многими светлыми понятиями.
Вы помните, что я был поглощен политикою, так что ничто, кроме ее, и не занимало меня — теперь продолжается то же самое, и не ослабевает, а разве усиливается, так что я могу сказать о политике, что бывало твердил о Наталье Васильевне Александр Федорович:
В толпе врагов, в кругу друзей,
Среди воинственного шума
У верной памяти моей
Одна ты, царственная дума.
Страсть моя тем более пламенна, что не разделяют ее — но что же делать, постараюсь чтобы, наконец, разделили: я новый Пигмалион:
So schling ich mich, mit Liebesarmen,
Urn die Natur, mit Jugendlust
Bis sie zu athmen, zu erwarmen
Begint an meiher Dichterbrust.
(Schiller) *
Только вместо Natur читай Jünglinge und Manner, deren Seele loch niht gestorben hat, nicht erstart** — не потому, чтоб мне приносили удовольствие эти беседы, а потому что не могу не говорить: «Сказал я себе: не стану возвещать слова господня. Но стало оно во мне, как угль пламенеющий, и не могу я удерживать его в себе», как говорит Езекииль.
Прощайте, дорогой друг мой, целую Вас.
Надеюсь, что Вы воздадите мне благом за грех молчания моего и не будете молчать полтора месяца по примеру горько кающегося перед Вами недостойного
Н. Чернышевского.
135
Милостивейший Государь Измаил Иванович!
Прежде всего должен я объяснить Вам, почему я так долго не писал Вам, хотя и очень хорошо понимал, что мое молчание — вина с моей стороны. Мне совестно было посылать Вам письмо, не прилагая к нему по крайней мере образчика словаря к Ипатьевской летописи, так медленно подвигающегося у меня вперед. Теперь, наконец, я могу послать на Ваш суд начало этого словаря и просить Вас об исполнении моей покорнейшей просьбы к Вам — сообщить мне Ваши замечания на план, которому я решил следовать в его составлении. План этот приложен к образцу словаря, который доставит Вам брат, А. Пыпин — Вас утруждать получением письма я не осмелился.
Я исключаю из того словаря, которым теперь занимаюсь, собственные имена и грамматические слова (местоимения, местоименные наречия, предлоги, союзы). Причины этого я объясняю в своих замечаниях, приложенных к началу словаря. Этот словарь, заключающий в себе таким образом нарицательные существительные, прилагательные и глаголы, не далек от окончания в том виде, какой придан отрывку его, посылаемому теперь на Ваше рассмотрение. Для окончания его в таком виде понадобится около месяца работы.
Но, с одной стороны, я не хотел бы ограничить этого словаря одною Ипатьевскою летописью, с другой — мне хотелось бы, кроме этого филологического словаря, составить исключительно по источникам, но по всем ныне доступным источникам, реальный словарь русской истории и древностей до начала московского периода или, по крайней мере, до конца XIII века.
Составить такой реальный словарь будет совершенно необходимо, если Вы, Измаил Иванович, сочтете основательными представляющиеся мне сомнения относительно того, следует ли грамматические изыскания о русском языке XII и XIII века начинать исследованием языка летописей в грамматическом отношении. Тогда, если выбирать предметом диссертации что-нибудь из русского, мне должно будет избрать предметом своей диссертации не самый язык летописи Ипатьевской, а разъяснение какой-нибудь стороны нашей истории или древностей материалами преимущественно филологическими (напр., нравственной или умственной
219
стороны жизни народной; или иноземных влияний на жизнь русских людей в XII и XIII веках; или вопрос о том, до какой степени можно узнать личности различных редакторов Ипатьевской летописи, летописцев и других писателей, которыми они пользовались, и т. п.).
С мыслями о составлении реального словаря я оставил без разъяснения в настоящем отрывке почти все реальные слова (напр., взяти град, бог, брат, ятры, ангел, бес и т. п.) — настоящее место им в реальном словаре по всем памятникам, а не в филологическом словаре по одному памятнику.
Позвольте просить Вас, Измаил Иванович, извинить неверность пяти-шести, может быть, и десяти, цитат и цифр страницы и строки: окончательную поверку их надобно оставить для последней корректуры, и, вероятно, в нескольких местах вкрались описки.
Теперь я должен отдать Вам отчет в том, почему так замедлилось окончание моего словаря.
Некоторые из причин замедления этого так просты, что не нужно и распространяться о них; напр., то, что я, очутившись в семейном кружке, довольно долго не мог приняться ни за какую работу; что иногда довольно много времени отнимают у меня занятия по гимназии; что, наконец, с месяц я был болен и не мог работать. Но есть одно обстоятельство, виновником которого можно до некоторой степени назвать Вас, Измаил Иванович, — это знакомство с Николаем Ивановичем Костомаровым, оно отнимает у меня довольно много времени, которого я, однако, не назову ни в каком случае потерянным.
Вы, Измаил Иванович, в таких выражениях говорили мне об уме и характере Николая Ивановича, что я тотчас же по приезде своем в Саратов поспешил быть у него; я нашел в нем человека, к которому не мог не привязаться; он, естественно, в Саратове очень тоскует, и я поэтому иногда служу для него развлечением. Таким образом я бываю у него часто.
Ожидая разрешения выехать отсюда и жить в столицах, может быть, даже разрешения продолжать службу по прежнему ведомству, если не профессором, то по крайней мере библиотекарем, редактором какого-нибудь журнала или чем-нибудь подобным, Николай Иванович не решается ни поступить серьезным образом в гражданскую службу, ни основаться прочно в Саратове. Можно надеяться, что в скором времени ему и действительно дадут подобное разрешение; потому что он успел приобрести прекрасное мнение о себе у губернатора и других нужных ему людей; но теперь пока живет он в Саратове без определенного занятия — он служит переводчиком в губернском правлении для того, чтобы числиться на службе. Естественно, что, видя свою карьеру расстроенною, видя себя оторванным от своих любимых занятий, лишившись, на время по крайней мере, цели в жизни, Николай Иванович скучает, тоскует; он пробует заниматься, но невозмож-
220
ность видеть свои труды напечатанными отнимает охоту трудиться: так писал он историю Богдана Хмельницкого — цензура обрезала ее до бессмыслия; он не захотел портить своего труда и оставил его у себя в бюро. А история эта разливала новый свет на положение Малороссии в XVII веке и присоединение ее к России. Надолго это отбило его от новых трудов; наконец, принялся он за эпоху Ив. Вас. Грозного. Он верит в возможность этому труду пройти малоизмененным в печать и горячо взялся за него. Я этому рад, потому что одно занятие может несколько рассеять его тоску и отвратить дурные для здоровья следствия душевного томления.
А следствия эти уже есть. По разным обстоятельствам, главное из которых приносит ему много чести, у него явилась одна, довольно ничтожная болезнь; он, под влиянием своих мрачных мыслей, очень преувеличивал ее; в нынешнем году получил он две сильных неприятности; душевное расстройство, увеличившись, усилило и болезнь, усилило и мнительность его; он начал лечиться чрезвычайно сильными средствами, переменял беспрестанно методы лечения и диэту, и таким образом болезнь его мало-помалу усилилась, а он, хотя она и пустая в сущности, начал считать себя стоящим одною ногою в гробе. А болезнь его наверное прошла бы сама собою, если бы восстановилось в нем душевное спокойствие, перестал бы он думать о ней и начал бы вести правильный, обыкновенный образ жизни.
Николай Иванович поручил мне засвидетельствовать Вам, Измаил Иванович, его почтение, и передать Вам его просьбу: для истории Грозного необходимы ему Флетчер; Арндт, Lifländische Chronik; Кельх, Historiе des Lieflands, особенно Флетчер; и поэтому он просит Вас, Измаил Иванович, выслать для него эти книги, если они найдутся в университетской или академической библиотеке. Он возвратит Вам их к тому времени, какое Вы назначите. Удобнее всего выслать эти книги на мое имя. Брат, А. Пыпин, передаст Вам мой адрес. Я взял на себя смелость уверить Николая Ивановича, что Вы, Измаил Иванович, если только можно будет достать эти книги, исполните его просьбу. Я основывался на том, что Вы были так добры, что хотели не отказать даже мне в присылке нужных мне книг: тем более, думал я. Вы не откажете ему, к которому питали Вы такое расположение. Подлинник Флетчера очень, кажется, редок; но перевод Бодянского, я думаю, есть в Петербурге.
Я не знаю, должен ли я высказывать перед Вами чувство благодарности за то благосклонное расположение, которым Вы меня удостаиваете, Измаил Иванович: я обязан Вам так много, что, мне кажется, без моих уверений, Вы должны быть уверены, Измаил Иванович, что имеете во мне одного из преданнейших Вам людей.
Искренно преданный Вам ученик Ваш Н. Чернышевский.
16 ноября 1851 г. Саратов
221
136
И. И. СРЕЗНЕВСКОМУ
Милостивый Государь Измаил Иванович!
Вы сделали мне столько добра, что беру на себя смелость опять просить Вашей помощи.
Брат мой (Пыпин) пишет мне, что в одной из петербургских гимназий открылось теперь место старшего учителя словесности, по случаю выхода в отставку Олимпиева. Если это место не обещано г. попечителем никому еще, то я прошу Вас, Измаил Иванович, поговорить обо мне Михаилу Николаевичу. Может быть, Ваше покровительство будет снова причиною счастливой перемены моего положения.
Ваш ученик Николай Чернышевский.
16 мая 1852 г. Саратов.
137
Н. Д. и А. Е. ПЫПИНЫМ
16 декабря 1852 г.
Милый дяденька! Пожалуйста приезжайте поскорее как можно в Саратов; открывается место, которое будет вам дано тотчас же, как только приедете и представитесь вице-губернатору. Следствия, какие там у Вас есть, бросьте; это важнее следствий.
Привозите с собою сестер. Мы об них очень [со]скучились.
Приезжайте. Целую Вас. Племянник Ваш Н. Чернышевский.
Милая тетенька! Присылайте дяденьку в Саратов поскорее, как только они воротятся из уезда в Аткарск. Целую вас, милые сестрицы и братцы.
138
Н. Д. и Е. Н. ПЫПИНЫМ
[Начало января 1853.]
Милый дяденька! Мне сказали, что место для Вас приготовлено и что теперь ждут только Вас в Саратов для определения. Приезжайте же как можно поскорее. Мы Вас будем ждать на этой же неделе. Бросьте свои аткарские дела; это дело гораздо важнее всех их.
Если Вам почему-нибудь нельзя будет ехать тотчас же по получении этого письма, напишите, что Вас задерживает и к которому числу Вас ждать. Но лучше всего приезжайте, как можно скорее.
Привезите с собою сестриц.
Целую вас, тетеньку, сестриц и братцев.
Племянник Ваш Н. Чернышевский.
Благодарю тебя, милая Евгеньичка, за твои стихи. Они очень интересны.
222
139
ПЫПИНЫМ
[20 января 1853 г.]
Милый дяденька! Вы определены; приезжайте поскорее для получения указа или определения (не знаю, как это называется) и приезжайте поскорее.
Привозите с собою, пожалуйста, сестер: у нас без них очень скучно. Целую Вас. Ваш племянник Н. Чернышевский.
Милая Варинька! Приезжай, пожалуйста, с папенькою и привози Евгеньичку или Полиньку — ту, которая больше тебя любит. Пожалуйста, приезжай. Еще поспеешь на две свадьбы: Ольги Васильевны (она выходит за Сахарова) и Анны Прокофьевны (она выходит за Дубровина); может быть, и на третью свадьбу — Анны Яковлевны, которую собирался сватать Хованский.
Прощай! Целую тебя, Евгеньичку и Полиньку.
Милая тетенька! Присылайте сюда поскорее дяденьку. Отпустите, сделайте милость, с ними Вариньку и Евгеньичку или Полиньку — ту, которая лучше захочет ехать с Варинькою.
Прощайте. Целую Вас. Ваш племянник Н. Ч.
140
О. С. ВАСИЛЬЕВОЙ
[12 марта 1853 г.]
Ваши отношения ко мне, ваши мысли обо мне, о моих чувствах неопределенны. Эта неопределенность мучит меня. Я решительно затосковал. Ждать до воскресенья нестерпимо. Да и что будет в воскресенье? Снова не удастся говорить мне с вами, сказать вам ни слова. Я прошу у вас позволения быть ныне у Анны Кирилловны — это тем более необходимо, что во вторник я спрашивал Анну Кирилловну — а не вас — это ей, конечно, сказали — и между тем не был у нее. Это неловко. Если вы не пришлете с Венедиктом до 5 часов приказания не быть, в 6 часов уж буду у Анны Кирилловны. Чтоб хоть на минуту видеть вас, чтоб с вами сказать одно слово. До сих пор я не мог достичь даже того, чтоб вы считали меня человеком честным. Нет, это невыносимо.
12 марта.
(Писано в половине 12 и отдано Венедикту).
141
О. С. ВАСИЛЬЕВОЙ
Женщина должна быть равна с мужчиною.
До сих пор этого не было. Женщина всегда была рабою.
Жена должна быть равна мужу.
До сих пор этого не было. Жена была просто служанкою мужа, только немного повыше других слуг.
223
Все отношения между мужчиною и женщиною, между мужем и женой были поэтому гнусны.
Обязанность каждого честного и порядочного человека всеми силами души ненавидеть эти гнусные отношения и, сколько зависит от него, содействовать истреблению их даже с опасностью впасть в другую крайность, даже с опасностью стать рабом для водворения равенства в будущем, нежели увековечивать рабство других из боязни стать рабом самому.
Вот мои твердые убеждения относительно тех предметов, которые для Вас интереснее других.
28 марта 1853.
142
Н. Д. ПЫПИНУ
20 апреля [1853 г.]
Милый дяденька! Маменька скончалась на самый день светлого праздника. Папенька теперь остается один. Если в нас есть хоть несколько любви и сожаления к нему, мы не можем покинуть его в одиночестве. Что же нам делать?
Нам и Вам должно стараться о том, чтобы Вам перейти на службу в Саратов. Одно только это может поддержать его, потому что Вы только одни и есть родственники у папеньки. Другие не поддержат, а скорее только будут еще расстраивать его.
Сделайте милость, согласитесь на мою покорнейшую просьбу к Вам, просьбу слишком, слишком важную для папеньки: переходите на службу в Саратов, чтобы жить вместе с папенькою. Вы знаете, что с ним у Вас не может быть никаких неприятностей, никаких недоразумений, что у Вас с ним не может быть между собою никаких чувств, кроме искренней дружбы и любви.
Прощайте пока. Целую Вас. Ваш племянник Н. Чернышевский.
Приписываю 20 апреля вечером.
Я просил Кобылина о месте для Вас, милый дяденька. Он говорит, что для Вас, если Вам угодно будет принять, он оставит место столоначальника в отделении Шапошникова. Сделайте милость, милый дяденька, примите это место. Потом с него можно будет перейти в другое отделение, если счетная часть Вам не понравится; можно будет быть потом чиновником особых поручений или казначеем: одним словом, имея место, можно уже добиваться и добиться другого. Что до службы, то в каз. палате служба очень приятна при таком начальнике, как Кобылин, который деликатен чрезвычайно и никогда не позволяет себе ни одного невежливого слова со своими подчиненными. Это относительно его обращения. А что до сущности дела, то он действительно человек чрезвычайно добрый. Прощайте. Завтра же, сделайте милость, напишите ответ.
224
143
Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
6 мая 1853 г. 9 часов утра.
Милый папенька. Мы приехали благополучно в Чунаки; тут нам сказали, что ждут почты в Саратов, и мы отправляем письмо с этой станции.
Ольга Сократовна здорова; я тоже; лихорадки со мною не было; слабость прошла; аппетит возвращается.
Заедем к Ивану Фотиевичу; у него, вероятно, будем обедать. Дорога хороша.
Прощайте, милый папенька, целую Вас. Будьте здоровы. Ваш сын Н. Ч.
P. S. Для следующего письма опять будем ждать встречи с почтою. Целую Вас, милые дяденька, тетенька и сестрицы. Мое почтение Сократу Евгениевичу.
144
РОДНЫМ
Арзамас. 9 мая, 6 часов утра.
Милый папенька! Дорога наша была до сих пор совершенно благополучна. Погода стояла хорошая.
Каждую ночь мы останавливаемся отдыхать, потому и не так быстро подвигаемся вперед, как Вы, может быть, рассчитываете. И теперь мы пишем после стоянки. Сейчас выезжаем; к вечеру будем в Нижнем; 12 числа рассчитываю я быть в Москве — если будем останавливаться ночевать и едучи по шоссе; — 13 вечером или 14 поутру будем в Петербурге.
Мы очень хорошо сделали, поехавши через Нижний: там Ока не широка и переправа хорошая, а под Муромом, говорят, Ока разлилась верст на 10 или на 12, и если случатся сильные ветра (чего и можно ждать, потому что нынешнее утро только тихо, а прежде постоянно провожал нас сильный ветер), то приходится стоять у Оки в Муроме суток по двое. Ольга Сократовна слава богу здорова.
Я совершенно поправился дорогою. Даже слабость прошла. Аппетит очень хороший.
Если жена спросит о Федоре Ивановиче, скажите ей, что и он совершенно здоров и кланяется ей.
Дорогою пока ничего особенного не встретили; только замечательно разве то, что в Мокшане нашли мы такого прекрасного повара, каких немного и в Саратове.
Тарантас наш не требовал пока никаких починок. Понадобилось только сменить один перетершийся тяж.
15 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
225
В Арзамасе нашли мы прекрасные свежие огурцы. В Нижнем получены уже свежие лимоны. Послал отыскивать и здесь.
Ныне в Арзамасском монастыре большой праздник, и народу сошлось и съехалось множество. Многие приехали напр. из Лукоянова (60 верст) и дальше.
Следующее письмо напишем уже из Петербурга.
Прощайте, милый папенька. Целую Вас. Ваш сын Н. Чернышевский.
Целую Сократа Евгениевича. К ним будем писать из Петербурга.
Милый дяденька! Честь имею поздравить Вас со днем Вашего ангела.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы. До следующего письма. Будьте здоровы. Ваш Н. Чернышевский.
145
РОДНЫМ
[17 мая 1853 г.]
Милый папенька. Доехали до Нижнего мы целы и здоровы, хоть от Арзамаса до Нижнего дорога очень плоха. От Нижнего по шоссе поехали гораздо быстрее и спокойнее, так что сделали 390 верст гораздо менее, нежели в двое суток. В Москву приехали в 9 часов утра, а в 11 выехали из нее. Ольга Сократовна сказала, что успеет еще посмотреть Москву после, а я чрезвычайно торопился в Петербург, потому и уехали мы из Москвы так скоро. По железной дороге ехать очень спокойно, так что Ольга Сократовна отдохнула тут от прежней усталости.
В Петербург приехали мы в среду (13 числа) в 9 часом утра. Почта в Саратов, сказали нам, отходит в пятницу. Но в четверг вечером узнали, что саратовская почта отходит в понедельник и четверг поутру — от незнания мы пропустили одну почту и, может быть, заставили Вас беспокоиться.
В Петербурге остановились у Ивана Григорьевича, который принял нас очень радушно. Он собирается почти постоянно жить на даче у Браунов, поэтому предложил нам оставаться у него на квартире, сколько угодно времени. Мы воспользуемся, кажется, его предложением, потому что через месяц, когда все разъедутся по дачам, приискивать квартиры можно будет гораздо удобнее, да и мебелью можно будет к тому времени запастись постепенно и гораздо выгоднее, нежели покупать поспешно.
Ивана Григорьевича нашли мы здоровым. Сашеньку тоже. Иван Григорьевич действительно, а не на словах только, истинный родственник и человек благородный и деликатный.
Сашенька держит свои экзамены очень хорошо.
Теперь о своих делах.
226
Введенский и Срезневский приняли меня чрезвычайно радушно, радушнее даже, нежели я ожидал.
У Пушкина я еще не был. Он на-днях сделался нездоров и начнет принимать только с понедельника, т. е. с завтрашнего дня.
О последствиях свидания с ним, может быть, еще успею приписать завтра.
Следующее письмо отправим мы к Вам через неделю опять в понедельник.
Прощайте, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Н. Чернышевский.
P. S. В следующем письме напишу Вам, милый папенька, больше. Теперь спешу, потому что у меня время чрезвычайно занято, до того, что я не успел еще быть ни у кого из своих знакомых.
P. P. S. Пишите обстоятельнее о деле по переходу дяденьки в Саратов.
Целую вас, милый дяденька и милая тетенька. Думаю написать вам в следующим раз. Теперь еще почти нечего мне рассказывать. Могу только просить вас писать больше о себе.
Целую вас, милые сестрицы Варинька и Евгеньичка.
Целую тебя, милый Сереженька. Пиши о своих экзаменах.
[18 мая 1853 г.]
Сейчас воротился я от попечителя. Он принял меня очень ласково, сказал, что готов дать мне первое место, какое у него будет, и т. д.
Просьбу об экзамене велел он подать теперь же, самый экзамен велел держать в августе. Об отсрочке мне представит в министерство он сам.
Прощайте до следующего понедельника, милый папенька. Тогда напишу больше, а теперь мы все еще в хлопотах, и иной день я не успеваю даже заняться своим туалетом.
Будьте здоровы. Целую Ваши ручки. Ваш сын Николай.
Целую вас еще раз, милые дяденька, тетенька и сестрицы.
146
РОДНЫМ
25 мая 1853 г.
Милый папенька! До сих пор у меня столько разных хлопот, что я не успел еще привести в порядок даже письменных принадлежностей, и когда пришлось писать письмо это, оказалось, что почтовая бумага вся вышла.
Дела мои в Петербурге идут пока так, как надобно желать. Просьбу о магистерском экзамене подал я в пятницу, потому что
227
попечитель велел прежнюю просьбу переписать, поставивши, вместо четырехмесячной отсрочки моему отпуску, шестимесячную. Он вообще со мною очень ласков и хотел представить министру, чтобы меня оставили в Петербурге по делам службы для того, чтобы не прекращалось жалованье. Не знаю, согласится ли на это министр (т. е. управляющий министерством). Экзамен велел он держать в сентябре.
Я хорошо сделал, что так торопился в Петербург, потому что успел видеться с Введенским, что было для меня очень важно. Жена его понравилась Ольге Сократовне. Нас приняли все очень радушно.
Семейство Срезневского, особенно сам он и его мать, также понравились Ольге Сократовне. Срезневский даже бегает с нею в перегонки по Павловскому парку. Ha-днях мы поедем к ним опять в Павловск гостить на несколько дней.
Мать Срезневского от души радуется, что у меня такая жена, и говорит, что мы с нею будем очень счастливы. Словарь мой к Ипат. летописи скоро начнет печататься. Это будет самое скучное, самое неудобочитаемое, но вместе едва ли не самое труженическое изо всех ученых творений, какие появлялись на свет в России.
В начале июня примусь за другие работы, от которых надеюсь получить деньги. Срезневский постарается, чтобы мне дали денег и за словарь.
В военно-учебных заведениях, кажется, от меня будет зависеть, сколько набрать себе уроков; вероятно, я буду получать больше жалованья, нежели рассчитывал (я рассчитывал на 1 000 или 1 200 р. сер.). Одно место мне предлагали, но, по совету Введенского, я не нашел нужным принять его.
Вообще все мои отношения в Петербурге до сих пор хороши, и, кроме приятного, я ничего здесь не встретил.
Живем до сих пор мы в квартире Ивана Григорьевича. Переезжать нам на дачу в Павловск или нет, еще не решились. Вероятнее, что останемся в городе. Иван Григорьевич очень добрый и деликатный человек.
Здоровье Ольги Сократовны хорошо. Боль в груди прошла совершенно. Говорит, что не скучает в Петербурге.
Саша кончает свои экзамены, остался из факультетских предметов только один — педагогия, которую читал Фишер по книге Евсевия «О воспитании детей в духе христианского благочестия». До сих пор у Саши везде полные баллы. Ему, кажется, дадут магистерскую стипендию (1 200 р. асс.), которая влечет за собою только одну обязанность — держать магистерский экзамен. Вообще он ведет свои дела хорошо.
Мне хотелось бы написать Вам еще многое, милый папенька. Но теперь нет ни времени, ни расположения духа такого, чтобы написать так, как следует написать. Мне хотелось бы поговорить о моих отношениях к Вам, милый папенька, и о том, что я только в
228
последнее время понял Вас совершенно, понял всю Вашу беспримерную любовь ко мне, понял многое, чего прежде не понимал.
Прощайте до следующего письма, мой милый папенька. Целую Вашу столь милостивую ко мне руку. Ваш сын Николай.
Целую вac, милые мои дяденька и тетенька, милые сестрицы и братцы. Будьте здоровы.
Целую Сократа Евгениевича, которому я так много обязан. Свидетельствую свое почтение Анне Кирилловне и всем родным своим и Ольги Сократовны.
147
Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
[1 июня 1853 г.]
Милый папенька! О делах своих я напишу Вам со следующею почтою — теперь могу написать нового очень немного, кроме мелочей.
Введенский уехал третьего дня за границу; он собирался ехать неделею раньше, но выдача паспорта замедлила его отъезд. Я очень много выиграл, приехавши сюда так, что успел повидаться с ним хорошенько несколько раз.
Погода в Петербурге стоит чудная. Мы собирались переезжать на дачу, но, кажется, не переедем, потому что Ольга Сократовна нисколько не скучает и в городе.
Optime pater! multa tibi scribere volebam, ejusmodi ut scias a me comprehensam esse tuam summam in me benevolentiam; sed spatium temporis deest; accedant plurima, quae impediant. Insequenti scribam tempore*.
Ольга Сократовна еще спит. Я тороплюсь на почту, потому что мне нужно побывать eще во многих местах за справками по делам; потому дожидаться ее некогда, и она ничего и не пишет. До следующего письма, милый папенька.
Будьте здоровы. Целую Ваши руки. Сын Ваш Николай.
Свидетельствую свое глубочайшее почтение папеньке Сократу Евгениевичу и всем родным.
148
Н. Д. и А. Г. ПЫПИНЫМ
[Июнь 1853 г.]
Мы думаем, что это письмо найдет вас, милые дяденька и тетенька, уже в Саратове.
Сашенька кончил курс кандидатом и наверное получит право служить прямо в министерстве. Он мужчина крепкий, здоровый, прелесть какой! Впрочем, теперь худощав несколько, потому что изнурился от экзаменов. Пишите нам о своих делах. Будьте здоровы. Целую Вас.
Целую своих милых сестриц и братцев. Ваш Н. Чернышевский.
149
РОДНЫМ
[15 июня 1853.]
Милый папенька! Мы поживаем здесь подобру-поздорову. Дела мои начинают устраиваться. Отправили из министерства запрос к казанскому попечителю о том, согласится ли он оставить меня здесь по делам службы; между тем дали моему отпуску отсрочку до 1 августа.
Начал много заниматься, проживши недели три без всякого особенного дела.
Ольга Сократовна здорова. Она почти никуда не выезжает, что для меня несколько неприятно, потому что нельзя же ей не соскучиться, дома сидя недели полторы. Она говорит, что пока не сойдется хорошенько, для нее тяжело бывать где-нибудь.
Мы думаем в скором времени перейти на постоянную квартиру, а до сих пор живем, как на бивуаках. Нанять придется где-нибудь на Петерб. стороне, потому что там будут у меня главные уроки.
Сашенька, вероятно, будет жить с нами. Его просит об этом Ольга Сократовна.
Я виноват перед Вами, милый папенька, опустивши один понедельник без письма. В этот день пришлось мне в 6½ часов утра уйти из дому, чтобы поспеть на Царскосельск. дорогу к 7 часам, — в 8 надобно было мне быть у попечителя. Из Царского приехал уже слишком поздно, чтобы отправить письмо.
Мы будем писать каждую неделю, но, вероятно, довольно часто будут встречаться подобные обстоятельства, а потому прошу Вас, милый папенька, не беспокоиться, если опять случится мне пропустить неделю, не писавши.
Будьте здоровы. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
Милый дяденька и милая тетенька! Благодарю вас за любовь к нам; тяжело без нее было бы и папеньке и мне. Слава богу, что вы, наконец, перебрались в Саратов.
Позвольте мне высказать свое мнение о Марье с дочерью. Анна здесь ничего не делает; Марья собирает ей приданое и потому должна мошенничать вдвое. Мне казалось бы, что лучше всего было бы позволить Марье отдать дочь за отысканного ей жениха. Если они заложены, Марья пусть взнесет деньги. Позвольте пока благодарить за то, что вы согласились оставить их
230
на время здесь. Не знаю, как мы устроимся с прислугою. Конечно, лучше всего было бы, если б можно было обойтись без них.
До следующего письма. Целую вас. Ваш племянник Н. Ч.
Целую вас, милые сестрицы Варинька, Евгеньичка и Полинька, и тебя, милый Сереженька.
150
Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
[2 июня 1853.]
Милый папенька! Мы все, славу богу, здоровы.
Дела мои все больше и больше приходят в порядок, хотя по обыкновению очень мало я сам о них забочусь.
В корпусах набирается у меня уроков по приблизительному счету на тысячу рублей серебром. Но я ни у кого из людей, от которых зависит в корпусах раздача уроков, не был и не буду с просьбою об уроках — не хочу напрашиваться. Пусть сами приглашают, кому угодно. Вероятно, те уроки, которые теперь остались за мною (теория поэзии во 2 корпусе и половина уроков, которые у Введенского по разным корпусам) принесут больше тысячи рублей серебром, в которые оцениваю их я. Вероятно, во втором корпусе принуждены будут просить меня взять еще часть уроков по истории всеобщей литературы
Если у меня не будет более выгодных занятий, то возьму еще другие уроки, чтобы набралось побольше жалованья. Но не думаю, чтобы в этом была нужда. Вероятно, найдутся более выгодные занятия, и я буду брать в корпусах только те уроки, от которых неловко будет отказываться.
Поручили мне, между прочим, корректуру и исправление записок высшей исторической грамматики русского и церк.-славянского языка, которые теперь литографируются для рассылки по корпусам как пособие (не как руководство).
С будущей недели или, лучше сказать, с субботы начнется печатание моего словаря к Ипатьевской летописи в Известиях Второго отделения Академии. Денег, конечно, это не доставит. Дадут только отдельные оттиски, которые, разумеется, никто не купит. Бескорыстный труд в пользу науки и своей ученой репутации.
Есть у меня еще кое-какие другие дела. Но так как они еще тянутся и до конца дотянутся не раньше двух недель, то пока не пишу ничего о них. Это дела, доставляющие несколько денег.
Будьте здоровы, милый папенька. Целую Вашу руку.
Verbis exprimere non possum quantum de te cogito, quantum te amo. Valeas, Pater optime, meliore, quam ego, filio dignus. Ad Deum preces
231
mitto, ut te pro tua in me summa benignitate bona valetudine et omni gaudio condonet*.
Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
151
Н. Д. и А. Г. ПЫПИНЫМ
[22 июня 1853.]]
Дела Сашеньки идут хорошо, так что, кажется, не будет он иметь необходимости поступать в военно-учебные заведения, хотя ему и предлагается это. Впрочем, он, по обыкновению своему, очень молчалив и ни с кем объясняться много не любит.
Напишите, как Вы устроились в Саратове, милые дяденька и тетенька.
Целую Вас. Пишите нам больше.
Целую вас, милые сестрицы Варинька, Евгеньичка и Полинька. Будьте здоровы. Напиши, милый Сереженька, как ты кончил свои экзамены.
Ваш брат Н. Ч.
151
РОДНЫМ
29 июня 1853.
Милый папенька! На этой неделе мы не получали от Вас письма; приписываю это тому, что мы сами как-то пропустили один понедельник, не писавши Вам. Вперед надеюсь не делать подобных неисправностей. Пишите, сделайте милость, и Вы каждую неделю.
У меня теперь довольно много работы. Кажется, что у меня устроятся дела с «Отеч. записками». Писать для журналов довольно выгодно. Жаль только, что до сих пор наши журналы не могут иметь более 30 листов в книжке, а потому нет места расписаться слишком обширно. Печатание моего словаря начинается на этой неделе.
Пишите нам и вы, милые дяденька и тетенька. Что ваш перевод в Саратов?
До следующего письма. Целую вас всех.
Ваш Н. Чернышевский.
151
РОДНЫМ
[6 июля 1853.]
Милый папенька! По одному выражению Вашего последнего письма: «если от вас не будет в какой-нибудь понедельник послано письма, это будет для меня знаком, что и вам от меня не нужно письма», — я боюсь, не разгневались ли Вы за что-нибудь на меня. Если так, напишите прямо, чем Вы огорчены, чтобы я мог оправдаться или исправиться.
Ближайшая причина к неудовольствию с Вашей стороны, сколько могу придумать, та, что мы один понедельник пропустили, не пославши Вам письма. Но если бы Вы знали, милый папенька, как провел я этот понедельник, Вы, конечно, извинили бы мою неаккуратность в переписке на этот раз.
Нынешний день, перед самым отправлением на железную дорогу, был у нас Александр Петрович Иловайский. Он хотел побывать у Вас по приезде в Саратов.
Кто будет назначен министром народного просвещения на место покойного Ширинского — еще неизвестно; прежде говорили о Корфе, директоре Публичной библиотеки, теперь замолчали, и говорят, что вероятнее всего министром будет утвержден Норов, теперь исправляющий должность министра.
Но всего более занимают Петербург толки о предстоящей турецкой войне. Иностранные газеты уверены, что война будет и обратится из войны между Россией и Турцией в войну между Россиею и Англиею. У нас, по слухам, делаются очень большие приготовления.
Мы все здоровы. До следующего письма. Целую Вашу ручку, милый папенька. Целую своего крестного папеньку и прошу передать ему глубочайшее мое почтение.
P. S. Пока мы просим Вас, милый папенька, адресовать письма попрежнему. Через неделю мы вероятно переберемся на новую квартиру и тогда сообщим Вам свой адрес.
Милая тетенька! Ha-днях Сашенька получил письмо от дяденьки, из которого мы узнали, что он все еще в Аткарске. Папенька писал еще, что дело дяденькино в губернском правлении. Только и всего я знаю об его делах. Пожалуйста, напишите, какое место получает дяденька в казенной палате. Напишите также, как вы все устроились на житье в Саратове, а то мы не знаем о вас почти ничего.
Писать о себе или надобно мне очень много — и когда-нибудь соберуся я писать Вам, милая тетенька, — или не писать ничего — так я и делаю пока. Сашенька до сих пор все сидит у моря и ждет погоды — дожидается магистерской стипендии, которую обещал ему попечитель. До следующего письма. Целую вас, милый дяденька и милая тетенька. Будьте здоровы. Целую вас, милые сестрицы Варинька и Евгеньичка, и тебя, милый Сереженька.
Милый папенька! Честь имею поздравить Вас с днем Вашего ангела и пожелать Вам здоровья на наступающий для Вас новый год. Бог даст на следующий год и нам можно будет приехать к этому дню в Саратов.
Желаю Вам всякой радости и благополучия, милый папенька, целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
233
154
РОДНЫМ
13 июля 1853.
Милый папенька! Благодарим Вас за подарок жене, мы получили Ваше письмо в самый день ее именин. День этот прошел у нас, разумеется, почти так же тихо, как проходят все наши дни, но, кажется, для всех нас довольно приятно. У нас были только дядя жены, Александр Федорович (чрезвычайно добрый и обязательный) и мой приятель Михайлов. Вечером съездили мы в Екатерингоф.
Ныне, так же тихо, впрочем, празднуем день Вашего ангела, с которым от всей души имеем честь поздравить Вас, милый папенька. Дай бог провести его Вам, милый папенька, в здоровьи и удовольствии, как и весь следующий год.
У меня теперь много работы, так что я дорожу каждою минутою. Почти ничего даже не читаю — некогда. Между прочим, начали печатать в Прибавлениях к Известиям Академии мой словарь. Это влечет за собою пропасть работы, больше, нежели я думал. Кроме того, я пишу кое-что для «Отеч. Записок» — не знаю, как устроятся мои отношения с Краевским (редактором «Отеч. зап.»), вероятно, хорошо — этого мне очень хотелось бы, потому что журнальная работа выгодна. Теперь доканчиваю статью, которую на-днях должен отдать ему.
До следующего письма, милый папенька. Будьте здоровы. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Н. Чернышевский.
Милые дяденька и тетенька! Мы все очень благодарим вас за то, что вы не забыли Олечкиных именин. Ее стоит любить, потому что в сущности она очень добрая и милая. Сашенька, по крайней мере, очень полюбил ее и пользуется и от нее взаимностью. Все собирался писать к Кобылиным, но все еще не нашел времени. В четверг напишу непременно: давно бы следовало. На-днях перебираемся на новую квартиру, адрес которой пришлем, когда решим, куда перейти. Сашенька будет жить с нами. Ив. Григ., кажется, нет. Будьте здоровы. Целую вас.
Целую вас, милые сестрицы Варинька, Евгеньичка и Полинька, и тебя, милый братец Сереженька.
155
РОДНЫМ
20 июля 1853.
Милый папенька! Я с хлопотами своими до сих пор не соберусь писать Вам, как должно. Теперь все продолжаю переделывать свой словарь и читать его корректуры; в последнем по своей доброте помогает мне милый Сашенька. Я рассчитывал на 12 или 15
234
печатных листов, составляя словарь, но во 2-м томе Известий осталось всего только 4 листа; до 3-го тома (который начнется с сентября) ждать не хочется, и пришлось моему словарю сжиматься до последней крайности. Ha-днях кончу эту работу и примусь за свою диссертацию. Эти работы не принесут денег, но, кажется, будут не совсем бесполезны для меня. Пишу еще кое-что на скорую руку, чтобы напечатать где-нибудь в журнале. Краевский сказал мне в ответ на мой вопрос, что будет помещать мои статьи. Теперь дожидаюсь книг (немецких), чтобы начать статьи об эстетике. Их нужно будет писать с большою осторожностью, чтобы они могли явиться в печати.
«Христианское чтение» не было даваемо мною никому решительно. Если Вы не найдете затерявшихся книжек, то можно будет подкупить их в редакции «Христ. чтения».
Слава богу, что дяденькино дело подвигается вперед. Но ни Вы, ни они давно уже не писали, какое же именно место дается дяденьке? То, которое занимал Ив. Петр[ович] Иловайский? В четверг я послал письмо Кобылиным.
До следующего понедельника, милый папенька. Будьте здоровы. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Н. Ч.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы.
156
РОДНЫМ
27 июля 1853 г.
Мы собираемся переезжать, наконец, на свою квартиру. До сих пор мы все дожидались, пока она опростается. Для меня не может быть квартиры удобнее той, которую занимали Введенские; Введенские собирались переходить на другую, потому что занимаемая ими тесна для них с троими маленькими детьми. Дожидаться пришлось долго, но вот теперь они уже перебираются; с первого августа начнем и мы перебираться.
Эта квартира состоит из трех довольно больших комнат; так как Сашенька будет жить с нами, то меньше квартиры занять нам и нельзя. Правда, что она дороговата для нас: 20 р. сер. в месяц; но что же делать, когда другой за меньшие деньги мы не могли отыскать на таких местах, где было бы для меня удобно жить.
Ольга Сократовна так внимательно занимается хозяйством, что скоро будет отличною хозяйкою: все утро хлопочет, и распоряжается, и сама делает то, чего нельзя поручить прислуге. В расходах ведет строгий счет.
Мы можем опоздать на почту, потому я и пишу только такое коротенькое.
Будьте здоровы, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай Ч.
235
Целую вас, милые дяденька и тетенька. Когда это, наконец, окончится дело о Вашем переходе, милый дяденька?
Поздравляю тебя, милый Сереженька, с переходом в 6-ой класс. Вот теперь ты уже должен быть солидным молодым человеком, чтобы не уронить своего звания «ученик 6-го класса».
Целую вас, милые сестрицы Варинька, Евгеньичка и Полинька.
Свидетельствую глубочайшее почитание милому своему крестному папеньке.
157
РОДНЫМ
10 августа 1853.
Милый папенька! Мы уже почти устроились на своей новой квартире, и говорят, что она очень мила. Если бы мои дела устроились так же хорошо, как наша квартира, не о чем было бы мне и беспокоиться в продолжение нескольких лет. Бог даст, устроятся и дела.
Печатание моего словаря подвигается. Выпуск «Известий», в котором он помещается, должен выйти к концу августа.
Уроки у меня будут во 2-м корпусе и в Дворянском полку. Введенский, который должен приехать около 1 сентября, передаст еще мне половину своих уроков, так что у меня наберется уроков в корпусах, вероятно, на 1 000 р. сер.; на следующий год можно будет иметь больше, если понадобится. Но, вероятно, у меня найдутся другие источники доходов, которые избавят от необходимости набирать слишком много уроков в корпусах. Магистерский экзамен надобно покончить поскорее.
Теперь мы уже, вероятно, не будем забывать о почтовых днях.
До следующего понедельника, милый папенька.
Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
Свидетельствую свое глубочайшее почтение крестному своему папеньке.
Милые дяденька и тетенька! Сашенька должен получить стипендию, обязывающую держать магистерский экзамен. Так мне говорил Никитенко, с которым я недавно виделся. Никитенко говорит о Сашеньке с большим восторгом и уверяет, что попечитель здешнего округа, Пушкин, также очень расположен к нему.
Получив стипендию, которая обеспечит его на год, Сашенька думает все время употребить на занятия по своему предмету (русской словесности), чтобы держать экзамен как можно скорее. Это действительно благоразумнее всего в настоящее время.
Целую вас, Вариньку, Евгеньичку, Полиньку и Сереженьку.
236
158
РОДНЫМ
17 августа 1853.
Милый папенька! Мы исполнили Ваше поручение, купили бархата. Но не успеем ныне отослать его и пошлем в четверг. Я выбирал бархат густого цвета, потому что, помнилось мне, Вы говорили, что чем гуще цвет, тем лучше.
В кадетских корпусах уроки начинаются с 1 сентября. У меня будет несколько уроков во 2-м корпусе; больше уроков будет у меня в Дворянском полку, но сколько, не могу сказать, потому что там еще не сделано расписания классов. Кроме того, Введенский хотел отдать мне половину своих уроков. Я, по обыкновению своему, не просил никого и не хлопотал, а дожидался, пока мне сами предложат.
На-днях надобно мне будет решиться, в котором корпусе считаться мне на службе. Для этого надобно будет посмотреть, в котором корпусе будут больше дорожить моею службою.
Вот уже несколько дней сряду я почти отдыхаю, потому что одни дела кончил, а других еще не начинал.
Оленька совершенно здорова и, кажется, не находит времени скучать в хлопотах по хозяйству, которое ужасно ее занимает. До сих пор она еще ни с одною из здешних дам не познакомилась коротко, потому что ни одна ей не нравится особенно.
Вчера приехал в Петербург Ломтев, мой товарищ по саратовской гимназии. Но с нами он еще не виделся.
Будьте здоровы, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай Ч.
Свидетельствую свое глубочайшее уважение своему крестному папеньке.
Милые дяденька и тетенька. Фамилия ваша начинает прославляться в литературе: в «Отеч. зап.» за август месяц помещена в науках статья Сашеньки: «Лукин»; это отрывок из его сочинения на золотую медаль. Он, конечно, напишет вам более подробностей о своем сочинении. Два-три человека, читавшие августовскую книжку, которых удалось мне встретить, очень хвалят Сашенькину статью. Но ни я, ни он сам еще не читали ее в печати. В следующей книжке будет ее продолжение.
Прощайте, милые дяденька и тетенька. Целую вас.
Целую вас, милые сестрицы Варинька, Евгеньичка и Полинька, и тебя, милый Сереженька.
237
159
РОДНЫМ
[24 августа 1853 г.]
Милый папенька! В четверг я не послал Вам бархату потому, что в субботу ожидал выхода в свет того выпуска «Известий Академии», в котором напечатан мой словарь; я хотел послать вместе с бархатом и свой ученый труд; но выпуск до сих пор еще не вышел, и я уже пошлю к Вам отдельный оттиск своей статьи.
Я писал Вам, милый папенька, что уроки в кадетских корпусах начинаются около 1 сентября. Итак, в следующем письме я, вероятно, напишу, какие и где у меня уроки. Теперь могу только сказать, что из 2 кадетского корпуса послана в Казань бумага о переводе моем на службу во 2 корпус.
Мы все здоровы и живем без всяких особенных приключений.
В Петербурге не так давно случилось ужасное происшествие: лодка, на которой сидело четыре человека, попала под пароход; двое из сидевших спаслись, двое потонули. Один из потонувших (подполковник) оставил молодую жену и пять человек детей без всякого состояния.
Других слухов нет, не слышно даже о том, кто будет министром нар. просвещ.
До следующего письма, милый папенька. Целую Ваши ручки Сын Ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки.
P. S. Вместе с бархатом мы посылаем перочинный ножичек.
Сашенька не пишет потому, что ушел рано поутру из дому хлопотать по каким-то делам.
Милые дяденька и тетенька! С неделю назад получил я письмо от Кобылина, в котором он пишет, что все еще дожидается подачи просьбы от Вас, милый дяденька.
Сашенька начинает после своих каникул заниматься. Прощайте, целую вас.
Целую милых сестриц и брата Сереженьку.
160
Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
30 августа [1853 г.]
Милый папенька! На этой неделе пришлось нам получить два Ваших письма, потому что письма, в котором посылаете Вы нам подарок на новоселье, взято мною из почтамта только в понедельник уже после отсылки нашего письма. Благодарим Вас, милый папенька, за Ваш подарок и за Ваше благословение.
Служба моя, конечно, будет считаться казенною, а не частною службою; скоро ли дождемся мы приказа о моем определении, бу-
238
дет зависеть от того, скоро ли кончится дело о моем переводе: отношение о нем уже послано из 2-го корпуса к попечителю казанского округа. В министерстве народного просвещения мне говорили, что подавать в отставку мне не нужно. Не знаю, так ли это устроится, как сказали мне там, или нет.
Мы все, слава богу, здоровы.
Ныне мы праздновали Сашенькины именины, т. е. у нас обедали Иван Григорьевич и Александр Федорович (они свидетельствуют Вам свое глубочайшее почтение; Иван Григорьевич в четверг хотел писать к Вам), а вечером был у Сашеньки Мордовцев.
В Петербурге стоит очень ясная погода, но уже довольно холодновато, так что большая часть дачников уже переселилась в город. В университете начались лекции, скоро начнутся и мои экзамены. Хотелось бы мне кончить их в половине октября — может быть, и успею. Магистерский экзамен продолжается четыре заседания; потом еще одно заседание назначается для «приватного» защищения диссертации, и потом еще надобно защищать ее публично. Факультет собирается обыкновенно раз в неделю, потому экзамен довольно длинная история.
Будьте здоровы, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки.
161
РОДНЫМ
[7 сент. 1853 г.]
Милый папенька! Теперь у меня нет никого знакомых в Синоде. Я поговорю с Ал. Фед., который чрезвычайно многих знает, не найдется ли возможности познакомиться с кем-нибудь. Постараюсь, если будет возможность, познакомиться с Сербиновичем, одним из директоров при Синоде или при обер-прокуроре, и редактором «Журнала минист. нар. просв.» — но бог знает, скоро ли мне, с моею, неловкостью заводить знакомства, удастся это. Участь братца Ивана Фотиевича в самом деле ужасна!
У меня теперь к Вам просьба, милый папенька. Я здесь коротко знаком с Рюминым, издателем одного из мелких журналов, «Моды», которая едва ли известна Вам; мне, по крайней мере, она была бы совершенно неизвестна без случайного знакомства с издателем ее. У нас с ним начинаются дела, правда, не обещающие огромных выгод мне (в год рублей 200 сер.), но выгодные для меня тем, что не будут у меня отнимать много времени. Рюмин болен грудью. Ему сказали, что в Саратове некто Минаев, отставной унтер-офицер, занимается составлением какой-то травы, чрезвычайно помогающей в грудных болезнях, которую продает он по 3 р. сер. за пакет. Рюмин через меня покорнейше просит Вас, ми-
239
лый папенька, достать этой травы и прислать на мое имя в Петербург. Этим чрезвычайно обяжете Вы его. Он все давал мне деньги для отсылки Вам. Но я сказал, конечно, что лучше будет отослать деньги по получении травы, потому что если этого Минаева на самом деле нет в Саратове, то деньги напрасно будут ездить по почте из Пет. в Сар. и из Сар. в Пет. Сделайте милость, милый папенька, потрудитесь узнать об этом Минаеве и, если можно, прислать его траву. Узнать о нем можно даже на почте, потому что здесь уверяют, будто бы он много рассылает своей травы по разным городам через почту.
Половина или, лучше
сказать, ![]() моей
диссертации готовы; в пятницу отдам ее по принадлежности, чтобы увериться
вперед, годится ли она. Она будет невелика, всего от 80 до 100 страниц, хотя
легко было бы и даже нужно было бы придать ей гораздо больший объем. Мысли в
ней только высказываются в общих чертах; следствий и приложений почти не
вывожу, потому что в таком случае понадобилось бы написать два тома листов по
35 печатных. На издание их нет у меня средств. И теперь печатание будет стоить
около 60 или 70 р. сер. Думаю напечатать в долг в той типографии, где
печатается «Мода», если не согласится напечатать в долг типография Академии наук.
Работаю довольно много, или по крайней [мере] все время, которым могу
располагать.
моей
диссертации готовы; в пятницу отдам ее по принадлежности, чтобы увериться
вперед, годится ли она. Она будет невелика, всего от 80 до 100 страниц, хотя
легко было бы и даже нужно было бы придать ей гораздо больший объем. Мысли в
ней только высказываются в общих чертах; следствий и приложений почти не
вывожу, потому что в таком случае понадобилось бы написать два тома листов по
35 печатных. На издание их нет у меня средств. И теперь печатание будет стоить
около 60 или 70 р. сер. Думаю напечатать в долг в той типографии, где
печатается «Мода», если не согласится напечатать в долг типография Академии наук.
Работаю довольно много, или по крайней [мере] все время, которым могу
располагать.
Мы все здоровы.
Сашенька не пишет потому, что рано поутру ушел на урок.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Будьте здоровы. Сын Ваш Н. Чернышевский.
Целую вас, милые дяденька и тетенька.
Целую вас, милые сестрицы, Варенька, Евгеньичка и Полинька.
Свидетельствую свое глубочайшее почтение крестному папеньке.
P. S. Олинька очень любит подписывать и печатать конверты. Потому и этот и прошлый конверт надписаны ею.
162
РОДНЫМ
14 сентября [1853 г.]
Милый папенька! До сих пор еще не получили мы от Вас письма, которое должно было бы притти к нам еще третьего дня. Но петербургские разносчики писем иногда заставляют ждать себя день или два.
Мы все здоровы и поживаем пока так себе, не особенно весело, но не слишком скучно. Олинька, впрочем, тоскует по родным, особенно по Сократе Евгеньевиче. И я часто горюю кое о чем в Саратове.
240
К счастью, мне не всегда остается время, чтобы задумываться. Вышел выпуск «Известий 2-го отделения» с извлечением из моего словаря. Я сверх ожидания получил за него 60 рублей сер. И то хорошо, когда не ожидал ничего. В одном из следующих выпусков будет моя статья об Ипат. летописи, за которую тоже придется получить рублей 70 сер.
Я сам написал для «Отеч. зап.» разбор II тома «Известий», где, не говоря худо ни о ком (потому что нельзя говорить), сколько возможно, побранил, однако, свой словарь. Не знаю, пройдут ли сквозь цензуру и эти замечания. Разбор будет помещен, вероятно, в октябрьской книжке «Отеч. зап.».
Здесь я рассчитал, что выгоднее для меня держать экзамен по словесности, а не по славянским наречиям. В пятницу отдал частным образом Никитенке свою будущую диссертацию (критика некоторых положений гегелевской эстетики), чтобы он посмотрел, может ли она беспрепятственно явиться в печати. На-днях возвратит он мне ее; если не придется слишком многого переделывать для цензуры, то на этой неделе подаю просьбу о магистерском экзамене (новую просьбу).
О переводе моем во 2-ой корпус послано отношение к казанскому попечителю. Введенский очень расположен ко мне, и если не успею я в скором времени найти себе лучшего, то в военно-учебных заведениях мне служить будет приятно.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Будьте здоровы и — сколько возможно меньше печальны. Ваш сын Николай.
Целую руку у своего крестного папеньки.
Александр Федорович свидетельствует Вам свое глубочайшее почтение.
P. S. Всем моим родным и знакомым прошу передать мой низкий поклон.
Милые дяденька и тетенька. Статья Сашенькина имела очень большой успех. В пятницу мы с ним были у Никитенки. Там очень много о ней говорили. Между прочим Булич, недавно приехавший сюда держать докторский экзамен, как вошел, начал говорить, что какой-то г. Пыпин написал прекрасную статью и т. д. Ему сказали: «А вы не знаете, где этот г. Пыпин?» — «Нет». — «Он сидит рядом с Вами». Такие сцены приятно действуют на близких людей. Говорили о том, что надобно хлопотать для Сашеньки о месте в Харьковском университете, которое на-днях открылось. Конечно, может случиться, что эти хлопоты останутся без успеха; но они показывают, как смотрят на Сашеньку.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы Варинька, Евгеньичка и Полинька. Целую тебя, милый братец Сереженька.
Сейчас принесли письмо ваше от 4 сентября. Слава богу, что все вы здоровы и что Ваше дело, милый дяденька, теперь уже решено. Ваш племянник Н. Чернышевский.
16 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
241
163
РОДНЫМ
21 сентября 1853.
Милый папенька! Ныне получили мы Ваше письмо от 13 сентября, а вчера Тихменев привез записку Вашу, посланную с ним.
Я отдавал Никитенке часть своей будущей диссертации, чтобы узнать наперед, во всех ли отношениях она годна; Никитенко сказал, что переделывать ее не понадобится. Обеспечив себя с этой стороны, я принялся за приготовление к экзамену своему и думаю начать его в этом месяце.
Я, кажется, еще не писал Вам, милый папенька, что, рассмотрев обстоятельства ближе и посоветовавшись кое с кем, я увидел, что лучше держать экзамен по словесности, нежели по славянским наречиям. Диссертацию свою пишу об эстетике. Если она пройдет через университет в настоящем своем виде, то будет оригинальна, между прочим, в том отношении, что в ней не будет ни одной цитаты, и всего только одна ссылка. Если же найдут это не довольно ученым, то я прибавлю несколько сот цитат в три дня. По секрету можно сказать, что гг. здешние профессора словесности совершенно не занимались тем предметом, который взял я для своей диссертации, и потому едва ли увидят, какое отношение мои мысли имеют к общеизвестному образу понятий об эстетических вопросах. Им показалось бы даже, что я приверженец тех философов, которых мнения оспариваю, если бы я не сказал об этом ясно. Поэтому я не думаю, чтобы у нас поняли, до какой степени важны те вопросы, которые я разбираю, если меня не принудят прямо объяснить этого. Вообще у нас очень затмились понятия о философии с тех пор, как умерли или замолкли люди, понимавшие философию и следившие за нею.
Одно здесь в Петербурге меня сильно досадует: времени у меня пропадает понапрасну чрезвычайно много. Так, напр., вчерашний и нынешний день я не успел сделать почти ничего, развлекаемый то тем, то другим. Между тем, я не имею ни времени, ни охоты развлекаться чем бы то ни было. У меня со времени женитьбы нет никаких мыслей и желаний, кроме тех, какие бывают у пятидесятилетних людей; я решительно стал немолодым человеком по мыслям, и от молодости остается во мне только одна неопытность, больше ничего. Мне скучны даже разговоры, какие бы то ни было, кроме деловых разговоров; у меня нет охоты видеться с кем бы то ни было, кроме нужных для меня людей. Ко всему, кроме семейной жизни, у меня пропало расположение. А времени пропадает понапрасну чрезвычайно много. Плохо я умею распоряжаться временем. Это досадует меня чрезвычайно.
Сегодня обедал у нас Александр Федорович. Он в самом деле расположен ко мне и доказывал уже несколько раз свое располо-
242
жение. Он свидетельствует Вам свое почтение. В четверг на Любинькины именины мы обедали у Ивана Григорьевича.
Добрая была она женщина, и жаль, что судьба ее была такая прискорбная в Петербурге. Она порадовалась бы теперь, потому что теперь дела Ивана Григорьевича идут хорошо. Иван Григорьевич очень любил ее, как немногие мужья любят своих жен. Счастлива она была этим и в своей болезни и в своем горе.
Мы все здоровы. Иногда бываем и веселы. Чаще я не бываю весел, потому что думаю о Вас, милый папенька, которого так бессовестно я покинул, и о том, как много, много я виноват перед многими. Простите до следующего письма. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.
Целую ручки у своего крестного папеньки.
21 сентября 1853 г.
Милые дяденька и тетенька! Сашенька в самом деле приобрел себе лестную известность своею статьею о Лукине. Теперь он трудится над другою статьею, о Богдановиче, которую также думает напечатать в «Отеч. записках». Он много занимается.
Целую вас, милые дяденька и тетенька. Целую вас, милые сестрицы Варинька, Евгеньичка и Полинька. Тебя, милый Сереженька, прошу сообщить мне, в Саратове теперь Сократ Евгеньевич или нет. Целую тебя.
164
РОДНЫМ
[28 сентября 1853 г.]
Милый папенька! Рюмин чрезвычайно благодарит Вас за Вашу присылку. Некоторые из моих знакомых также хотят начать пить декокт Минеича; потому они просят Вас прислать им через меня адрес Минеича, чтобы можно было им выписывать траву прямо от него, не утруждая Вас. Вероятно, Минеичева трава не излечивает и половины тех болезней, которые перечислены в его наставлении; но, кажется, нет сомнения, что она должна очищать кровь и быть очень полезна против геморроя, которым в Петербурге страдают очень многие.
Мы все, слава богу, здоровы. У Оленьки, впрочем, часто болит голова.
От какой болезни умер Василий Димитриевич? Не от холеры ли? Говорят, что она опять в Саратове? Здесь о ней вовсе не слышно.
Ныне же я увижусь с Александром Федоровичем и попрошу его о деле брата Ивана Фотиевича. Он узнает о его положении; но двинуть вперед или придать ему направление не могут те люди, которых он или Иван Григорьевич знают в Синоде.
16*
243
Окончивши свои магистерские экзамены, я постараюсь написать что-нибудь для «Журнала минист. нар. просв.». Может быть, этим удастся мне сблизиться с Сербиновичем. Сербинович, если захочет, может что-нибудь сделать. Но это сближение будет еще нескоро, разве около конца года, потому что у меня еще много отнимет времени магистерский экзамен.
Простите, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш
Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька.
Целую вас, милые сестрицы, и тебя, милый Сереженька.
Александр Федорович свидетельствует Вам свое почтение.
165
РОДНЫМ
5 октября [1853 г.]
Милый папенька! Я просил Ивана Григорьевича справиться о положении дела братца Ивана Фотиевича. Он хотел сам написать Вам об этом.
Иван Григорьевич вместе с Браунами переменил квартиру и настоящий его адрес:
У Покрова, в доме Лытикова.
Новая квартира его состоит из трех комнат, как и прежняя; комнаты эти несколько меньше, но как-то красивее прежних. Он довольно хорошо убрал их, употребив на это, кажется, более 200 р. сер. Теперь у него есть несколько вещиц, которые можно отнести даже к роскоши. Жаль, что Любинька, бедняжка, не дожила до этого времени. Она теперь могла бы жить в удовольствии.
Я все досадую на себя за то, что много теряю времени понапрасну. Готовлюсь к магистерскому экзамену, но уже слишком долго готовлюсь; по моим расчетам должно бы мне его покончить, а я еще только собираюсь начинать его.
Александр Федорович свидетельствует Вам свое почтение. Он бывает у нас, и Олинька ему всегда рада, потому что он прост и в самом деле расположен к нам.
Мы теперь все здоровы. Но на-днях Олинька очень страдала головой. Теперь, к счастью, все прошло.
Прощайте, милый папенька. Будьте здоровы. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька.
Целую вас, милые сестрицы и братцы. Свидетельствую свое глубочайшее почтение своему крестному папеньке.
244
166
РОДНЫМ
12 октября [1853 г.]
Милый папенька! Мы все, слава богу, живы и здоровы.
Замедление в моем экзамене происходит не совсем от меня: теперь держат экзамен другие магистранты, которых я и не знаю хорошенько по фамилиям, но в числе которых есть Орбинский и Ленстрем, исправляющие должность адъюнктов в Казанском университете. Сo всеми вдруг филологический факультет не мог бы справиться.
С Ломтевым не видались мы совершенно случайно: я долго не знал, где он остановился; когда узнал, то несколько дней был до того занят, что не мог зайти к нему; наконец — узнал, что он уехал. Если не ошибаюсь, он приезжал в Петербург по делам; потому и ему, вероятно, было некогда зайти к нам: иначе я не объясняю того, что он не был у нас. Я был с ним не в близких, но в хороших и приятельских отношениях; даже в более приятельских отношениях, нежели с другими своими товарищами.
В Петербурге с неделю назад говорили о турецкой войне; потом говорили о вертящихся столах, которые пишут ответы на какие угодно вопросы: для этого делается маленький столик на трех ножках; к низу приделывается карандаш, и этот-то карандаш пишет все, что угодно знать спрашивающему. Удивительно, до чего может доходить легковерие и шарлатанство! Особенно знаменит стол, принадлежащий г-же Шклярской, хозяйке дома, в котором живет Срезневский. Г-жа Шклярская (дама, имеющая дом тысяч в полтораста серебром) разъезжает с [ним] по Петербургу и берет по 25 р. сер. за вечер. Унижать себя подобными проделками принуждаемы бывают бедные люди голодом; но что принуждает ее?
Министром народного просвещения, кажется, утвержден Норов.
Александр Федорович и Иван Григорьевич, которые вчера были у нас (Иван Григорьевич бывает не так часто, как бы хотелось нам), свидетельствуют Вам свое почтение. Иван Григорьевич говорит, что он писал Вам, милый папенька, о деле Ивана Фотиевича. Бог знает, когда бедный братец успеет, наконец, выпутаться!
Целую ручку у своего крестного папеньки. Будьте здоровы, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька. Целую вас, милые сестрицы, и тебя, милай братец Сереженька.
245
167
РОДНЫМ
19 октября [1853 г.]
Милый папенька! Мы едем к Ивану Григорьевичу обедать и отвезем ему Ваше письмо. Дожидались было его мы вчера, но, вероятно, его задержали дела. Мы видимся с Иваном Григорьевичем довольно редко — раз в неделю, не более, потому что живем друг от друга очень далеко: если итти пешком, то надобно быть в дороге около часа с четвертью; даже ехать на обыкновенном извозчике приходится более получаса. Петербург чрезвычайно велик: Париж не больше его по объему, хотя в Париже почти втрое более жителей. У меня есть знакомые, с которыми еще не виделся я с самого приезда сюда, несмотря на то, что приятно было бы увидеться.
Здешние больные, желающие лечиться саратовскою травкою, чрезвычайно благодарны Вам, милый папенька, за присылку адреса Минеича. Но не думайте, милый папенька, чтобы в самом деле стала пить эту траву Олинька. Ей, слава богу, пока еще нет в этом никакой надобности.
Надобно удивляться, какая теплая погода стоит в Петербурге до сих пор: мы еще ни разу не топили своих комнат; конечно, это свидетельствует и о том, что наша квартира тепла. Тетенька спрашивают, что было с нами во время наводнения? Мы спали, потому что наводнение было ночью. На нашем дворе была вода, и хозяйка дома, возвращавшаяся из театра, ехала домой по воде в своей карете. Но если бы вода поднялась на две сажени выше, нежели стояла в 1824 году, она все еще не залила бы нас; от воды пока мы безопасны.
У меня до сих пор еще множество дела на руках — дай бог, чтобы его было не меньше и на будущее время, потому что в Петербурге гораздо страшнее всяких наводнений то, если нет работы. Я не посылал Вам, милый папенька, своей книжки потому, что до сих пор еще не собрался переплесть ее, и 50 экз., которые отпечатаны для меня, лежат все еще в листках на гардеробе; не знаю, скоро ли будет суждено им спуститься на вольный свет. До следующего понедельника прощайте, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
Слава богу, что дело о поступлении Вашем в казенную палату, милый дяденька, наконец, благополучно решилось. Сашенькины дела здесь идут или собираются итти хорошо. Но он сам напишет Вам об этом. Очень многие из его бывших профессоров деятельно заботятся о нем, и, конечно, из этих забот должно выйти что-нибудь хорошее.
Жаль бедного Василия Дмитриевича: ведь ему было еще не более 35 или 37 лет.
246
Прощайте, милые тетенька и дяденька. Целую вас. Целую сестриц и братьев.
Александр Федорович свидетельствует Вам свое глубочайшее почтение.
Целую руку у своего крестного папеньки.
168
РОДНЫМ
25 октября [1853 г.]
Милый папенька! Ваше письмо от 16 октября мы получили только вчера. Почта стала запаздывать целыми сутками. Слава богу, что Вы все живы и благополучны. Олинька теперь здорова, и пока ей никаких лекарств не надобно.
О деле Ивана Фотиевича Александр Федорович (он свидетельствует Вам свое почитание) просил одного синодального чиновника; тот обещался пересмотреть его; но что выйдет из этого — бог знает, и, скорее всего — не выйдет ничего особенного. Бедный братец! Какая горькая его участь!
У нас в Петербурге только и толков, что о турецкой войне, разыграется ли она, или кончится, не начинавшись? Я считаю вероятнейшим последнее; но большею частью ожидают серьезной войны. Если Турция будет в опасности разрушиться окончательно (в чем не может быть сомнения, если будет серьезная война), то Англия без всякого сомнения примет в войне деятельное участие, и тогда дело станет гораздо важнее. Но едва ли не уладится все довольно мирным образом, потому что ни Россия, ни Англия не хотели бы без крайней необходимости воевать друг с другом. И действительно едва ли уже не заключено у нас с Турциею перемирие.
В самом Петербурге теперь нет ничего нового. Несколько дней тому назад закрыта выставка Академии художеств. На ней были и мы с Олинькою. Интересных картин было выставлено мало; тем не менее во все дни толпилось там ужасное множество народа; мы были не в праздничный день, но все-таки была страшная толкотня; по праздничным дням была еще большая. Лучшее на выставке были портреты Зарянки (который берет тысячи по три серебром за портрет) и его ученика Тютрюмова.
С Иваном Григорьевичем не видались мы со дня его именин; а в этот день пили у него чай и просидели у него часов до десяти. Кроме нас и Александра Федоровича никого не было.
Прощайте, милый папенька, до следующего письма. Будьте здоровы. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай Ч.
Милые дяденька и тетенька! Не знаю, напишет ли вам Сашенька с этою почтою: у него много занятий, и он все сидит в своей комнате, читает и пишет.
247
Очень обрадовался я тому, что, наконец, Ваше определение состоялось, милый дяденька. Дай бог, чтобы поскорее открылась в палате какая-нибудь вакансия с лучшим жалованием. Со следующей почтой напишу я к H. М. Кобылину.
Прощайте, милые мои дяденька и тетенька. Целую Вас. Ваш племянник Н. Ч.
Целую вас, милые сестрицы. Простите меня за то, что я почти никогда не пишу вам; я такой неаккуратный человек, что почти всегда приходится мне торопиться, чтобы не опоздать на почту. А если бы писать, то можно было бы сообщить вам довольно много интересных анекдотов из литературного мира. Целую вас. Будьте здоровы.
Целую тебя, милый братец Сереженька. Учись хорошенько, чтобы пользоваться общим уважением и любовью, как твой брат Сашенька.
Свидетельствую свое глубочайшее почтение своему милому крестному папеньке.
169
РОДНЫМ
2 ноября [1853.]
Милый папенька! Ваше письмо от 22 октября мы получили вчера. Слава богу, что Вы здоровы.
В четверг я писал Николаю Михайловичу Кобылину, благодаря его за определение дяденьки.
Дела мои подвигаются понемногу вперед. К концу месяца надеюсь окончить свой экзамен. Кое-что пишу для «Отеч. зап.» и «Спбургских ведомостей». Не знаю, что сделалось в Казани с бумагою, посланною обо мне из 2-го корпус; по моей просьбе посылают оттуда вторичное отношение о моем переводе. Впрочем, это очень для меня неприятно.
Просил я Александра Федоровича о деле братца Ивана Фотиевича. Он говорит, что в Синоде едва ли сделают что-нибудь, хотя чиновник, у которого в столе это дело, и обещался пересмотреть его. Но от этих чиновников не зависит дело, потому что «задержка не за Синодом». Просьбы в синод едва ли могут [иметь] какое-нибудь действие: Синод повторит свой прежний ответ. Так как дело за полициею, которая не хочет отыскать жены Ивана Фотиевича, то надобно было бы жаловаться на полицию губернатору. Полиция должна не только отыскать подсудимую, но взять с нее подписку не выезжать из Саратова до окончания дела; если полиция не сделала этого, то она виновата. Можно даже жаловаться на это министру внутренних дел; но такая жалоба, конечно, может оскорбить губернатора.
Мы все здоровы и благополучны. Прощайте до следующего письма, милый папенька. Будьте здоровы. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай Ч.
248
Целую ручку у своего крестного папеньки.
Александр Федорович свидетельствует Вам свое почтение.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
170
РОДНЫМ
9 ноября [1853 г.]
Милый папенька! Ваше письмо от 29 октября получили мы только вчера. Почта начинает много запаздывать.
Из Казани получен во 2-м корпусе ответ, что препятствий к переводу нет; теперь штаб в. уч. заведений снесся с министерством народн[ого] просв[ещения] о переводе моем.
Вчера просил я Плетнева о том, чтобы поскорее назначили мне экзамены. Уже наскучило мне ждать. Он обещался.
В Петербурге теперь интересуются более всего турецкою войною. Толкуют много, но достоверно известно только то, что печатается в наших газетах. Надобно отдать справедливость, что сведения, полученные правительством, скоро передаются в печать, и, читая газеты, можно составить понятие о ходе войны довольно верное. Разумеется, для этого надобно вникать и соображать самому.
Говорят о намерении государя ехать в Одессу для того, чтоб ближе быть к театру войны. Разумеется, что это еще не достоверно известно.
В самом Петербурге много новостей в театрах. Но мы в театрах почти не бываем (с самого приезда были только два раза); поэтому ничего не мог бы я сказать, если бы даже и интересовали вас эти новости. Что касается до меня, то мне эти толки ужасно надоели.
Погода стоит у нас прекрасная: начались холода, воздух чист, ни снегу, ни грязи нет еще (в Петербурге за снегом обыкновенно следует грязь).
Мы все, славу богу, здоровы, как нельзя лучше.
Сашенька был очень обрадован Вашим отзывом о его статье, милый папенька. Что касается до меня, я постараюсь последовать Вашему совету.
Не опасайтесь того, милый папенька, чтобы я изнурял себя излишнею работою. Конечно, я работаю, но столько, сколько позволяют силы. Жаль только, что я недостаточно боек для того, чтобы самому объяснять, что в моих работах хорошего: поверхностное образование многих из господ ценителей мешает им сразу понять, в чем дело; когда растолкуешь, только тогда они понимают.
Прощайте, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш
Николай Ч.
Целую ручку у своего крестного папеньки.
249
Милые дяденька и тетенька! Сашенька пользуется большим успехом в литературном мире; теперь он готовит огромнейший труд о русских драматических писателях XVIII века. Я не знаю, скоро ли окончит он его; а между тем он печатает в «Известиях академии» свой словарь к Новгородской первой летописи. Это выйдет еще не так скоро.
Прощайте, целую вас.
Целую вас, милые сестрицы.
Милый Сереженька! Скажи Карлу Васильевичу, что они могут вычесть из моего жалованья за Котошихина (если еще не отыскали его) и за Кольцова. Что же касается до II-го тома Пушкина, то я вышлю им его. Впрочем, надобно сказать им, что они вычитать не имеют права, не снесшись предварительно со мною.
Целую тебя. Будь здоров и учись хорошенько, чтобы скорее приезжать в Петербург.
171
РОДНЫМ
[16 ноября 1853.]
Милый папенька! Мы до сих пор еще не получали Вашего письма: так много стала запаздывать почта.
Вчера были у нас Александр Федорович и Иван Григорьевич. Они оба расположены к нам, и Олинька всегда рада им, между тем как другими гостями (которых, впрочем, бывает у нас очень мало) большею частью тяготится.
Иван Григорьевич сам хотел писать Вам, милый папенька, о деле братца Ивана Фотиевича. Успеха можно ожидать разве тогда, когда переменятся некоторые из лиц, которые уже привыкли видеть его с черной стороны. Он, впрочем, думает, что этой перемены надобно ожидать.
Не знаю, начнется ли ныне мой экзамен. Отправивши письмо, зайду узнать об этом в университет. Погода стоит у нас ясная и холодная, и петербуржцы в чрезвычайном восторге. Мосты на Неве разведены, и чтобы достичь на ту сторону, надобно нам обходить на новый мост (которого никак не привыкают звать его официальным именем Благовещенского).
Я тороплюсь из дому, потому что у меня довольно хлопот нынешнее утро. Прощайте же до следующего письма, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые мои дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
Целую руку у своего крестного папеньки.
Александр Федорович свидетельствует Вам свое почитание.
250
172
РОДНЫМ
23 ноября [1853 г.]
Милый папенька! Ныне же я увижу Ивана Григорьевича и покажу ему Ваше письмо, которое мы получили вчера вечером. Бедный братец Иван Фотиевич! Когда-то окончится его несчастное дело!
Дело о моем переводе почти кончено; я писал Вам об этом еще в прошедшем письме.
Экзамен мой начался бы неделю назад; но некоторых профессоров не успели предуведомить в тот день, когда было заседание факультета, и они не приехали на заседание; это было, конечно, досадно. Не знаю, ныне или в среду будет назначено другое заседание. Обыкновенно факультет собирается по понедельникам, но иногда и в другие дни.
В Петербурге погода стоит ужасно неприятная: идет то мелкий дождь, то мокрый снег, и сырость страшная.
Нового почти ничего не слышно; из армии уже с неделю или более нет никаких важных известий; кажется, теперь в придунайских землях время неблагоприятное для военных действий.
Александр Федорович и Иван Григорьевич свидетельствуют Вам свое почтение.
Прощайте, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш
Николай.
Целую руку у своего крестного папеньки и благодарю за то, что он помнит об нас.
Милые дяденька и тетенька! У нас есть к вам покорнейшая просьба: Сашенька живет вместе с нами, но одного Сашеньки мало; он почти весь день занят, точно так же, как и я. Мы просили бы вас позволить приехать к нам погостить на год или на полтора года которой-нибудь из сестриц, которой вы найдете удобнее ехать. Сашенька может написать вам, что у Олиньки характер хороший, так что с нею ужиться легко. Несмотря на то, что веселостей в нынешней жизни ее нет никаких, она, однако, почти всегда весела и жива, так что с нею жить не было бы и скучно. Что до нашего житья-бытья, то мы, разумеется, живем чрезвычайно скромно, — каждой копейкой мы должны дорожить; но нужды пока не терпим и, бог даст, не будем терпеть; следовательно, жить с нами довольно сносно. Притом же сестрица будет жить вместе с родным братом. Иван Григорьевич тоже может назваться родным, по своей привязанности, которая нисколько не ослабевает. Если можно, позвольте Вариньке, Евгеньичке или Полиньке приехать к нам. Мы с Олинькою были бы Вам чрезвычайно благодарны за это.
Целую вас, милые дяденька и тетенька. Ваш племянник Николай Чернышевский.
251
Милые сестрицы! Я прошу ту из вас, которой удобнее можно оставить Саратов, приехать погостить у нас. Вы не привыкли к веселостям и потому вас не остановит, что мы живем в Петербурге так же уединенно, как живете вы в Саратове. Но та из вас, которая приедет сюда, найдет у нас искреннее расположение и проживет все время в кругу людей, которые постараются, чтобы она не слишком скучала. Олинька нигде почти не бывает; у нее бывает также немного гостей и то изредка; стало быть, приехав сюда, наша гостья останется решительно в кругу своей семьи. Если можно, выберите от себя одну в посланницы и пришлите к нам. Которая из вас ни приедет, мы будем одинаково рады, потому что мы одинаково любим всех вас. Целую вас, милые сестрицы. Ваш брат, искренно вас любящий Н. Чернышевский.
173
РОДНЫМ
29 ноября 1853 г.
Милый папенька! Я очень обрадован тем, что Вы теперь несколько успокоены насчет моего перехода из Саратова в Петербург; приказ по военно-учебным заведениям о моем определении состоится, вероятно, скоро. Я постараюсь прислать его тогда Вам.
Наконец начался мой экзамен в прошедшую среду; следующее заседание факультета будет в понедельник 7 числа; весь устный экзамен состоит из трех заседаний по числу предметов экзамена. Я начал с главного, с русской словесности; остаются дополнительные — слав. наречия и русская история. Никитенко был так добр, что экзаменовал только для формы, и его экзамен продолжался не более четверти часа, с рассуждениями о посторонних предметах, например, с толками о различных анекдотах и об русском человеке вообще. Если Устрялов будет экзаменовать так же, то мой экзамен будет очень длинен в протоколах заседания, но не на самом деле. Впрочем, я готовился и готовлюсь больше, нежели предполагал и, вероятно, гораздо больше, нежели требовалось бы.
В ответ на Ваше письмо о маменьке Олинькиной, мне хотелось бы изложить и свое мнение об ней. Но я боюсь, что не сумею сделать этого, как должно. В разговорах об этом с женою, которая в самом деле много терпела от нее, я всегда оправдываю Анну Кирилловну и стараюсь показать Олиньке, что она сама была неправа очень во многом перед матерью, по крайней мере по наружности. Но в самом деле надобно признаться, что у Анны Кирилловны дурной характер и, что еще хуже, дурное сердце. Трудно судить семейные дела, но мне кажется, что в семейных раздорах между Сократом Евгеньевичем и ею виновата она: она их начала, и она их и поддерживает; Сократ Евгеньевич в сущности человек простой, благородный и с добрым сердцем; он, кажется, и теперь уступает ей во всем и старается поддерживать согласие, но никак
252
не может угодить ей, потому что она слишком любит капризничать, язвить человека и слишком самовластвует, прикидываясь страдалицей. Если она в самом деле больная женщина, то, конечно, болезнь может служить некоторым извинением. Но мне кажется, что в болезни ее больше притворства, нежели правды, как и во всем, что она говорит и чем старается казаться. Я с своей стороны пишу к ней постоянно и очень почтительно, как должно сыну; теперь она не должна бы иметь гнева ни на меня, ни на Олиньку, которая тоже держит себя в отношении к матери, как почтительная дочь.
Я не хочу говорить о других поступках ее, но скажу только, что Анна Кирилловна чрезвычайно язвительная женщина и виновата более, чем кто-либо, что об Олиньке говорили много пустяков: каждое необдуманное слово девушки, которая, разумеется, не понимала его важности, она разглашала, кому только могла, вместо того, чтобы посоветовать и предостеречь дочь, вместо того, чтобы растолковать ей, почему не годится так говорить. Олинька была просто живая и веселая девочка, которую легко было уговорить и удержать, если она сделала что-нибудь опрометчиво по своему простосердечию; Анна Кирилловна старалась бесславить ее, как будто бы в самом деле не могла понять, что детская шалость вовсе не то, чем угодно было выставлять эту шалость родной матери. Жаль теперь мне, что я не остался подольше в Саратове после свадьбы, чтобы Вы, милый папенька, побольше познакомились с добрым и чистым сердцем своей новой дочери. Я не знаю, много ли можно найти таких чистых, простодушных, кротких сердец, какое у Олиньки. Всякий, кто узнает ее, полюбит ее; а мать была каким-то злым и злоязычным ее врагом.
Я не умею обращаться с людьми; однако без всякого труда достиг до того, что Олинька поняла, что было в ее словах и поступках слишком живого, неосмотрительного, и теперь она держит себя так, что дай бог так держать себя хоть самой строгой Анне Кирилловне. Мать должна была бы быть руководительницею, а не врагом дочери из-за злобы на мужа, который любил дочь, но по своей невнимательности и рассеянности не мог руководить ею. Я не стал бы говорить обо всем этом, не стал бы припоминать глупых пересудов и сплетней, если б они не наделали, может быть, очень много горя Вам, милый папенька. Но мы когда-нибудь — через год, через полтора года, постараемся приехать погостить в Саратов, и тогда Вы увидите, милый папенька, что такой доброй и искренно привязанной жены, как Олинька, нескоро можно встретить.
Прощайте, милый папенька. Целую Вашу ручку. Сын Ваш
Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки.
P. S. Будьте уверены, милый папенька, что я пишу об этом только в ответ на Ваше письмо и что я не питаю никакого враж-
253
дебного чувства к Анне Кирилловне, тем менее имею охоты с нею ссориться или быть непочтительным к ней; хотя, признаюсь, искреннего расположения нельзя иметь к таким людям, если жить с ними в одном городе, потому что при каждом свидании они будут начинать свои язвительные упреки и оскорблять своими разговорами. Но — хороша или нехороша, а я не хочу забывать, что она мне теща.
30 ноября.
Милые дяденька и тетенька! Поздравляю Вас с именинницею, именин которой Вы уже давно не праздновали вместе с нею, кроме, кажется, третьего года, когда она жила у Вас в Аткарске.
У нас, кажется, нет никаких интересных новостей; Сашенька много занимается, как и всегда; иногда пишет решительно целый день. Теперь он приготовляет к печати свой словарь к новгородским летописям; сочинение это будет довольно велико, вероятно, около десяти печатных листов.
Прощайте, милые дяденька и тетенька. Целую Вас. Ваш племянник Н. Чернышевский.
Поздравляю тебя, милая Варинька, со днем твоего ангела. Прости нас великодушно, что мы не приготовили тебе никакого подарка: Олинька очень желала бы послать тебе шляпу, но у нас с нею теперь решительно нет свободных денег. На следующий год мы надеемся не быть так неисправны. Прощай, будь здорова. Целую тебя. Искренно любящий тебя брат Николай Ч.
Целую Вас всех, милые мои сестрицы и братцы и поздравляю с именинницею.
174
РОДНЫМ
7 дек[абря 1853 г.]
Милый папенька! Вашего письма, которого ждали мы вчера, не привезла еще почта; вероятно, замерзание рек причина медленности.
Вчера у нас были только Иван Григорьевич и Александр Федорович. Они свидетельствуют Вам свое глубочайшее почтение.
Простите меня, что я так мало пишу: нынешний день я не имею ни минуты свободного времени, по случаю своих экзаменов в университете.
Прощайте до следующего письма, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братец Сереженька.
Свидетельствую мое почитание всем родным и знакомым и целую руку у своего крестного папеньки.
254
175
РОДНЫМ
14 [декабря] 1853 г.
Милый папенька! Не знаю, чем заслуживаю я Вашей любви, которая прощает мне все огорчения, какие я нанес Вам своею опрометчивостью, необдуманностью, неблагоразумием. Много я виноват перед Вами, милый папенька, и никогда не перестану горевать о своих проступках; то, что Вы так добры ко мне, только увеличивает мое раскаяние: не стоил бы Ваш недостойный, неблагодарный сын Вашей любви. Когда-то я буду, вместо огорчений, доставлять Вам удовольствие! Но, может быть, и этим самым я огорчаю Вас.
На прошлой неделе получили мы два письма Ваши: от 27 ноября и 4 декабря и посылку с платьями для Олиньки и платками для нас. Благодарю Вас, милый папенька, за Вашу доброту к нам. Олинька очень обрадовалась платьям, а я несколько и поплакал тихонько, глядя на одно из них. Сашенька и Иван Григорьевич благодарят Вас за прекрасный подарок. Такого платка, какой прислали Вы мне, никогда у меня не было еще, и Олинька хочет мне давать его только в самых торжественных случаях.
Был у меня еще один экзамен, из русской истории. Еще два (из славянских наречий и из истории русского языка — главный предмет, словесность, здесь делится на два экзамена: история русской литературы и история русского языка) остается, а по недостатку времени они отложены до генваря. Эти экзамены, я думаю, будут также больше только формальностью, нежели, серьезными экзаменами. Впрочем, для меня все равно готовиться на всякий случай необходимо, и они отнимают много времени. До сих пор все господа экзаминаторы были ко мне очень добры, так что я не могу не быть им благодарен. Не знаю, что будет дальше.
Я плохо умею действовать в свою пользу, иначе мог бы устроить уже давно свои дела довольно порядочно. Но и без моей помощи они мало-помалу устраиваются, хотя, признаюсь, медленно. Так экзамен свой думал я окончить в ноябре, а он протягивается до генваря, а если считать защищение диссертации, то протянется и до февраля. Точно то же и в литературе. Я, если б умел вести дела, как должно, мог бы играть главную роль если не в «Отеч. записках», то в «Петербургских ведомостях»; а теперь играю роль довольно еще неважную. Но — что же делать с моим вялым характером и, главное, с излишнею застенчивостью? Надеюсь, однако, что если не успел выказать себя в таком виде, как мог бы, то, по крайней мере, не выказал себя и с особенно дурной стороны, и что если Краевский теперь считает меня человеком, которому можно поручать что-нибудь, то через несколько времени будет и дорожить моим сотрудничеством. Пишу я довольно много, но печатается это все медленно, потому что ограничение числа
255
листов (книжка журнала не может иметь более 30 листов) беспрестанно заставляет откладывать статьи от одного месяца до другого. Так, напр., статья Перевощикова об Араго, помещенная в нынешней книжке «Отеч. записок», была набрана еще для прошлой книжки.
В журнальном мире, как и везде, есть свои сплетни и дрязги; но их не так много, как можно ожидать, и если случаются промахи против справедливости, то гораздо чаще это непроизвольные ошибки, нежели умышленная несправедливость. Но я слишком заговорился о журналистике, в которой до сих пор я лицо еще незаметное. Что до служебных моих видов, не умею сказать Вам ничего определенного. Удастся ли мне занять место по министерству народного просвещения, видно будет по окончании экзамена; оттого-то мне и хотелось бы окончить его поскорее. Я согласен с Вами, милый папенька, что служба — главное; по своему характеру и тут пропускаю очень много случаев, которыми мог бы воспользоваться.
Поздравляю Вас с наступающим праздником и с... но лучше не буду писать. Прощайте, будьте здоровы, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки. Поздравляю его с праздником.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и поздравляю с именинницею, а тебя, милая Евгеньичка, со днем твоего ангела. Целую вас, милые сестрицы Варенька и Полинька, и тебя, милый Сереженька.
176
РОДНЫМ
21 декабря [1853 г.]
Милый папенька! Ваше письмо от 11 декабря мы получили вчера. Слава богу, что вы несколько успокоились за меня. Теперь я боюсь, чтобы Вас опять не привела в сомнение отсрочка моих экзаменов до генваря; но я Вас уверяю, что в этом нет ничего неблагоприятного для меня; до сих пор мой экзамен был более формою, нежели серьезным экзаменом, и потому не могло случиться никакой неприятности. Я надеюсь, что и продолжение его не будет иметь ничего неприятного. Отложено окончание его до января единственно потому, что в заседаниях (двух) факультета было слишком много других дел.
Приказ по штабу военно-учебных заведений состояться должен в конце декабря. Так долго тянется это дело потому, что идет через инспекторский департамент военного министерства. Я уверяю Вас, милый папенька, что беспокоиться и тут не о чем.
К празднику Олинька взяла себе фортепьяно напрокат, пока
256
соберемся с деньгами купить; купить можно было бы; но мне хочется, если покупать, то покупать хороший инструмент.
Олинька здорова и мало-помалу привыкает к нашему образу жизни.
Scis, credo, ex ejus patre, gravidam eam esse. Nunc certum est quod prius tantum credendum erat. Bene se habent omnia, ut feminae ejus rei peritae ajunt, ut nullus sit locus aliquid nisi bonum expectare. Partus credimus futures mense Martio ineunte, non Ianuario, ut fortasse pater ejus credit. Sit deus propitius*.
Прощайте, до следующего письма, милый папенька. Честь имеем поздравить Вас с наступающим новым годом и желаем, чтобы Вы провели его в здоровьи. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки и имею честь поздравить его с Новым годом.
Поздравляю вас с Новым годом, милые мои дяденька и тетенька, и желаю вам встретить и провести его в здоровье и благополучии. Целую вас.
Ваш племянник Н. Чернышевский.
Целую вас, милые сестрицы и братцы.
177
А. К. ВАСИЛЬЕВОЙ
[Конец 1853 г.]
Милая Анна Кирилловна, Вы обещали помочь нам, когда понадобится, — позвольте мне попросить у вас 1 000 руб. сер. года на два, пока мои дела совершенно устроятся.
Теперь я получаю в месяц рублей около 100 сер., но это началось недавно, всего с сентября; до того времени мы должны были жить на ваши деньги; но это было еще ничего, — главное, обзаведенье в Петербурге стоит очень дорого и при нашей неопытности обошлось нам, может быть, дороже, чем обошлось бы другим. Мне хотелось бы купить для Оли, которая здесь снова получила любовь к музыке, хорошее фортепьяно, а у нас недостало на это денег, кроме того нужно завести к зиме еще несколько вещей и, наконец, мне хотелось бы начать издавать задуманную мною «Историю всеобщей литературы». Надобно издать только 1 том, он окупит себя: даст возможность продолжать издание и принесет еще некоторые выгоды. Чтоб книга имела и вид почтен- ный, нужно издавать томы большие, у меня такой расчет: издать 1 том листов в 40 печатных (640 страниц); он будет обнимать литературу азиатских народов, греческую и римскую литературу; я думаю напечатать в числе 800 экз.;
набор и печатанье по 12 р. сер. за лист — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 р.сер.
корректуру буду держать сам.
бумаги (около 70 стоп по 3 р. сер.) — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 р. сер.
переплетчику за сшиванье экз. — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . около 60 р. сер.
———————————————
Всего 750 р. сер.
Мне предполагается, что 600 экз. разойдутся меньше чем в полгода; цену можно положить по 2 р. 50 к. за том; со сбавкою 10 процентов книгопродавцам я буду получать по 2.25 и за 600 экз. получу 1 350 р. Это даст мне возможность издать 2 том и кроме того даст выгоды рублей — 500 р., считая 100 р. сер. на мелкие расходы по изданию.
Все издание я предполагаю сделать из 4 томов и предполагаю окончить его в течение 2½ лет. Выгоды от него надеюсь получить — если разойдется около 600 экз. — около 2 000 р.; если же издание будет иметь более успеха, чем теперь предполагаю, и если будет расходиться, например, около 800 экз., то выгоды будет около 4 000 рублей. Главный расчет мой на то, что разойдется 600 экз., основан на том, что история всеобщей литературы теперь вводится в гимназический курс; предполагая на каждую гимназию по 5 экз., получим для 60 гимназий около 300 экз. История всеобщей литературы вводится также и в военно-учебные заведения — для 20 корпусов остается еще 100 экз.
178
РОДНЫМ
8 марта 1854 г.
Милый папенька! В пятницу, 5 марта, в 3 часа пополудни, бог дал Вам внучка. Олинька назвала его Сашею. Пока, слава богу, и мать, и малютка здоровы. Олиньке хочется крестины сделать в день своего рождения, 15 марта.
Все эти дни прошли в больших хлопотах у нас.
Потому я так мало и пишу Вам, что решительно некогда.
Целую Вашу ручку, милый папенька.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
258
179
Н. Д. и А. Г. ПЫПИНЫМ
[Июнь 1854 г.]
Милые дяденька и тетенька! Сашенька скоро собирается ехать в Саратов. Он очень [со]скучился по вас. Может быть, не будет ему неприятно и пощеголять в провинциальной глуши в качестве ученого, каких в Саратове еще не бывало. Здесь он действительно начинает играть роль ученого человека. Дай бог ему еще больше счастья впереди, чтобы вы могли радоваться на него.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые братцы и сестрицы.
180
М. И. МИХАЙЛОВУ
Не будучи уверен в рыцарской неизменности вашего слова (начинаю согласно вашему мнению о мне бряцанием), данного вчера, захожу, чтобы возобновить требование о его исполнении. [Если (?)] вы не найдете [в себе (?)] столько непоколебимости] данному обещанию, чтобы сдержать его ныне, т. е. в субботу, то приезжайте, по крайней мере, завтра, с тем чтобы остаться на понедельник. Ольга Сократовна просит вас непременно быть у нее на именинах, т. е. 11-го числа, и остается в непременной уверенности, что вы будете послушны в этом случае.
Автограф этот, писанный кровью, можете [сохра]нить в своем [собра(?)] нии.
До свидания.
Ваш Н. Чернышевский.
9 июля [1854 г.]
P. S. По своему обыкновению попользоваться чужим добром я выкурил вашу папиросу.
181
РОДНЫМ
[18 июля 1854 г.]
Милый папенька! Ваше письмо от 7 июля мы получили третьего дня. Как неприятны для Вас все эти странные распоряжения Анны Кирилловны! И почему бы ей не делать просто без всяких неприятностей для других.
Мы все здоровы. День Ваших именин, милый папенька, провели почти так же, как и Олинькиных. Благодарю Вас, милый папенька, за Вашу посылку. Не знаю, успел ли Н. Д. Скинотворцев доехать до Саратова к 13 июля, как этого надеялась и желала Олинька.
Иван Григорьевич ныне большею частью живет на даче и в городе остается на сутки только тогда, когда у него наберется
17*
259
слишком много дел к следующему дню. Потому с ним видимся мы не более раза в неделю, иногда и реже. Теперь он, как и всегда, живучи на даче, несколько пополнел; вообще он мало переменился, и на лицо кажется моложе Александра Федоровича. С Ал. Федоровичем видимся мы чаще. Он свидетельствует Вам свое почтение. На следующее лето он собирается в Саратов и, вероятно, поедет, потому что он умеет предполагать только то, что действительно выполняется.
Погода у нас начинается петербургская. Вчера, например, мы с Олинькою выехали за город, рассчитывая на ясный день; дорогою упало несколько капель дождя на наш зонтик; но когда мы приехали на место, было уже опять ясно.
Прощайте, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш
Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы. Сашенька, вероятно, передал уже вам нашу покорнейшую просьбу, чтобы, если только возможно, Варинька приехала сама или прислала вместо себя Евгеньичку или Полиньку к нам. Если можно, приезжайте кто-нибудь из милых сестриц — мы будем каждой из вас совершенно одинаково рады.
Милый Сашенька, напиши, когда ты думаешь в (Саратов какова рассеянность) Петербург. Это я спрашиваю между прочим, чтобы спросить еще, не постараться ли удержать за тобою составление «Иностранных известий» для «Современника»? Цена 25 р. сер.; объем 1½ — 2 листа, круглым числом 40 р. сер. в месяц. В июле эта статья моя, в августе тоже будет моя, но последняя; по обстоятельствам я должен оставить это (nämlich ich habe zu schreiben diesselbe für «Отеч. зап.», welches Journal giebt nur 20 r. s., aber hat 4 Bogen ergo fiir mich vortheilhafter ist)*. Некрасов человек в сущности хороший; деньги они платят не в данное число, как А. А. Краевский, но в течение месяца непременно уплачивают, и пропасть за ними деньги не могут. Если ты приедешь к концу августа и захочешь это взять — из не доставляющих славы журнальных работ это самая приятная — то я скажу Некрасову, который, верно, будет рад. Из английских материалов у них the Athenaeum и Jllustrated London News. Остальные франц. и немецкие. Если хочешь взять, то напиши поскорее, я буду ждать ответа к субботе, которая будет в первых числах августа, т. е. 7, если не ошибаюсь — а если бы ты успел послать ответ с первою почтою, т. е., вероятно, 27 июля, и получил бы его 4 числа, это было бы вернее. Если бы ты хотел взять это дело, но приехать думал бы не раньше сентября, это было бы еще ничего; сентябрьский нумер можно было бы как-нибудь устроить.
182
РОДНЫМ
9 августа 1854 г.-
Милый папенька! Ваше письмо от 30 июля мы получили в субботу. Слава богу, что у нас и в Саратове, и здесь все благополучно. Мы все здоровы. Вы, милый папенька, напрасно обеспокоивались слухами о болезни малютки. Он был здоров во все это время, кроме тех нескольких дней, когда у него была оспа — время, в которое дети всегда несколько тоскуют. Если Олинька писала к Анне Кирилловне о том, чем лечить малютку в том или другом случае, то она писала это не по необходимости лечить его в настоящее время, а просто для того, чтобы быть опытнее на всякий случай. Вообще малютка мальчик здоровый и веселый, и надобно только желать, чтоб он вырос так же хорошо, как рос доселе.
В Петербург приехал Воронов с сыном, он был у нас, и я собираюсь побывать у него ныне.
Мы на-днях переменяем квартиру; вероятнее всего, что будем жить на Знаменской улице, в том месте, где она пересекается Итальянской. Это недалеко от железной дороги. Выбираю это место потому, что оно для меня всего удобнее. В корпусе я бываю в определенное время, и внезапных надобностей не бывает по этим занятиям. А по работе в «Отеч. записках» надобно иногда спешить, чтобы увидеться с Краевским, который живет около этих мест. Потому следующее письмо я прошу Вас, милый папенька, адресовать на имя Ивана Григорьевича в первый департамент министерства государственных имуществ с передачею.
В следующем письме своем я напишу новый свой адрес.
Прощайте, милый папенька, целую Ваши ручки. Сын Ваш
Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы. Повторяем вместе с Олинькой свою усерднейшую просьбу отпустить, если только возможно, с Сашенькою одну из сестриц к нам. Мы во всяком случае займем такую квартиру, что всем удобно будет поместиться. И я и, тем более, Олинька, будем чрезвычайно рады, если которой-нибудь из вас, милые Варенька, Евгеньичка или Полинька, можно будет жить вместе с нами. Прощайте, целую вас.
Милый Сашенька! Занятый приисканием квартиры, я совершенно провинился перед тобою — не успел быть ни разу за городом. Еду завтра к Срезневскому и Никитенке. Это уже окончательный срок, в который исполню все твои поручения.
261
Квартира, на которую думаю теперь переходить, расположена так.
Здесь можно будет расположиться удобно

Прощай. Целую тебя.
183
РОДНЫМ
16 августа 1854 г.
Милый папенька! Ныне у нас храмовой праздник; вероятно, служит преосвященный, и торжество великолепно и хлопотливо для Вас. Я собирался свозить Олиньку в здешнюю Сенновскую церковь Нерукотворного образа; но теперь идет дождь, и наша поездка не состоялась.
Сюда приехал А. И. Воронов и раза два или три был у нас. Вчера и мы с Оленькою ездили к нему в гости. Он думает прожить здесь еще по крайней мере неделю. В Саратове я его знал очень мало; теперь он мне показался хорошим человеком.
На-днях был в Петербурге ужасный пожар, какого не бывало лет тридцать или более. К нашему счастью, это было на другом конце города, в Измайловском полку. Пожар продолжался целые сутки; выгорело все пространство между 6-ою и 1-ою ротами Измайловского полка, длиною около версты, шириною также едва ли менее. Считают, что сгорело до 130 домов, если не более.
В этот же самый вечер был другой страшный пожар на Гутуевском острове в устьях Невы. Спешу прибавить, что тот и другой пожар были от нас на расстоянии шести или восьми верст, и, следовательно, мы не могли нисколько беспокоиться лично за себя. Но сколько сот или тысяч людей разорены теперь! В пример можно указать на убытки нового саратовского вице-губернатора, Дурново, квартира которого не сгорела, а только была в опасности — он потерял вещей и т. д. на 2 000 р. сер. при поспешной переноске и всеобщей суматохе.
Губернатор, назначенный в Саратов на место М. Л. Кожевникова, уже выехал в Саратов, как сказывал Воронов, представлявшийся ему.
Прощайте, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш
Николай.
262
Целую ручку у своего крестного папеньки и свидетельствую свое глубочайшее почитание Алексею Тимофеевичу.
P. S. Счет Шмиздорфа послан в Саратов действительно по ошибке, как это объяснилось при моем последнем посещении.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы. Извини меня, мой друг Сашенька, что я до сих пор не посылал «Отеч. записок», они были необходимо нужны мне для справок. Если ты выедешь из Саратова около 25 числа, то это будет последнее письмо, которое ты получишь в Саратове. Поздравляю же тебя заранее с днем твоего ангела. Пожалуйста, живи в Москве не так долго, как ты грозишь. Мы очень соскучились о тебе, кузя, конечно, более, нежели я, а я более, нежели ты можешь вообразить. Да пиши, пожалуйста, и из Москвы, чтобы мы могли известить тебя о новом нашем адресе. Твой Н. Ч.
184
А. Н. ПЫПИНУ
[Август 1854 г.]
Милый братец Сашенька, получив от тебя столь лестное для моего самолюбия письмо, я должен был бы в ответ написать тебе чистую истину о твоей известности. Но по обыкновению тороплюсь и потому прямо перехожу к деловым объяснениям. Diese Woche ich war mit der Arbeit überladen. Dann bei Hrn Nekrasoff; darum konnte ich unmöglich nach Lesnoj Korps reisen*. Но теперь я собираюсь в первый ясный день к Никитенке и Срезневскому и исполню — как можешь ты ожидать от столь вялого исполнителя — все твои поручения.
Квартир я смотрел множество; удобных мало, всего три или четыре в целом округе между Невским, Фонтанкою, Грязною и до Свечного переулка. В Свечном переулке есть одна, на которую я перееду, если еще не заняли ее в двое суток, прошедших после моего обозрения. Вот план ее:
* 
Это очень удобно. От милятятьки мы будет отделены залою; в наши комнаты в каждую отдельный ход; сообщения между ними нет, и ты можешь быть спокоен от меня. Если не эту, то займу другую подобную. А эта на углу Свечного переулка и улицы, идущей ближе к Фонтанке, нежели Грязная.
Прощай. Целую тебя. Олинька очень много «хохотала», читая твое письмо. Пиши же нам. Твой Н. Ч.
185
РОДНЫМ
23 августа 1854 г.
Милый папенька! После долгих поисков и колебаний в выборе мы, наконец, перешли на другую квартиру, более удобную при настоящем составе нашего семейства. На прежней жить было неудобно потому, что мы с Сашенькою должны были тесниться в одной комнате, причем один мешал занятиям другого. Теперь мы будем жить на такой квартире, где у каждого будет своя особенная комната. Вот расположение.
Зал очень хорош и велик; Олинькина комната также очень хороша; наши с Сашенькою удобны для нас. В двух... (недописано. — Ред.) Квартира находится в первом этаже, над подвальным этажом, где находится наша кухня, другие кухни и т. д.

Адрес наш теперь — у Владимирской церкви, в Хлебном переулке в доме Диллингсгаузена.
Квартира хороша, но и цена ее дорога для нас — 350 р. сер. в год, с платою за треть вперед. К счастью, у нас теперь случились деньги, так что мы могли исполнить последнее условие; потом это будет уже нетрудно: в четыре месяца можно будет всегда собрать нужную сумму.
264
Почему я перешел к Владимирской, Вам, вероятно, объяснил уже Сашенька. В корпусе я бываю в определенное время, экстренных случаев тут не бывает, а по журнальной работе беспрестанные свидания, посылки корректур, книг и т. д. Потому я и решился приблизиться к центру этой деятельности, особенно к Краевскому, которому я много обязан в последнее время. Его квартира в нескольких шагах от нынешней моей квартиры. Кроме того, здесь будет гораздо удобнее жить и для Сашеньки.
Что касается до поездок в корпус, то по Невскому проспекту до самого почти здания корпуса ходят омнибусы, плата в которых 10 коп. сер., следовательно, сообщение удобно.
Олинька, слава богу, здорова; малютка также.
Но довольно говорить о себе. Ваше последнее письмо, милый папенька, было так кратко, что заставило меня беспокоиться, не случилось ли чего-нибудь. Несколько успокоило меня только то, что вместе с этим письмом было получено нами письмо к А. И. Воронову, который прочитал его при нас: тут перечисляются все саратовские новости, и о нашем семействе нет ничего, стало быть, все благополучно. Но, несмотря на эти соображения, я все буду беспокоиться, пока не получится Ваше следующее письмо.
Прощайте, милый папенька, до следующей почты. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
Целую Вас, милые дяденька и тетенька, и поздравляю с именинником; я должен думать по его письму, что он будет уже в дороге, когда Вы получите это письмо; но неужели он не отпразднует своих именин с Вами вместе!
Целую вас, милые сестрицы и братцы.
Свидетельствую свое глубочайшее почитание милому крестному папеньке.
186
РОДНЫМ
30 августа 1854 года.
Милый папенька! С переездом нашим на новую квартиру должно было замедлиться доставление нам Ваших писем. Поэтому были бы мы совершенно спокойны, что не получали до сих пор Вашего письма, которого следовало ждать еще в субботу, если бы не тревожила нас Ваша загадочная причина в последнем письме, слишком кратком и уже по одному этому неуспокоительном: «Отчего пишу так мало, узнаете из следующего письма».
У меня в мыслях бог знает какие сомнения; предполагаю сам, что они неосновательны и, между тем, не могу быть спокоен. Уж не случилось ли у нас чего-нибудь, боже сохрани? Если б не беспокоили меня эти опасения, я теперь был бы совершенно доволен всем окружающим.
265
Именины вашего внучка мы праздновали с таким многочисленным собранием гостей, какого не бывало еще у нас с самого приезда в Петербург. Были Иван Григорьевич, Александр Федорович, мой приятель Михайлов, двое братьев Олиньки и, наконец, Воронов с сыном — семь человек гостей! Этого у нас еще никогда не было. Время прошло, кажется, для Олиньки довольно приятно, хотя и хлопотливо.
И она и наш малютка-именинник совершенно здоровы. Где-то теперь другой именинник, мой братец Александр Николаевич? Был ли он с Вами на свои именины или странствовал между Петербургом и Москвою?
Воронов, который довольно часто посещал нас во время своего житья в Петербурге, уезжает во вторник или в среду и около 10 или 12 сентября должен приехать в Саратов. Он ужасно соскучился в Петербурге. Он рассказывал нам, что новый саратовский губернатор отправился уже с неделю тому назад, а вице-губернатор Дурново едет во вторник. Воронов обещался побывать у Вас.
Прощайте, милый папенька, до следующего понедельника. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
Милые дяденька и тетенька! Поздравляю вас с дорогим именинником, в честь которого более, нежели в честь нашего маленького Саши, Олинька праздновала нынешний день. Желаю только, чтоб он служил Вам и впредь таким же утешением, как был до сих пор. Прощайте, целую Вас. Н. Ч.
Целую также и вас, милые сестрицы и братцы. «Отеч. записки» посылаются вам с Вороновым. Извините, что я так долго задержал их, мне они были очень нужны.
187
РОДНЫМ
7 сентября 1854 г.
Милый папенька! Последнее из полученных нами от Вас писем совершенно успокоило меня относительно краткости предыдущего. Я всегда был против излишней наклонности к беспокойству, но теперь сам стал так беспокоиться за все, почти без всякого основания, по малейшему поводу, что я не знаю, чего мне ни приходило в голову.
Воронов уехал в пятницу. По его отъезде я узнал, что он даже [не] потрудился побывать у Вас перед поездкою в Петербург. Это не совсем вежливо, тем более, что здесь была ему во мне некоторая надобность.
Точно так же не совсем хорошо поступили некоторые другие саратовцы, недавно бывшие здесь, не побывав ни у Вас перед отъездом из Саратова, ни у нас здесь, чтобы сказать о Вас.
266
Прощайте, милый папенька. Олинька не пишет потому, что, просидев довольно долго вчера с Сашенькою, еще не проснулась. Она успела только с вечера еще приготовить конверт.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Милые дяденька и тетенька! Сашенька обрадовал нас приездом своим вчера, в воскресенье 5 числа. Он доехал жив и здоров, как поехал из Саратова; но, живучи в Саратове, он против общего правила уезжающих из Петербурга на лето, не пополнел нисколько, а возвратился точно таким же, как уехал.
Олинька чрезвычайно обрадовалась ему, и у них начались такие сердечные обнимания, перед которыми наша с ним встреча была очень бледна.
Жаль только, что он не мог взять с собою ни одной из вас, милые сестрицы. Тогда наша радость была бы гораздо полнее.
Олинька в восторге от прекрасного подарка, сделанного ей тобою, милая Евгеньичка, и удивляется твоему искусству. В следующем письме она, вероятно, напишет это сама.
Прощайте. Целую вас. Н. Чернышевский.
188
РОДНЫМ
14 сентября 1854 г.
Милый папенька! Вы справедливо находите, что мы платим за квартиру очень дорого по нашим средствам. Но дешевле мы никак не могли приискать, хоть я занимался этим очень долго. Квартиры здесь удивительно дороги и дорожают едва ли не с каждым годом. Так, например, хозяйка, т. е. прежняя наша, уверяет, что теперь не отдаст квартиру, оставленную нами, не повысив цены. Между тем, новые дома строятся беспрестанно. Так, напротив нас растет новый дом и буквально не по дням, а по часам. Когда мы перешли, 20 августа, еще только доканчивали фундамент. Теперь готовы два этажа, и закладывают уже третий. Та ким образом стены трехэтажного дома будут готовы в течение месяца с небольшим.
Воронов теперь должен быть уже в Саратове, и если он не совершенно невежлив, то, конечно, побывал уж у Вас и рассказал о нашем житье.
В Петербурге новостей нет решительно никаких, кроме известных и Вам из газет.
У Ивана Григорьевича был я вчера. Он свидетельствует Вам свое почитание. Александр Федорович также.
С неделю тому назад случилось страшное происшествие: в одной булочной попал в муку мышьяк, приготовленный для мышей. Более ста человек были опасно больны, отравившись этим хлебом. Для большей части прошли припадки благополучно, бла-
267
годаря медицинской помощи. Но некоторые умерли, например, Голохвастов, директор банка: доктор, приняв рвоту от мышьяка за холерический припадок, остановил ее, и таким образом яд остался в желудке. Но большая часть занемогших отделались двумя или тремя днями страданий.
Дело о моем магистерстве, так несносно тянувшееся, опять подвигается: скоро начну печатать свою диссертацию. Из этого не следует, однако, чтобы конец был уже близок; хорошо было б, если б диспут был назначен через два месяца. Я на это не рассчитываю и сочту себя счастливым даже тогда, когда это несносное дело покончится к рождеству. Все обращаются с ним, как бы это была одна формальность, но легче ли оттого мне, что, не думая подвергать дела сомнению, оставляют его лежать от одной недели до другой?
Прощайте, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш
Николай.
Целую ручку у своего крестного папеньки.
Целую Вас, милые тетенька и дяденька, и Вас, милые сестрицы и братцы.
189
РОДНЫМ
21 сентября 1854 г.
Милый папенька! Ваше письмо от 10 августа мы получили в субботу 18-го. Славу богу, что все у нас в Саратове так же благополучно, как и здесь в Петербурге.
Путешествие с преосвященным, которое предстоит Вам, конечно, не совсем для Вас приятно, потому что соединено с хлопотами и беспокойством. Но, вероятно, оно будет непродолжительно, как и всегда бывало: мы рассчитываем, что не более двух недель останемся без писем от вас. Мы с своей стороны будем писать аккуратно.
Дело о моем магистерстве приближается к окончанию, как я, может быть, уже и писал Вам. К зиме, вероятно, оно окончится. Если бог даст и университетские мои старые знакомые будут думать обо мне попрежнему, то по истечении годичного срока немедленно приступлю к докторскому экзамену, который, однако же, потребует от меня несколько занятий, не так как магистерский, который не стоил мне никаких забот, хоть и тянется чрезвычайно долго.
У нас был на-днях Д. Р. Китаев, наш староста церковный. После того я заходил к нему, но не застал его дома. До отъезда хотел он побывать у нас еще раз, если только позволит ему время.
Кроме этого, едва ли есть что-нибудь новое у нас. Под конец месяца я более бываю занят, нежели когда-нибудь, и потому никого и ничего не вижу. В начале месяца, по окончании работы, позволяю себе отдыхать несколько дней.
268
Потому не виделся я на этой неделе ни с Иваном Григорьевичем, ни с Александром Федоровичем. Последний, впрочем, был у нас, но не застал меня дома. Он свидетельствует Вам свое почитание.
Прощайте, милый папенька, до следующей почты. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай Ч.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
190
РОДНЫМ
28 сентября 1854 г.
Милый папенька! Мы все, слава богу, здоровы; Ваш внучек становится мальчиком довольно забавным и смыслящим; он растет быстро и хорошо. Олинька не нарадуется на него и беспрестанно объясняет мне, как он хорош и умен. Дай бог, чтобы так было. Сама Олинька здорова и все больше и больше привыкает к петербургскому образу жизни.
Моя диссертация теперь отдана уже переписчику для представления в совет университета. Никитенко, наконец, удосужился прочитать ее и несколько дней тому назад уполномочил члена пустить ее в дело.
Китаев еще здесь, его дело тянется со дня на день, и он, при каждом свидании говоря, что уедет, может быть, на другой день, до сих пор еще не знает, когда же, наконец, можно будет ему уехать.
Прощайте, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш
Николай.
Целую ручку у своего милого крестного папеньки.
Свидетельствую свое глубочайшее почтение Алексею Тимофеевичу.
Вам свидетельствуют свое почитание Иван Григорьевич и Александр Федорович.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и поздравляю вас с именинницею, а тебя, милая Полинька, с днем твоего ангела. Целую вас всех, милые сестрицы и братцы.
191
РОДНЫМ
5 октября 1854 г.
Милый папенька! Ничего или почти ничего нового не случилось в нашей жизни, и мы попрежнему должны только написать Вам, что мы все живы и здоровы.
Д. Р. Китаев ныне или завтра собирается уехать отсюда; он был у нас раза три и довольно хорошо видел наше житье-бытье.
269
На улице встречал я также Парусинова, вместе с которым думал выехать Китаев.
Погода в Петербурге теперь стоит очень хорошая: довольно тепло и совершенно ясно. Я хотел бы, чтобы настало поскорее несколько холодных дней, которые показали бы, какова будет зимою наша квартира, которою до сих пор мы довольны.
Иван григорьевич был у нас на этой неделе: у него вообще очень много занятий по службе, так что нередко случается ему просиживать по две и по три ночи сряду за бумагами. Потому-то и мы с ним видимся не чаще четырех или пяти раз в месяц. Он свидетельствует Вам свое почитание.
Прощайте, милый папенька, до следующего вторника. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
Милый дяденька! Сделайте милость, вышлите нам паспорт для Марьи и Анны. Срок их прежнему билету кончился еще третьего дня, и чем дольше будет просрочка, тем больше будет мне хлопот с нею. Вот приметы их:
Лета 49 и 19.
Рост — 2 арш. 3 в. и 2 арш. 2 вершка.
![]() Волоса темнорусые
Волоса темнорусые
у обеих
Глаза карие
Сделайте милость, потрудитесь выслать им паспорт, чем скорее, тем больше я буду Вам благодарен.
Целую вас, милые дяденька и тетенька.
Целую также вас, милые братцы и сестрицы. Ваш Н. Ч.
192
РОДНЫМ
10 октября 1854 г.
Милый папенька! Ваше письмо от 1 октября мы получили 8-го. Слава богу, что у нас в Саратове все благополучно. Мы здесь также здоровы.
Вчера был у нас офицер Саратовского батальона Веденяпин, который привел сюда партию. Я с ним довольно часто виделся у Кобылиных. Веденяпины стояли прежде в доме Федора Степановича.
Внучек Ваш растет, скоро начнет он ходить; и теперь уже держится на ногах довольно твердо.
Олинька вчера была на свадьбе одной из девиц, находящихся под опекою дяди ее. Это еще первая веселость, в которой она участвовала с самого приезда в Петербург, если только сборище ста человек народа, страшную тесноту и духоту в комнатах, очень обширных, можно назвать веселостью. Олинька скоро устала, соскучилась и возвратилась домой очень рано, тотчас по приезде из церкви. Здесь она заметила некоторое различие в свадебных обы-
270
чаях сравнительно с саратовскими. Так, например, мать жениха (невеста сирота) была в церкви, что у нас не принято.
Сашенька продолжает заниматься своею диссертациею; отрывок из нее — сказка об Акире премудром — скоро появится в «Отечеств. записках», быть может в XII нумере нынешнего года. У меня почти не остается времени для подобных работ, и статьи, мною помещаемые, решительно не заслуживают внимания, потому что они пишутся так поспешно, как только способна писать рука. Каждый месяц необходимо писать мне от 6 до 7 листов большого формата, т. е. около 100 или 110 страниц; иногда успеваю написать и больше. Впрочем, для исполнения Вашего желания отмечу в тех нумерах, которые будут посылаемы мною, статьи, писанные если не мною, то моим почерком. В VIII и IX нумерах (за август и сентябрь) «Отеч. зап.» мною писаны «Новости наук» в «Смеси», за исключением нескольких страниц, присланных для вставки в этот отдел Д. М. Перевощиковым (заслуж. профессором Московск. Универ., ныне живущим здесь по званию академика). Начиная с № IV «Отеч. зап.» мною также писаны отзывы о статьях ученого содержания журналов, помещенные в отделе «Журналистика». Писанная мною половина этого отдела — обыкновенно последние страницы его. Кроме того, мною написана статья об Аристотелевой пиитике, помещенная в № IX «Отеч. записок» в «Критике».
Прощайте, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш
Николай.
Целую вас, милые дяденька, тетенька, сестрицы и братцы.
193
РОДНЫМ
19 октября 1854 г.
Милый папенька! Ваш внучек начинает становиться действительно умен; он уже понимает, когда с ним шутят и смеются: сам шутит, то смотря прямо в глаза, то быстро скрывая свое личико на груди того, кто держит его; хохочет уже таким смышленым голосом, что, очевидно, знает, чему радуется. Кажется, понимает и удовольствие вести разумную беседу, потому что беспрестанно бормочет разные, пока еще, впрочем, совершенно неразборчивые звуки. На ногах держится очень твердо. Вообще, слава богу, здоров и растет хорошо и правильно. Надобно теперь только желать, чтобы зубки у него прорезались легко и безболезненно. Тогда, бог даст, все критические периоды детства будут им пройдены.
Олинька также, слава богу, здорова. Я писал уж, кажется, что недавно была она на великолепной свадьбе, откуда, впрочем, возвратилась очень утомленная и решительно без всякой охоты толкаться в духоте и толпе в другой раз. Гораздо приятнее и для нее, и для меня было другое последствие этой свадьбы. Именно,
271
короткая приятельница Олиньки, Генриэтта Андреевна Михельсон, с которою познакомил Олиньку дядя, М. К. Казачковский, и которая была истинным другом Олиньки во все время ее болезни, поселилась вместе с нами, освободившись от опеки или попечений о своей двоюродной сестре, на свадьбе которой и была Олинька. Дело устроилось так. У нашей квартиры, состоящей, как я писал, из 4 комнат, нами занимаемых, есть еще комната, находящаяся через сени или площадку крыльца, по другой стороне лестницы с особенным ходом и не имеющая никакого сообщения с нашею квартирою, кроме как через лестницу. У нас она оставалась незанятою, и мы хотели отдать ее кому-нибудь внаймы. Теперь ее заняла Генриэтта Андреевна.
Non est jam primae juventutis haec amica meae uxoris. Triginta annos, credo, habet. Inops est. Ergo prudentior. Fratrem avunculi uxoris meae amicum, perdidit ante annos tres. Post ea puellae illi, de cujus matrimonio prius dixeram, pro matre fuit. Nunc linguae germanicae et francogallicae lectiones dando vivere instituit. Est prudens, ut dixi, et bona. Hujus modi relationes nihil nisi bonum in se habent, quoad uxorem meam pertinet. Itaque lubens consensum meum dedi, cum uxor a me rogaret, ut ejus amicam in cellula, quae nulli usui nobis erat, habitare permitterem. Potissimum in mente habuimus ambo, ego et uxor, ut colloquiis familiaribus uxor indulgere possit, cum ego negotiis sim deditus, quod saepe fit et quo tempore uxor sola prius erat*.
Прощайте, милый папенька. Целую Ваши ручки.
Сын ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
Иван Григорьевич и Александр Федорович свидетельствуют вам свое глубочайшее почтение.
194
РОДНЫМ
26 октября 1854 г.
Милый папенька! Ваше письмо от 15 октября мы получили 22-го. Благодарение богу, хранящему всех нас под своею милостивою десницею.
*
Китаев, конечно, рассказал Вам довольно подробно о нашем житье-бытье. Жаль, что у него умер сын, которого он очень хвалил, бывая у нас.
У нас нет ничего нового; живем тихо, день за днем, попрежнему, так что для нас самих едва заметно различие между вторником и средою, между предыдущею и следующею неделею. Олинька здорова. Малютка наш также. Я попрежнему довольно много работаю, и это главная причина того, что мы с Олинькою редко где-нибудь бываем, точно так же, как и у нас бывает мало гостей: мне часто бывает совершенно некогда тратить время для знакомых. Половину месяца читаешь то, о чем надобно будет писать, другую половину пишешь. Так, например, ныне и вчера у меня все время прошло в работе, потому-то я пишу письмо слишком короткое. Прощайте, милый папенька, до следующего вторника, который будет свободнее для меня. Целую Ваши ручки.
Сын Ваш Николай Ч.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
195
РОДНЫМ
2 ноября 1854 г.
Милый папенька! Отчасти я понимаю, как приятно для Вас побывать в Пензе, которой Вы не видели столько лет. Даже я, знающий ее только по Вашим рассказам, всегда с особенным чувством подъезжал к этому городу, дорогому для нас, как место Вашего воспитания. Слава богу, что из множества путешествий Ваших нашлось хотя одно истинно приятное для сердца. Когда-то нам с Олинькою удастся приехать в Саратов? Я полагал, что возможно будет сделать эту поездку на следующее лето; думаю и теперь, что дело это может как-нибудь устроиться, хотя затруднений будет много. Но мне хотелось бы, необыкновенно хотелось бы познакомить Вас, милый папенька, с маленьким внучком, который радует нас более и более с каждым днем. Олиньке хотелось бы съездить в Саратов едва ли не больше, нежели даже мне. Дай бог, чтобы это можно было устроить.
Ныне выезжает отсюда Веденяпин, саратовский офицер, приводивший партию. Он обещался быть у Вас, милый папенька, и рассказать о нашем житье-бытье.
В Петербурге на-днях начались холода, еще не очень сильные. Но снег уже держится по два и по три дня. Я дожидаюсь более холодного времени, чтоб узнать, какова будет наша квартира зимою. Если довольно тепла, то мы можем оставаться на ней несколько лет, потому что во всех отношениях она удобна.
27*
Прощайте, до следующего письма, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
18 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
273
Свидетельствую свое почтение милому крестному папеньке в целую его ручку.
Очень благодарим Вас, милый дяденька, за присылку паспорта для нашей прислуги.
Сашенька здоров и благополучен. Если он иногда пропускает почты, не прилагая в нашем письме своего, так это просто потому, что имеет привычку поздно вставать, когда прием писем на почту уже окончился. Он поздно ложится и поздно встает, как следует молодому человеку лучшего тона. Серьезно говоря, до 12 часов он постоянно занимается своею диссертациею, которая уж приближается к концу, и тому подобными учеными трудами.
Целую вас, милый дяденька и милая тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
196
РОДНЫМ
9 ноября 1854 г.
Милый папенька! Ваше письмо от 29 октября мы получили только вчера. Почта запоздала двумя днями.
Как приятно, в самом деле, было для Вас, милый папенька, увидеть Пензу, увидеть себя через тридцать лет, снова окруженного людьми, которым успели Вы внушить столь сильную любовь и уважение к себе, что через тридцать лет Вы нашли свежими и теплыми эти чувства. Это счастие, которого заслужили немногие из людей и которым наслаждаются только те, которые могут вполне ценить его. Не желаю себе ничего в жизни, как только того, чтобы современем удостоиться подобного удовольствия, ни с чем несравнимого. Si quis patrem habet, cujus vita immaculata est, cujus nomen omnibus viris bonis carum est, certe ego. Si quis patrem habet, quem imitari summum est gaudium et virtus, certe ego. Pater optime, a Deo nihil in vita peto quam ut sim patri meo similis, quamvis ex parte aliqua; omnino nec sperare audeo similis esse. Beati immaculati in vita ut scriptura ait. Beati, quibus omnes viri boni amici sunt, quos in amore aeterno tenent omnes, qui eos bene noverint*.
В самом деле прекрасна была Ваша краткая поездка в Пензу, и благодарение богу, что он доставил Вам это сладкое утешение.
Ваш внученок здоров и весел; он с каждым днем становится понятливее и более утешает свою маму. Я, кажется, не писал еще Вам, что у него начали прорезываться зубки. Два уже прорезались и очень легко. Дай бог, чтобы и продолжение этого трудного
процесса было столь же благополучно для нашего милого малютки. Вероятно, скоро начнет он говорить, потому что уж начинает бормотать нечто похожее на определенные звуки; кажется, он понимает некоторые из слов, с которыми к нему обращаются.
Давно уж не виделись мы с Иваном Григорьевичем, около двух недель, — потому что ни у него, ни у меня не выбирается свободного времени. Ha-днях собираюсь к нему. Александр Федорович был у. нас воскресенье и свидетельствует Вам свое почтение. Петр Федорович, может быть, виноват в чем-нибудь перед Вами? Я помню, что подобные случаи бывали и прежде. Конечно, для Вас его посещения не интересны; но все-таки должно быть неприятно его жалкое неумение держать себя, если уже не быть в самом деле хорошим родственником.
Прощайте, милый папенька. Целую Ваши ручки.
Сын Ваш Николай.
Целую Вас, милые дяденька и тетенька, и Вас, милые сестрицы и братцы.
197
РОДНЫМ
16 ноября 1854 г.
Милый папенька! Ваше письмо от 6 числа мы получили только вчера в понедельник, между тем как прежде получали письма в субботу — почта запаздывает двумя днями.
Итак, между Москвою и Саратовом еще осень. У нас в Петербурге началась уже зима. В продолжение трех дней сряду стояли холода в 12 — 15 градусов — что не часто бывает и в январе. Выпал довольно большой снег, и появились сани, которые уже стерли его на больших улицах. Нева покрылась льдом.
Мы все, слава богу, живы и здоровы. Внученок Ваш становится все занимательнее, по крайней мере для нас. Зубки у него прорезываются, пока довольно легко.
У меня на этой неделе было много работы; потому что, по окончании в «Отеч. записках» Диккенсова романа «Холодный дом» удалось мне приобресть и эту часть в свои руки. Начал переводить английские романы, что, надеюсь, будет доставлять, в вознаграждение за 8 — 9 дней труда, рублей по 70 сер. в месяц. В этом отношении мои дела устроились довольно сносно. В работе, не дающей, правда, никакой известности, но приносящей вознаграждение, недостатка теперь у меня нет. В месяц получал от 150 до 160 р.; теперь буду получать несколько более — до 200 р. Жалованье из корпуса идет на плату за квартиру. Когда пройдет таким образом несколько месяцев, можно будет привести свои дела в такой порядок, чтобы Начать работу серьезную, которая дала бы права на притязания по ученой части. Лишь бы только бог был милостив и не посетил болезнью, жить можно;
18*
275
правда, без того избытка, каким пользуются люди с независимым состоянием, но и не без некоторого довольства, прилично. Иметь состояние, как другие, признаюсь, я и не желал бы: лучше жить своими трудами, нежели чужими лишениями и, быть может, слезами.
Я почти нигде не бываю, кроме как у людей, к которым приводят дела — у Краевского и Некрасова, которые доставляют возможность жить, и оба любят меня, если не за другое что, то за точность в исполнении того, что нужно, всегда к сроку; потом у Срезневского и Никитенки, чтобы не разрывать связей, которые могут пригодиться. На-днях отдаю свою диссертацию на утверждение факультета; теперь есть средства напечатать ее.
Из других знакомых бываю только у родных — Ивана Григорьевича и Александра Федоровича, и то не часто, по недостатку времени. У всех других — чрезвычайно редко.
Прощайте, милый папенька, до следующего письма. Целую Ваши ручки.
Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
198
РОДНЫМ
22 ноября 1854 г.
Милый папенька! Ваше письмо мы получили в воскресенье, между тем, как предыдущее получено было только в понедельник, следовательно, дороги начинают уже поправляться.
Мы все, слава богу, здоровы, мирны и благополучны попрежнему. И попрежнему нет в нашем житье-бытье здесь ничего нового. Одно только нововведение произвела Олинька в своем хозяйстве, когда на улице подмерзло, и ходить стало хорошо: она теперь сама ходит в лавку закупать провизию. На прежней нашей квартире нельзя было этого делать, потому что лавки были далеко. Здесь у нас есть лавка совершенно под боком, по крайней мере, по-здешнему, в таком расстоянии, как от нашего саратовского дома почтамт или несколько ближе. Олинька отправляется покупать провизию почти каждый день и оказывается при этом случае очень опытною хозяйкой. Пока эти закупки ее занимают, а потом, вероятно, так привыкнет к ним, что уж не захочет отставать от своих утренних прогулок.
Кажется, я писал Вам о болезни Введенского уж очень давно. С того времени его глаза не поправляются, и доктора, его лечившие, лучшие здешние окулисты, перестали его пользовать, говоря, что остается одна надежда — не на лекарства, а на два года спокойной жизни, без всякой работы, требующей содействия глаз. Положение его и его семейства теперь очень печально — не гово-
276
рите этого его родным, если они еще не знают, не потому, чтобы он уже теперь нуждался — этого еще нет, он получает жалованье, — но что будет, когда он принужден будет выйти в отставку? Он будет получать пенсию, но едва ли она будет значительна. И притом жить без занятия для такого деятельного человека, как Введенский, очень тяжело. Не говоря уж о том, что разрушается его карьера, которая только что начинала устраиваться хорошим образом.
Надобно, впрочем, прибавить и о себе, что я ничего не теряю с удалением Введенского, потому что он для меня здесь ничего не сделал, да я и не хлопотал много об этом, увидев по приезде сюда, что мне приходится искать средств к жизни не в планах, которые дали бы во всяком случае слишком мало и притом слишком надолго отвлекали бы меня из дому, чего вовсе не хочу я, потому что и Олинька скучает без меня, да и я постоянно желал бы быть подле нее. Теперь я служу в корпусе почти только для того, чтобы считаться на службе. Жалованье не доставляет мне столько, сколько я теряю времени на уроки. Конечно, можно бы бы[ло] за то же количество часов получать вдвое более, но для этого нужно или наступать на горло, или интриговать и льстить. У меня недостает характера ни на то, ни на другое. Учительская служба, как и всякая другая, не в моем характере. Единственные места, которые занимал бы я с удовольствием и о которых был бы готов просить — профессора в университете или библиотекаря в Публичной библиотеке. На первое трудно рассчитывать; последнее надеюсь как-нибудь получить через год, через два. До того времени буду служить в корпусе, чтобы не пропадало время без службы.
Но я слишком замечтался о будущем.
Прощайте, милый папенька. Целую Ваши ручки.
Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы.
199
РОДНЫМ
30 ноября 1854 г.
Милый папенька! Ваше письмо от 20 октября мы получили третьего дня. Что сказать нового о себе? Мы живы, здоровы, благополучны, как и прежде, благодаря милости божией к нам.
Нынешний день слишком памятен для меня и не раз — впрочем, лучше писать о чем-нибудь другом.
С нынешнего месяца, т. е. с декабрьской книжки, начинается в «Отеч. записках» переводимый мною роман — «Семейство Доддов за границею». Выбор был сделан мною. Конечно, было бы можно избрать лучшее произведение, но мы должны выбирать
277
из числа романов, прочитанных иностранною цензурою, а число их довольно ограничено. Все переводимые с иностранных языков произведения подвергаются двойной цензуре: сначала комитет иностранной цензуры одобряет к переводу, замечая, если нужно, места, которые не надлежит переводить; потом русский цензор просматривает, как обыкновенно, перевод. Этот двойной процесс имеет свою невыгоду — медленность; но имеет и выгоду — русский цензор, обеспеченный до некоторой степени мнением иностранной цензуры, бывает снисходительнее, а иностранный комитет в этом отношении не заставляет никогда быть недовольным его чрезмерною строгостью.
За подобными работами проходит много моего времени; оставаясь свободен два или три раза в месяц на один или два дня, предпочитаю отдыхать дома, потому мало с кем вижусь, кроме людей, с которыми имею деловые отношения.
Олинька здорова и продолжает посвящаться в хозяйственные тайны, сама каждый день закупая провизию. Она даже привыкла по этому случаю вставать в пять часов, гораздо раньше нас всех, между тем как прежде вставала позже меня. Это имеет хорошее влияние на здоровье — мы заметили, что теперь цвет лица стал у нее свежее прежнего.
Наш малютка, Ваш внук, растет без особенных невзгод и ныне щеголяет уже двумя зубами.
Прощайте, милый папенька. Целую Ваши ручки.
Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы, поздравляю с именинницею.
Тебя, мой милый друг Варенька, поздравляю со днем твоего ангела и желаю тебе всего лучшего.
Александр Федорович свидетельствует вам свое искреннейшее почитание. С Иваном Григорьевичем мы не удосужились видеться на этой неделе. Ни у меня, ни у него не выдалось свободного вечера.
200
РОДНЫМ
6 декабря 1854 г.
Милый папенька! Мы все благодарим Вас за Ваши прекрасные подарки. Как хороши они! Как радовались и Олинька, и я, что Вы так добры к нам, так заботитесь о нас. Даже Ваш внученок хватался за свой блестящий стаканчик и не хотел выпускать его из рук.
У нас ныне, кажется, был день подарков для меня: Олинька сделала их множество: приготовила целую фрачную пару, которую давно собирались мы делать, и приготовила так, что я решительно не знал этого. Все было сделано по меркам, снятым с моего
278
платья. Сашенька — старший — подарил мне галстух; Саша младший подарил перчатки; одним словом, осыпали или одели меня подарками с ног до головы.
Вместе с Олинькою были мы в церкви. Потом навестили меня некоторые из знакомых. Обедал у нас, впрочем, только Иван Григорьевич. Он и Сашенька благодарят Вас за Ваши подарки, драгоценные, как свидетельство равной Вашей любви ко всем нам, не забывающей никого.
Олинька провела нынешний день приятно, потому что у нее были две или три подруги. Мы сидели с Иваном Григорьевичем, который оставался до вечера.
Благодарим Вас еще тысячу раз, милый папенька, и целуем Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
Милые дяденька и тетенька! Целую вас и спешу известить, что Сашенька продолжает увеличивать свои права на ученую известность. В нынешней, т. е. декабрьской, книжке «Современника», которая выйдет завтра или послезавтра, будет помещена его большая статья об интересном и до сих пор совершенно неизвестном предмете — старинных русских повестях. О статьях его, которые стоят меньшего труда, не упоминаю, например, о статье «Бомарше», которая также помещена в декабрьской книжке «Современника». Одним словом, скоро Вы будете видеть, что А. Н. Пыпин пользуется в нашем ученом мире большой известностью.
Целую также вас, милые сестрицы и милые братцы.
Иван Григорьевич и Александр Федорович свидетельствуют Вам свое глубочайшее почитание.
Целую ручку у своего крестного папеньки и свидетельствую свое глубочайшее почитание Алексею Тимофеевичу.
201
РОДНЫМ
13 декабря 1854 г.
Милый папенька! Это письмо будет получено Вами за два или три дня до праздника св. мученицы Евгении — праздника, с которым соединено столько печального для нас. Боже мой, таков ли был он для нас прежде! Да призрит с небес нежная мать на детей своих! Да помолится она, чтобы дети были достойны ее.
Поздравляю Вас, милый папенька, с наступающим праздником рождества Христова.
Ваше письмо от 3 декабря получено нами третьего дня. Почти в одно время с ним получил я письмо и от милого брата Ивана Фотиевича, которому отвечаю с этою же почтою. Он не пишет ничего особенного.
279
Мы все здоровы. У маленького Сашеньки продолжают прорезываться зубки. Он, слава богу, переносит это, не теряя своей веселости.
Бывшая г-жа Пасхалова действительно сделалась ныне г-жею Мордовцевою, к немалому удивлению знающих его или ее людей. Дело совершено было так секретно, что о браке узнали только из объявления молодых о том, на другой день. Судить не мое дело, тем более, что не знаю близко причин, заставивших Пасхалову соединить с участью своей жизнь человека, который много моложе ее. Res eо magis miranda est, quod inter eos nihil, ut pro certo habere debemus, flagitiosum intercedebat. Femina inducta est ad matrimonium, ut apparet, desiderio filiis, filiabusque suis patronum certum invenire, si ipsi aliquid humani accidat. Qua mente juvenis nuptias voluerit, incertum est, ejus consilium non fuisse ab amore aliquo fatuo dictatum, satis certum est*, потому что, сколько я видел его, он был очень спокоен и вовсе не [в] особенном каком-нибудь экстазе — напротив, сохранял обыкновенное расположение духа. Впрочем, повторяю, судить не могу, потому что очень мало и редко вижусь.
Прощайте, милый папенька. Целую Ваши ручки.
Сын Ваш Николай.
Поздравляю тебя, милый друг Евгеньичка, со днем твоего ангела. Целую тебя и желаю тебе всякого счастья в наступающий для тебя новый год жизни.
Поздравляю вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы, с дорогой именинницею.
202
РОДНЫМ
21 декабря 1854 г.
Милый папенька! Еще раз поздравляю Вас с праздником рождества Христова, который будет уже прошедшим, когда Вы получите это письмо, и с наступающим праздником Нового года.
Мы с Олинькою будем молиться, чтобы он, всемилосердый, сохранил Ваше здоровье и сердце безболезненным в этот наступающий год и вразумил нас быть для Вас утешением.
Довольно долго — три или четыре дня — проведя в отдыхе, теперь, по обыкновению, занимаюсь своим делом, которое, между прочим, полезно, кроме того, что необходимо для жизни, тем, что развивает привычку к трудолюбию.
Диссертация моя, столь долго покоившаяся, подобно мне, и проходившая различные степени испытания — то есть более, как и все в мире, на словах, нежели на деле — теперь приближается к утверждению для печати, как узнал я ныне от декана факультета Устрялова.
Олинька и наш малютка здоровы. Сашенька, впрочем, на-днях не поспал несколько ночей за прорезыванием зубов, что не мешало ему однако быть бодрым. Он заметно становится понятлив к словам или, по крайней мере, к тону голоса.
Целую Ваши ручки, милый папенька.
Сын Ваш Николай.
Свидетельствую свое глубочайшее почитание крестному своему папеньке и имею честь поздравить его с Новым годом, так же как Алексея Тимофеевича и всех родных.
Также поздравить просили меня Александр Федорович и Иван Григорьевич Вас, милый папенька, и вас, милые дяденька и тетенька.
Желаю вам, с своей стороны, встретить и провести Новый год здоровыми и благополучными. Целую вас и милых сестриц и; братцев, которых также поздравляю от всей души.
203
РОДНЫМ
27 декабря 1854 г.
Милый папенька! Еще раз поздравляем Вас с Новым годом, который будет уже наступившим, когда Вы получите это письмо. Желаем от всего сердца и просим бога о ниспослании Вам драгоценного здоровья, нам же уменья провести наступающий год так, чтобы служить для Вас, милый папенька, утешеньем.
Мы хотим встретить Новый год у себя дома, своим семейством, — теперь уже состоящим из четырех членов, с родными, которых у нас двое здесь — Иван Григорьевич и дядюшка Олиньки.
На первый день праздника был я только у них; Иван Григорьевич был так добр, что приехал со мною обедать у нас. На второй день мы с Олинькою делали некоторые визиты, впрочем очень немногочисленные. Ныне были у нас двое или трое знакомых.
Итак, мы проводим время не шумно, но, слава богу, несколько по-праздничному.
Олинька здорова; маленький Саша также.
Мое живейшее желание продолжает оставаться попрежнему то, чтобы летом побывать у Вас, милый папенька; но когда подумаю о трудностях его исполнения, сомневаюсь в его возможности. Но если едва ли даст бог мне и Олиньке счастье увидеться с Вами, в это лето, то я надеюсь через полтора года наше пламеннейшее
281
желание исполнится. Да, если не в наступающем, то в следующем году, если только будем живы и здоровы, непременно будем близ Вас.
Прощайте, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш
Николай.
Поздравляю вас, милые дяденька и тетенька, сестрицы и братцы, с наступающим Новым годом.
Прошу также поздравить от меня милого крестного папеньку.
Иван Григорьевич и Александр Федорович просят принять их усерднейшие поздравления.
204
РОДНЫМ
4 января [1855 г.]
Милый папенька! Еще раз поздравляем Вас с Новым годом и от искреннейшей любви повторяем желания Вам провести его счастливо и радостно.
Благодаря тому, что почтальоны празднуют Новый год не хуже всех других сословий, мы до сих пор еще не получали Вашего письма, которое должно было быть уже доставлено дня два или три назад.
Мы встретили Новый год в кругу своих, как и располагались, дома. Веселая встреча пусть послужит залогом того, что и проведем этот год хорошо.
С визитами ездили мы очень не по многим, потому что здесь и все делают визиты далеко не столь многочисленные, как в Саратове.
Для Олиньки праздники прошли довольно приятно, потому что у ней были в гостях две девицы, сестры той Генриэтты Андреевны, которая, как я писал Вам прежде, продолжает жить у нас. Девицы эти живут гувернантками и на праздник могли оставить своих учениц и отдохнуть несколько у Олиньки. Теперь они уж возвратились к своим должностям.
Наш маленький Саша здоров и веселит нас своими забавными улыбками и другими изъявлениями чувств и мыслей, которые начинают помещаться в его головке.
Прощайте, милый папенька. Целую Ваши ручки.
Сын Ваш Николай.
Поздравляю с Новым годом своего крестного папеньку, Алексея Тимофеевича и Катерину Григорьевну.
Иван Григорьевич, с которым виделись мы в эти дни несколько раз, тоже поздравляет Вас с Новым годом. Поздравляю вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
282
205
РОДНЫМ
11 января 1855 г.
Милый папенька! Ваше письмо от 31 декабря мы получили в четверг — так рано начала приходить почта.
Жаль Дарью Кирилловну; она была добрая старушка и Олинька ее любила искренно. Дня через два мы получили с тем же известием письмо и от Анны Кирилловны, которая, как видно, грустит на этот раз искренно и заслуживает полного сочувствия в своей скорби.
Мы все, слава богу, живы и здоровы.
Здесь чрезвычайно заняты все люди, имеющие соприкосновение с ученым миром, столетним юбилеем Московского университета. Приготовления к нему Вы читали в газетах; но надобно видеть здешних ученых и литераторов, чтоб убедиться, как велико сочувствие этому торжеству. Император посылает университету рескрипт — это, впрочем, известно и здесь очень немногим; этот прекрасный знак монаршего благоволения будет сюрпризом университету, еще ничего о том не знающему.
Министр народного просвещения сам едет поздравить университет. Все русские университеты посылают для того же депутатов; Академия наук также. Едут также многие литераторы (в том числе из знакомых мне Краевский и Тургенев). Одним словом, сочувствие всеобщее, и торжество, вероятно, будет не только официальное и великолепное, но вполне радостное.
Между прочими подарками университету упомянуть должно об оде Ломоносова, написанной прежде знаменитой оды на взятие Хотина (1739 г.), которую считали первым памятником нового периода русской литературы. В архивах Академии наук нашли недавно оду Ломоносова, написанную eще в 1736 или 1735 году и до сих пор остававшуюся неизвестною. Ломоносов, вместе с И. И. Шуваловым, был основателем Московского университета, потому такой подарок ему очень должен быть дорог. Новую оду напечатали на пергаменте золотыми буквами, и депутация Академии поднесет ее университету.
Я, между прочим, слышал приветствие, которое произнесено будет ему Никитенкою от здешнего университета. Оно прекрасно. Видел также и медаль, которая будет роздана почетным гостям в память юбилея. Изображение на ней — Ломоносов и Шувалов подносят императрице Елисавете Петровне проект основания Московского университета.
По случаю юбилея университет издает свою историю с огромными приложениями, заключающими обозрение деятельности всех его профессоров с самого основания и биографии их и замечательных по ученой или государственной последующей деятельности воспитанников университета. Число их очень велико. Ни
283
одно из светских ученых учреждений не принесло столько пользы просвещению в России, как Московский университет. Одна только Киевская духовная академия может гордиться столь же важным влиянием на русское просвещение.
Целую Ваши ручки, милый папенька.
Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька и вас, милые сестрицы и братцы.
206
РОДНЫМ
18 января 1855 г.
Милый папенька! Мы все, слава богу, живы и здоровы, наш маленький Сашенька становится большим и с каждым днем делается понятливее, более занимает и утешает нас. Он особенный любимец своего дядюшки Александра Николаевича, который беспрестанно с ним возится.
Новостей в Петербурге давно уж нет сколько-нибудь занимательных. Слухи о том, как праздновался юбилей Московского университета, еще не дошли до нас, потому что люди, ездившие на этот праздник, почти все оставались в Москве несколько дней по его окончании.
В нынешнем году мы будем пересылать к Вам, кроме «Отечественных записок», также «Современник»; на оба эти журнала я получил даровые билеты за свое сотрудничество.
Прощайте, милый папенька, до следующего вторника. Целую Ваши ручки.
Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы. Сашенька вчера долго сидел за своими учеными занятиями и потому не успел приготовить письма.
207
РОДНЫМ
24 января 1855 г.
Милый папенька! Ваше письмо от 14 января мы получили в субботу. Никто из приехавших или едущих саратовцев еще не был у нас.
Чрез несколько дней я побываю в Невской лавре, чтобы навестить, по Вашему желанию, Сергия — он, конечно, или еще не приехал, или только что приехал в Петербург.
Мы все, слава богу, здоровы здесь. Олинька последнюю неделю, сидя дома, провела довольно приятно, потому что у нее бывала часто сестра той Генриэтты Андреевны Михельсон, которая
284
живет вместе с нами. Сестра эта, живущая гувернанткою около Твери, приезжала повидаться с сестрою. Ныне Олинька провожает ее.
На прошедшей неделе умер Протасов, обер-прокурор Синода. Я узнал об этом уже спустя несколько дней, и до сих пор не слыхал, какая болезнь была с ним. Кто будет на его месте, также не удавалось еще мне слышать. Быть может, теперь дело бедного братца Ивана Фотиевича будет решено или, по крайней мере, выслушана его просьба о разрешении ему священнодействия.
Прощайте, милый папенька, до следующего вторника. Целую Ваши ручки.
Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
Иван Григорьевич и Александр Федорович свидетельствуют вам свое почитание.
208
РОДНЫМ
1 февраля 1855 г.
Милый папенька! Приезжие из Саратова были у нас. Ныне посетил нас Василий Акимович вместе с своим зятем и посидел у нас довольно долго. Зять отправился по делам в департамент, потому я провожал Василия Акимовича домой к Григорию Евдокимовичу. Впрочем, из хозяев не видал никого — они в это время куда-то уезжали. Василий Акимович думает прожить здесь еще с неделю.
Советовавшись в Москве с лучшими глазными докторами, он полагает, что лечение едва ли может принести ему пользу.
Третьего дня был Попов и привез икру, Вами посланную. Благодарим Вас, милый папенька, за этот подарок, который притом получен в самое то время, когда особенно полезен, к началу масляницы.
Достоинство икры было испробовано нами и нашими гостями в воскресенье. У нас были Иван Г ригорьевич, М. К. Казачковский, дядя Олиньки, и двоюродный брат ее, племянник Сократа Евгениевича, сын Венедиктова, бывшего некогда профессором в Харькове. Этот молодой человек, служащий в гренадерском корпусе, выбран бригадным казначеем и теперь в Петербурге для приема аммуниционных вещей для своей бригады. Таким образом, провели мы время в кругу родных, довольно приятно. Все гости наши хвалили саратовскую икру; здесь такой действительно нет; даже высшие сорты, продающиеся по 1 р. и даже 1 р. 50 к. сер., совершенно не то, что икра, которую Вы нам подарили.
285
В воскресенье поутру мы были, благодаря Ивану Григорьевичу, имевшему даровые билеты, в концерте филармонического общества.
В Петербурге весь январь месяц был необыкновенно холоден, не было ни одного дня теплого — случай, редкий в Петербурге.
Олинька, благодаря бога, здорова; малютка наш также здоров, хотя и жалуется иногда, как умеет, на прорезывающиеся у него зубы.
Сашенька-старший неутомимо занимается учеными трудами; так, например, в II (февральском) нумере «Отеч. записок» будет его статья о старинной русской литературе — отрывок из его диссертации.
Я, по обыкновению, здоров и пописываю разные мелочи. Ныне, сосчитав из любопытства, сколько было помещено написанного моею рукою (если не головою, которая не во всем участвует) в январских книжках «Отеч. зап.» и «Современника», открыл я, что всего набирается 156 страниц — т. е. 93/4 печатных листов большого формата. Так как ныне мы отправляем эти нумера к Вам, то скажу, что, между прочим, в «Отеч. зап.» о сочинениях Норова — написано мною. Там ему воскуряется фимиам, потому что иначе нельзя; впрочем, Норова можно хвалить без угрызений совести; с одной стороны, его сочинения действительно не лишены достоинства; с другой стороны, он добрый и благонамеренный человек, заслуживающий всякого уважения.
Прощайте, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш
Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, милые сестрицы и братцы.
Целую ручку у своего милого крестного папеньки.
Иван Григорьевич благодарит Вас за подарок и свидетельствует свое искреннейшее почитание.
209
РОДНЫМ
8 февраля 1855 г.
Милый папенька! По причине масляницы, а потом отдыха в покаяния после ее удовольствий, почтальоны до сих пор еще не разносили писем. Потому и мы напрасно дожидались Вашего письма от 28 января. Вероятно, принесут его ныне.
Мы все, слава богу, здоровы. Малютка наш начинает произносить нечто похожее на слова — так, по крайней мере, кажется ныне и мне, не только Олиньке. У Олиньки на-днях были хло-
286
поты, впрочем, приятные для нее — именно свадьба и устройство платья и т. д. Генриэтты Андреевны Михельсон, которая, как Вы, вероятно, не забыли, жила вместе с нами. Она вышла за дядю Олиньки.
Не знаю, успел или нет муж ее написать в Саратов Анне Кирилловне о своей свадьбе — если не успел еще, то не говорите об этом; иначе она обидится, что «брат пренебрегает ею» и т. п. М. К. сватал ее еще несколько лет тому назад, но тогда у Генриэтты Андреевны жив был брат, и потому она не видела нужды иметь другого покровителя. Теперь, когда она осталась одинока, М. К. повторил свое предложение, и через три дня была их свадьба. М. К. уже пожилых лет, ему, наверное, за пятьдесят; но по крепости здоровья ему теперь нельзя дать более 45; и в 40 лет немногие бывают так свежи, как он: у него нет седины в волосах. Молодая также не молода, как я Вам писал прежде; следовательно, в этом отношении осудить нечего; тоже, кажется, и во всех других отношениях. Генриэтта Андреевна имеет очень хороший характер, и мы искренно желаем ей счастия.
Быть может, и я не писал бы Вам об этом событии, милый папенька, если бы оно не прикасалось к нам близко по желанию Олиньки, Генриэтты Андреевны и самого М. К. Намереваясь весною ехать в Пензу и Саратов по своим опекунским делам, М. К. не хотел устраивать особенной квартиры на два месяца; Олинька и Генриэтта Андреевна очень привыкли друг к другу, и им хотелось продолжать жить вместе, потому и устроились М. К. со своею супругою в нашей квартире. Нам с Сашенькою, быть может, казалось и несколько тесновато, потому что мы совместились с ним в одной комнате, вместо двух прежних, но, конечно, желание Олиньки для меня важнее всего, особенно когда это желание основательно; Сашенька думает подобным же образом, и мы не стали противоречить. Итак, дня четыре тому назад (свадьба была перед самою масляницею), приспособив несколько наши комнаты к новому распределению, мы разместились так: в одной комнате М. К. и Генриэтта Андреевна; в другой Олинька с своим малюткою; в третьей мы с Сашенькою. Великолепная зала наша, предмет большой нашей гордости, осталась попрежнему для удивления наших редких гостей.
В новом порядке живем мы пять или дня четыре — пока все идет удобно и хорошо. Дай бог, чтобы так было и вперед.
У нас третьего дня был Сапожников, который посидел у нас довольно долго. По возвращении он, конечно, будет у Вас и расскажет новейшее наше житье-бытье, не представляющее, впрочем, никакой другой перемены, кроме той, которую я описал.
С наступлением поста мы начали постничать и пока довольствуемся грибами и т. п.
Прощайте до следующего вторника, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
287
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
Сапожников взял с собою первые нумера «Отеч. записок» и «Современника» для вас.
210
РОДНЫМ
15 февраля 1855 г.
Милый папенька! Ваше письмо от 5 февраля мы получили очень рано — на седьмой день по отправлении его из Саратова. Зато очень долго приходилось нам дожидаться предыдущего письма, потому что поезды на железной дороге останавливались по причине больших выпавших снегов на четверо суток.
Мы благополучно начали свой пост постом и соблюдали его в течение первой недели очень исправно. Теперь у нас опять обыкновенное петербургское разговение, до той недели, которую изберем для говения.
Вчера был я у архимандрита Сергия; сидел у него очень недолго, потому [что] он собирался ехать в консисторию, где обязаны присутствовать состоящие на чреде.
Через месяц побываю еще. Раньше, быть может, не удастся выбрать времени. Он хотел посетить и нас, по крайней мере, так говорил, хотя мы и не в праве ожидать исполнения этого обещания.
У нас на-днях был провизор из аптеки Колпикова, Ваш постоялец, и сидел довольно долго. Был также Сапожников, но о его посещении я, кажется, уж писал Вам.
Виделись мы несколько раз с Васильем Акимовичем и его детьми. Он, мне кажется, человек недурной. Сахаров, его зять, действительно человек прекрасный; жаль, что не такова дочка Василия Акимовича — в глупости своей виновата, конечно, не она — так бог создал; но уж, конечно, не бог, а ее матушка велела ей быть похожею на Марью Евдокимовну во многих других недостатках, которыми заметно огорчается бедный муж ее. Это дрянная бабенка, и я очень рад, что Олинька поняла ее, как следует, и отвечала ей на разные глупости так, как должно. Приехав домой (они отправляются ныне), станет, вероятно, передавать матушке разные свои изобретения. Хорошо, по крайней мере, что глупа она так, что не может и вздору придумать правдоподобного.
Олинька мечтает о поездке на лето в Саратов. Я сильно сомневаюсь, чтобы дела мои позволили мне совершить в нынешнее лето это путешествие, которого так желал бы я. Однако ж не совершенно лишен я надежды, что мечта Олиньки может осуществиться, особенно если дядя, М. К. Казачковский, в самом деле поедет в Саратов, как теперь думает. Тогда нам вместе ехать было бы довольно удобно.
288
С этим дядею мы теперь живем, как я писал Вам, милый папенька. Пока все обходится у нас хорошо и не стеснительно для нас.
А прежде он сильно досадовал на Олиньку, считая ее причиною разных неприятных писем, какие получал из Саратова. Но Анна Кирилловна пишет всегда так, имея поводы или не имея никаких поводов, это все равно. Я, конечно, никогда не обращал внимания на подобные дрязги, зная, что так или иначе они окажутся вздором. Ныне между нами и М. К. господствует полное согласие, надолго ли, не знаю, но пока поводов к неудовольствиям с чьей бы то ни было стороны я не замечаю.
Малютка наш здоров и весел. Скоро ему будет уж год, — как летит время!
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
Иван Григорьевич и Александр Федорович свидетельствуют Вам свое искреннее почитание.
211
РОДНЫМ
22 февр. 1855 г.
Милый папенька! Саратов, конечно, уже знает событие, которым ознаменова[но] 18 феврали: восшествие на престол государя императора Александра Николаевича, наследовавшего империю после своего родителя.
Петербург узнал о тяжкой болезни покойного государя только в самый день его кончины. Еще накануне вечером почти не говорили о его болезни, не считая ее опасною. Неожиданность известия была совершенная.
Покойный государь встретил смерть спокойно и мужественно. До последней минуты он был в совершенной памяти и делал последние распоряжения о погребении своем, давал наставления своему семейству с полным присутствием духа.
В день кончины присягнули новому императору члены августейшего семейства и высшие сановники империи. В два следующие дня продолжалась присяга прочих сословий.
Все ждут добра для России от прекрасного сердца нового ее государя. С такою же надеждою смотрят и на супругу его.
Мы все, слава богу, здоровы. Олинька радует меня тем, [что,] бывши до сих пор очень худощава, теперь начинает освобождаться от этого следа своей тяжелой болезни, которая держала ее год тому назад более месяца в постели.
История зубков и проч. нашего малютки подвигается вперед, но, как и все подобные истории, медленно. Он продолжает быть мальчиком здоровым — больше о нем сказать нечего.
19 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
289
Прощайте, милый папенька, до следующего вторника. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
Свидетельствую свое глубочайшее почтение крестному папеньке и Алексею Тимофеевичу.
Иван Григорьевич и Александр Федорович также свидетельствуют Вам свое искреннейшее почитание.
Н. А. НЕКРАСОВУ
Николай Алексеевич,
Прежде Вами были присланы мне из книг, изданных по случаю московского юбилея, только
1) Бодянского об изобретении славянской азбуки (об этой книге я уже написал).
2) Биографич. словарь профессоров Московск. университета; об этой книге надобно написать одну статью с присланною теперь «Историею университета».
А «История университета» не была ко мне прислана.
Ваш покорнейший слуга
Н. Чернышевский.
25 февраля 1855 г.
213
РОДНЫМ
7 марта 1855 г.
Милый папенька! Мы получили Ваше письмо от 26 февраля и покорно благодарим Вас за подарок, которым осчастливлен Ваш внученок на первый же из своих праздников. Ах, как бы нам с Олинькою хотелось привезти его поздравить Вас со днем Вашего ангела — тогда ведь он будет уже объясняться очень красноречиво, не так, как теперь, когда только еще начинает пробовать свои словесные способности. Не знаю, удастся ли нам исполнить это желание. Если останемся в такой же дружбе с дядею Олиньки, как ныне, то это будет не совсем трудно. У него будет для поездки свой экипаж (мы уж писали, что в мае М. К. собирается в Пензу и Саратов). Но много и в этом случае предстоит затруднений для меня уехать из Петербурга надолго.
На светлый праздник, до которого остается уже недолго — я непременно побываю еще у отца Сергия. До того времени можно делать ему только минутные визиты, потому что он рано поутру уезжает в консисторию, а по воскресеньям утро у меня бывает менее свободно, нежели в будничные дни, потому что обыкновенно в это время надобно бывать у разных господ по своим или их делам (что, впрочем, одно и то же), читать корректуры и дожи-
290
даться к себе каких-нибудь гостей. Но на пасху надобно побывать у о. Сергия.
Олинька, слава богу, здорова; малютка наш также. У него прорезались уже четыре зуба.
В Петербурге нового ничего неизвестно достоверным образом, да и вообще слухов очень мало, потому что все дела продолжают итти обыкновенным порядком. Люди, которые, по всей вероятности, довольно основательно могут судить о делах, говорят, что все действия нового императора отличаются благоразумием и «верным тактом», как принято выражаться. От него надеются многого доброго.
Иван Григорьевич и Александр Федорович свидетельствуют Вам свое почитание. Последний пустился в литературу: с мартовского нумера «Отеч. записок» ему поручено составлять отдел «События в отечестве»; он от этого приходит в решительный и совершенный восторг.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
Свидетельствую свое глубочайшее почитание своему крестному папеньке и Алексею Тимофеевичу.
214
РОДНЫМ
15 марта [1855 г.]
Милый папенька! Имеем честь поздравить Вас с наступающим светлым праздником и пожелать Вам провесть его радостно.
У нас один семейный праздник следует за другим: после рождения нашего маленького Сашеньки будем праздновать рождение его дяди, ныне уже «известного русского ученого», как я называю его отчасти в шутку, отчасти серьезно, А. Н. Пыпина (чтобы назвать его именем, под которым он приобрел известность); а нынешний день празднуем рождение Олиньки.
На прошедшей (четвертой) неделе поста мы с Олинькою говели; она очень исправно, я — как позволяло время.
Предупреждая Ваше желание, Олинька причащала нашего малютку в день его рождения.
Вот и все наши новости. Затем остается только сказать, что мы все, благодаря бога, живем здорово и хорошо.
Сборы М. К. Козачковского (дяди Олиньки) в Саратов продолжаются. Он думает ехать в начале мая. Мне невозможно уехать из Петербурга в нынешнее лето, потому что у меня есть срочные занятия, покинуть которые невозможно. А между тем мне хотелось бы, чтоб, если не сам я, то по крайней мере Олинька с нашим малюткою прожила это лето с Вами, милый папенька.
291
Scribas, quaeso, quid Tibi videtur, pater carissime, de hoc consilio meo, ut filia Tua eat? Quid Tibi potius videtur: ut etiam sola eat, cum ego non possim Saratobiam ire, an ut id tempus expectemus, cum arabo ire possimus ire*.
Очень вероятно, что если даже я стану просить Олиньку съездить на два месяца в Саратов, она не захочет ехать одна; но я не знаю, настаивать ли на этом или нет. А мне хотелось бы, чтобы по крайней мере она погостила у Вас, милый папенька.
Простите до следующей почты.
Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и поздравляю с наступающим праздником; также и вас, милые сестрицы и братцы.
215
РОДНЫМ
22 марта 1855 г.
Милый папенька! Христос воскресе! Желаем Вам встретить и провести светлый праздник радостно и благополучно, как надеемся встретить его и мы.
Мы все, слава богу, здоровы. Маленький наш Сашенька растет быстро и современем будет, вероятно, прекрасным мужчиною высокого роста, но, вероятно, домосед, потому что не торопится выучиться ходить, изучая эту премудрость постепенно. С неделю тому назад достиг он искусства сам вставать на ножки, держась за спинку дивана — следовательно, уже близок к совершенству в подвигах хождения. В словесных науках подвигается он вперед также осторожно, не торопясь, и до сих пор объясняется звуками, выражающими более характер его чувств, нежели мыслей, которыми, впрочем, уж занимается, высказывая их разными мимическими средствами. Говорят, будто бы дети, начинающие говорить поздно, бывают очень умны. Сашенька подтверждает это своим поведением, вообще очень милым, не любя ни плакать, ни кричать.
Удастся ли мне отпустить Олиньку показать Вам, милый папенька, внучка? Это всего более, сколько мы теперь можем предвидеть свои будущие обстоятельства, зависит от Вашего ответа на мое предыдущее письмо. Если Вы думаете, что Вам приятнее увидеть нынешним летом дочь и внука, хотя и без меня, нежели ждать, пока и мне будет можно сопутствовать им, то Олиньке будет, кажется, можно ехать с дядею М. К. Козачковским. Я уверен, впрочем, что Олинька [со]скучится по мне, не видя меня день. Но желал бы, чтобы Вы порадовались на то, какая она милая по своему характеру.
Вашего письма, которое должно было притти в пятницу, мы до сих пор еще не получали — почта опоздала несколькими днями.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Снова поздравляю вас с светлым праздником, милые дяденька, тетенька, сестрицы и братцы, и целую вас.
Иван Григорьевич, с которым виделись мы в субботу, просил передать Вам его глубочайшее почитание.
216
РОДНЫМ
29 марта 1855 г.
Христос воскресе! Милый папенька, мы встретили светлый праздник тихо и радостно. На первый день кушал у нас Иван Григорьевич, который остался до вечера у нас; кроме его был поутру Александр Федорович и еще двое или трое наших знакомых. Я, по немногочисленности моих знакомств, делал мало визитов, и потому оба первые дня праздника провел дома. Ныне и завтра побываю вечером у нескольких приятелей, которых прежде не удосуживался посетить. Между прочим, послезавтра мы с Иваном Григорьевичем намерены быть у Виноградова и поговорить с ним о деле братца Ивана Фотиевича. Протасов и Войцехович исчезли, один из Синода, другой с земли. Быть может, теперь и возможно что-нибудь сделать, хотя Иван Григорьевич (наш) не думает, чтоб это было легко, потому что Синод уж отказывал несколько раз, следовательно связал себя в этом деле. Если что-нибудь выйдет из нашего разговора с Виноградовым, я напишу в следующем письме.
Вашего письма от 18 марта мы еще не получали, по причине дурных дорог, как и предыдущее получили также только по отходе отсюда почты.
В Петербурге весна началась: на некоторых улицах уже нет снегу; все бросили шубы и щеголяют в весеннем или осеннем платье. Мы все, слава богу, здоровы. В нашем житье-бытье не произошло никакой перемены с того времени, как мы живем вместе с дядюшкою Олиньки.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
Иван Григорьевич и Александр Федорович свидетельствуют Вам свое почитание.
Я целую руку у своего крестного папеньки.
293
217
РОДНЫМ
4 апреля 1855 г.
Милый папенька! Попрежнему почта запаздывает, и мы еще не получали Вашего письма от 25 марта. Вероятно, принесут его в течение нынешнего дня.
Все мы, слава богу, здоровы. Праздник провели довольно приятно. Сами почти нигде не были, но у нас бывали некоторые из знакомых.
За отсутствием новостей о нас самих напишу что-нибудь о наших знакомых и, во-первых, об Александре Федоровиче. Он выступает на литературном поприще: с 3-го нумера «Отеч. записок» (март) отдел «Внутренних известий» или «Современной хроники» (не помню в точности заглавия), составляется А. Раевым. Важного, разумеется, тут нет, но забавное есть, именно, то, что автор этих скромных страниц чрезвычайно занят и восхищен своими трудами — состоящими просто в выписках из русских газет. Так иной бывает доволен и немногим, лишь бы оно принадлежало ему.
Сашенька начинает уже покровительствовать молодым талантам (которые принадлежат людям, старше его летами): так, в 4-м нумере «Современника» является статья Пекарского, его короткого приятеля, «О русских записках XVIII века» — эта статья, которая займет три нумера, является в свет благодаря неусыпным трудам «А. Н. Пыпина, молодого, но известного нашего ученого», как я называю его: он и рекомендовал ее, и поправил для печати. Автор, конечно, очень доволен своим другом. Сам «молодой и известный ученый» теперь занимается приготовлением для 2-го тома «Ученых записок» Русского отделения Академии наук исследования о чисто филологической стороне трудов А. Х. Востокова, продолжая в то же время окончательно обрабатывать свою диссертацию, которая, вероятно, возбудит всеобщий восторг в ученом мире.
Я надеюсь скоро напечатать свою несчастную диссертацию, которая столько времени лежала и покрывалась пылью. Эта жалкая история так долго тянулась, что мне и смешно, и досадно. И тогда я думал, и теперь вижу, что все было только формальностью; но формальность, которая должна была бы кончиться в два месяца, заняла полтора года. Это очень досадно. Конечно, если бы можно было предвидеть, что Никитенко, от которого зависело движение дела, будет беспрестанно болен — только в последнее время он поправился — то можно бы держать экзамен по другому предмету. Но кто ж это знал? И вот в результате оказывается, что все были ко мне добры в высшей степени, а дело
294
все-таки тянулось невыносимо долго. Но теперь оно уже дотянулось до окончания.
Прощайте, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш
Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
218
РОДНЫМ
12 апреля 1855 г.
Милый папенька! Ваше письмо от 2 апреля мы получили вчера — сутками ранее двух предыдущих. Знак, что дороги исправляются.
В Петербурге уже началась весна. Нева прошла, улицы сухи, на дворе тепло (по-здешнему), можно гулять, сколько душе угодно, и наш Сашенька вполне пользуется этою возможностью.
Мы все, слава богу, здоровы и попрежнему благополучны.
Брат Олиньки, Ростислав, повел в Новгород партию рекрут из удельных крестьян. Хотя ни она, ни я не имеем к нему особенного расположения, которого он и не заслуживает своим характером, однако же писали ему в Новгород, приглашая проехать сюда, погостить у нас несколько дней. Воспользуется он случаем видеть нас, или нет, его дело. Мы сделали, что следовало.
Целую Ваши ручки, милый папенька, и поздравляю Вас с именинницею. Сын Ваш Николай.
Милая тетенька! Поздравляю Вас от всей души с наступающим днем Вашего ангела, а Вас, милый дяденька, с дорогою именинницею, которой желаю здоровья и радости от всех детей, как, без сомнения, радует ее Сашенька.
У нас к Вам, тетенька, есть просьба. Марья, служившая в последнее время нам, на-днях умерла от тифа. Умирая, она просила, чтобы дочь ее, Анну, отпустили на волю и позволили ей выйти замуж за жениха, который нравился матери. Марья служила нам, говоря вообще, усердно; особенно усердно ухаживала она за Олинькою в прошедшем году во время продолжительной болезни. Нам хотелось бы исполнить ее просьбу. Сделайте милость, напишите, милая тетенька, возможно ли это.
Целую Вас, милые тетенька и дяденька, и Вас, милые сестрицы и братцы.
Ваш Н. Ч.
219
РОДНЫМ
19 апреля 1855 г.
Милый папенька! После слишком долгих проволочек мои дела по магистерству достигли окончания: диссертация моя уже печатается, и через три недели, вероятно около 10 мая, будет диспут.
295
Если бы я знал наперед, что это дело будет тянуться около полутора года, конечно, я стал бы держать экзамен по какому-нибудь другому предмету, а не по русской словесности; но если бы мне сказали наперед, что он будет тянуться полтора года, я не поверил бы этому. Но что делать, так расположились обстоятельства. В нынешнем 1854-55 году совершенно не было экзаменующихся на магистра по филологическому факультету — но, на мою беду, в прошедшем было их человек шесть или семь, и все были официально понуждаемы своими начальствами (попечителями разных университетских кругов) к скорейшему окончанию дела для возвращения к должностям. Один я был здешний и держал экзамен не по настоянию и не под покровительством министерства — следовательно, занятый другими магистрантами, факультет всегда отлагал мои экзамены — и для меня три заседания растянулись, вместо двух недель, на пять месяцев. Правда, эти заседания в сложности продолжались полчаса, но полчаса отняло почти полгода, и устные экзамены мои кончились, уже не помню, когда именно, но великим постом, и Никитенко отложил [рассмотрение] моей диссертации до каникул; во время каникул Норов начал поручать ему множество разных дел, — и ему было не до моих тетрадей. Потом он был болен, потом опять занят делами, потом опять болен, и эта история кончилась месяца полтора тому назад. Тут только началось рассмотрение диссертации, пролежавшей в пыли около года. С месяц потом употреблено было на чтение другими членами факультета, и только 11 апреля она была утверждена. Но теперь все случаи проволочек миновались, и делу предстоит конец. Заглавие моей диссертации «Об эстетических отношениях искусства к действительности»; величина ее — около 100 страниц большого формата и мелкого шрифта — последнее для того, чтобы обошлось дешевле печатание. Скучное дело ожидание, особенно, когда задержка от одной формы; потому что вся эта длинная [процедура] была чисто только формальностью.
Мы все, слава богу, живы и здоровы.
Ваше письмо от 8 апреля получили 17 апреля — почта все еще запоздала двумя днями.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
220
РОДНЫМ
[25 апреля 1855 г.]
Это подчеркнул я, чтобы оговорить — Олинька думает пополнеть на даче, а не лечиться, потому что, слава богу, лекарства никому из нас не нужны.
296
26 апреля[1855 г.]
Милый папенька! Вчера мы переехали на дачу, которую уступил нам М. К. Козачковский, дядя Олиньки. Дача довольно обширна и хороша. Переехали мы несколько рано — но погода стоит теплая и хорошая, потому нас нельзя осуждать за это, тем более, что так хотелось дяде, который скоро уезжает из Петербурга (в Саратов, по делам) и хотел пожить на даче до отъезда.
Я буду часто бывать в городе по своим делам; иногда будет надобно проживать в городе безвыездно дня по два. Потому иногда письма мои могут оставаться и без приписки от Олиньки, и адрес будет писан моею, а не ее рукою. Пишу это, чтобы Вы не обеспокоивались в подобных случаях, которых, однако же, мы постараемся избегать, сколько позволит мне время.
Квартира в городе, необходимая для меня и для Сашеньки, которому также необходимо часто бывать в городе, остается за нами, потому мы просим Вас писать по прежнему адресу.
Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
P. S. Печатание моей долговечной диссертации почти кончено. Ныне отправляю в типографию последний лист «корректуры», т. е. оттиска, в котором исправляются ошибки наборщиков. Послезавтра или в пятницу надеюсь видеть эту брошюрку готовою.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
221
РОДНЫМ
3 мая 1855 г.
Милый папенька! Я один в городе, потому один и пишу письмо. Олинька и оба Сашеньки на даче, потому ни она, ни они (ведь и младший Сашенька уж показывал Вам свои опыты в письменности) не успели написать с этой почтой. Только адрес на конверте заранее сделан рукою Олиньки.
Все мы, слава богу, здоровы.
Я в городе по делам о своей диссертации и о предстоящем диспуте. Диссертация напечатана, и экземпляр, назначенный для Вас, милый папенька, теперь переплетается. Через неделю, вероятно, буду иметь радость прислать его Вам.
Диспут будет, вероятно, около 10 мая. По крайней мере так обещали.
Диссертация для сокращения времени и издержек напечатана мною в большом формате и очень убористым шрифтом; кроме того, и для тех же целей, я значительно сократил ее (хотя цензура университетская не зачеркнула ни одного слова), когда рукопись была уже одобрена к печати. Потому вышло всего только 6½ печатных листов, вместо 20, которые были бы наполнены ею без сокращений и при обыкновенном разгонистом печатании. Внеш-
297
ность брошюрки очень прилична, шрифт и бумага хороши. Печатал я в типографии Праца, которая считается лучшею. Напечатал только 400 экз[емпляров], из которых, за удовлетворением университет[ских] требований (100 экз.) и раздачею разным знакомым, останется у меня около 250 — не знаю, успею ли сбыть их в книжные лавки, на что я, впрочем, и не рассчитывал. Во внешнем отношении она имеет ту особенность, что нет в ней ни одной цитаты — наперекор общей замашке шарлатанить этою дешевою ученостью. К числу особенностей принадлежит и то, что она писана мною прямо набело — случай, едва ли бывавший с кем-нибудь. Этим всем я хотел себе доставить удовольствие внутренно позабавиться над людьми, которые [не могут] сделать подобного. О содержании пока не пишу — это до другого письма. Заглавие Вы знаете: «Эстетические отношения искусства к действительности». Целую Ваши ручки. Ваш сын Николай.
3 мая 1855 г.
Милый дяденька! Честь имею поздравить Вас с днем Вашего ангела и пожелать Вам провести наступающий для Вас год в добром здоровье.
Вас, милая тетенька, поздравляю с дорогим именинником.
Вы извините Вашего многоуважаемого мною сынка, что он не посылает с этой почтой своего поздравления — он на даче, и его письмо не успело достичь города ко времени отхода почты; что он написал его, я не сомневаюсь, потому что он говорил мне, что напишет.
Сашенька трудится теперь над статьею о Востокове для Ученых записок Академии. Не знаю, писал ли он Вам о них, потому напишу. Изменения старославянского правописания, важные для истории ц.<-слав.> и русской литератур, до сих пор не были предметом связного ученого изложения. У Востокова приготовлены для этого материалы в «Описании Румянц. музея», но заметки эти отрывочны и бессвязны. Сашенька приводит их в систему и дополняет собственными замечаниями, так что в сущности его сочинение будет самостоятельным ученым трудом, первым по этому предмету. Он упрочивает свою репутацию дельного исследователя старинной русской литературы, быть может самого дельного между молодыми учеными.
Вас, милые сестрицы и братцы, также поздравляю с именинником. Целую вас. Н. Ч.
222
РОДНЫМ
10 мая [1855 г.], вторник.
Милый папенька! Ныне у меня назначен диспут. Не думаю, чтобы он был интересен, потому что предмет, о котором я писал, почти совершенно незнаком у нас. Вероятно, будут ограничивать-
298
ся мелочными замечаниями о словах или будут говорить что-нибудь, требующее в ответ не опровержений, а просто назиданий.
С следующей почтой напишу, как он происходил.
А теперь пока объясню примером моих приготовлений к диспуту весь ход моего длинного магистерства. До утра вчерашнего дня я занимался на даче переводом романа для «Отеч. записок». К обеду кончил и вечером хотел прочитать кое-что для диспута, хоть и знаю, что это вовсе не нужно — однако хотелось прочитать кое-что. Но — прочитать удалось всего несколько страниц, потому что надобно было отправляться в город, где хотел посвятить вечер продолжению своих ученых занятий для диспута. Однако же, приехав в город, нашел, что меня ожидают 9½ печатных листов корректуры «Современника» — надобно прочитать эти 9½ листов к следующему, т. е. нынешнему, утру. А на чтение каждого печатного листа корректуры нужно более часа. Я сел за это полезное чтение, просидел за ним до 12 часов, прочитал 5 листов и лег спать. Проснувшись, пишу это письмо, потом сяду дочитывать остальные 4½ листа. Если окончу до 12 часов, почитаю еще несколько страничек для диспута; если не успею, так и быть, убытка от этого никому не будет.
С следующею почтою пошлю Вам, милый папенька, экземпляр своего сочииеньишка — в петербургском переплете, так что форма книжки будет гораздо лучше содержания.
Ныне посылаю; для курьеза, пригласительные билеты на диспут. Потому и конверт не обыкновенной формы, чтобы не измять их, и адрес написан моею рукою, потому что Олинька на даче. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
Мы все, слава богу, здоровы и благополучны.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
Сашенька не успел приписать, потому что покоится сладким сном на лаврах своей учености.
223
РОДНЫМ
16 мая [1855 г.]
Милый папенька! Мы все, слава богу, живы и здоровы.
Ныне я в городе один, потому один и пишу это письмо, по отправлении которого уезжаю на дачу.
Письмо Ваше от 7 мая мы получили — оно пока прочитано еще только мною. Сейчас везу его на дачу Олиньке.
Диспут мой был во вторник, 10 мая, как я Вам писал поутру в этот день. Заключился он обыкновенным концом, т. е. поздравлениями, потому что диспут чистая форма. Никитенко возражал мне очень умно, другие, в том числе, Плетнев, ректор, очень глу-
299
по. Впрочем, и Никитенко повторял только те сомнения, которые приведены и уже опровергнуты в моем сочиненьишке, которое, как ни плохо, все же основано на знакомстве с предметом, почти никому у нас неизвестным, потому и не может иметь серьезных противников, кроме разве двух-трех лиц, к числу которых не принадлежит ни один из людей, мне известных. Диспут продолжался очень недолго, всего 1½ часа, потому что присутствовал попечитель Мусин-Пушкин, который добрый человек, но не совсем благовоспитан в обращении и поэтому всегда стесняет своим присутствием.
Я думал, что придется мне говорить что-нибудь дельное в ответ на возражения или, по крайней мере, по поводу их, но они были так далеки от сущности дела, что и ответы мои должны были касаться только пустяков. Одним словом, диспут мог для некоторых показаться оживлен, но в сущности был пуст, как я, впрочем, и предполагал. Не предполагал я только, чтобы он был пуст до такой степени.
Теперь буду готовить мало-помалу, сколько позволяет время, которого у меня очень немного, диссертацию на доктора — о чем, однако, не намерен распускать здесь слухов, пока она будет [готова]. Надобно бы и приготовить ее к ближайшему позволительному сроку представления, т. е. к следующему маю месяцу. Тогда у меня будут средства напечатать и большую книгу, если только буду здоров.
Переплеты еще не поспели к нынешней почте; потому пошлю свои книжки с следующею почтою, вероятно в четверг, так что посылка придет, быть может, раньше следующего письма.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
224
РОДНЫМ
24 мая 1855 г.
Милый папенька!
Ваше письмо от 14 мая мы получили и благодарим бога за то, что он утешает нас добрыми вестями.
Мы все также здоровы. Малютка наш начинает бормотать что-то похожее на слова и понимать то, что ему говорят. Житье на даче, или, лучше сказать, постоянные прогулки по саду, кажется, приносят и пользу и ему, и Олиньке.
А. Н. сделался совершенно дачным жителем и редко бывает в городе — однако же, к моему удивлению, не забыл прислать мне письмо к своим. Я бываю в городе чаще, раза два или три в неделю. Ныне приехала на несколько часов и Олинька, которая также бывает в городе редко.
300
Я надеялся послать Вам свое ученое произведение с нынешнею почтою и все еще не посылаю, потому что переплеты не готовы. Но это скоро сделается.
По делу милого брата Ивана Фотиевича И. Г. Виноградов обещался переговорить с своими синодальными знакомыми, и как скоро мы получим его ответ, я напишу Вам.
Конец апреля и начало мая были здесь очень теплы. Около 10 числа были холода; однажды выпадал даже снег. Теперь опять началась ясная и жаркая погода.
В газетах Вы читаете извещения о приближении англичан к Кронштадту. Теперь это не возбуждает здесь ни в ком уже ни малейшего опасения. Известно, что они даже не думают делать серьезного нападения на Кронштадт, жалея кораблей своих, которые погибнут даже в случае удачи почти все.
Напишу Вам, кроме того, что наша квартира в части города самой отдаленной от моря, так что на ней не будет слышно канонады, если они вздумают для формы начать канонаду, что может быть, а может и вовсе не быть. Что касается нашей дачи, она лежит на неизмеримом пространстве в глубь материка. Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милый дяденька и милая тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
225
РОДНЫМ
31 мая 1855 г.
Милый папенька! Пишу Вам из города, куда приехал на неcколько часов. Олинька еще почивала, когда я отправился, потому ее приписки нет в этом письме.
Мы все, слава богу, здоровы.
Жить на даче здорово и довольно приятно. Наша дача имеет ту очень важную выгоду, что сnоит среди сада, большого и хорошего — он занимает несколько десятин. В этом саду (Беклешовском) бывает по воскресеньям музыка и небольшое гулянье. Часть, примыкающая к нашей даче, отгорожена палисадом, так что мы в ней совершенно отделены от других.
Олинька гуляет очень много; маленький Саша также постоянно играет в саду, когда позволяет погода, которая уж три или две с половиною недели стоит очень хорошая.
В Петербург приехал Квятковский, который однажды был у нас и хотел побывать еще — он знаком с Сократом Евгеньевичем; кажется, и Вы его знаете, милый папенька, он рассказывал, что перед отъездом был у кого-то, и кто-то просил его побывать у нас — но кто именно, я не понял из его рассказа, — вероятно, Сократ Евгеньевич.
301
Был у нас на даче и Иван Григорьевич, который просил передать Вам его глубокое почитание.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
226
РОДНЫМ
6 июня 1855 г.
Милый папенька! Всю эту неделю я прожил на даче, и в городе не был уже несколько дней; потому и письмо Ваше, пришедшее без сомнения в субботу, еще не прочитано нами.
С этою почтою успел я, наконец, отправить Вам книги — несколько экземпляров своей брошюрки и книжки «Отеч. зап.» и «Современника» за февраль — май месяцы. Жаль, что не успел вложить июньских книжек, в которых помещены разборы моей брошюрки, из которых один писан мною — в «Современнике». Разбор в «Отеч. зап.» писан одним из людей, мне знакомых, но писан в насмешливом роде, и некоторые места довольно удачны, так что позабавили меня на мой собственный счет — действительно, я осмеял столько книг и книжек, что было бы несправедливо, если б и моя не была осмеяна. Впрочем, эти насмешки, которым я подвергаюсь под собственным именем, далеко не первые, писанные вообще против меня — из статеек, направленных на меня в разных журналах, можно было бы составить книгу порядочной толщины. Долг платежом красен, и я за то нисколько не в претензии.
Жаль также, что в числе экземпляров, назначенных родным и знакомым (которым передать их прошу Вас, милый папенька — Федору Степановичу, конечно самих, а другим через Сереженьку) — жаль, что я забыл вложить экземпляр Палимпсестову — он приготовлен был к отсылке с одним из его знакомых, находящимся здесь.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
Свидетельствую свое глубочайшее почитание милому крестному папеньке.
227
РОДНЫМ
13 июня 1855 г.
Милый папенька! Ваше письмо от 3-го июня мы получили в субботу 10 июня. Слава господу, хранящему нас под своим покровом!
302
Мы все, слава богу, здоровы и, пользуясь хорошим временем, неутомимо гуляем.
На прошедшей неделе мне удалось, наконец, послать Вам свое произведение. На этих днях посылаем с Веденяпиным июльские книжки «Отеч. зап.» и «Современника».
Попрежнему в газетах Вы читаете известия об англо-французском флоте в Финском заливе. Он столько же теперь пугает петербургских жителей, как если бы стоял в Портсмутской гавани или в Атлантическом океане. Мы знаем, что Петербургу они даже не покусятся наносить вред, потому что это невозможно.
Целую тысячу раз Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш
Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
228
РОДНЫМ
22 июня [1855 г.]
Милый папенька! Спешу послать письмо на почту и потому едва успею написать несколько строк.
Впрочем, много писать почти и нечего — у нас все идет по-старому; мы живы, здоровы и, по возможности, счастливы.
Здесь были Горбуновы — ныне они уезжают. Николай Максимович обещался быть у Вас. Квитковский также хотел быть у Вас. Кроме того, скоро поедет в Саратов Веденяпин, офицер тамошнего гарнизона.
Ваше письмо от 12 июня мы получили в пятницу.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
Июньские нумера журналов Вы получите от Квитковского, который уехал отсюда в воскресенье и в конце месяца должен быть уже в Саратове.
229
РОДНЫМ
28 июня 1855 г.
Милый папенька! Пишу Вам опять один из города, куда поехал рано поутру, когда все остальные в доме еще почивали.
Покорно благодарю Вас за подарок Ваш — но моя книжка не стоит его. Она писана чрезвычайно поспешно, прямо набело, и некоторые изменения в словах сделаны уже только в корректуре.
У нас еще очень мало людей, знакомых с нынешним положением наук; все сведения людей, не принадлежащих к числу записных ученых, почерпаются обыкновенно из французских журна-
303
лов, особенно из Revue des deux Mondes; записные ученые знают только книги, вышедшие назад тому двадцать лет; новые дойдут до них разве еще через двадцать лет. Потому никто не понимает, если заговорить так, как говорят истинные немецкие или английские ученые. В некоторых разборах моей книжки (читанных мною, впрочем, очень бегло, потому что они не стоят внимания) это обнаружилось самым забавным образом: самые простые и несомненные мысли кажутся разбирающему странными, каждый приписывает их исключительно мне, тогда как они столько же изобретены мною, как мысль, что поутру всходит, а вечером заходит солнце. Вообще нет ничего забавнее наших ученых и полуученых людей. Их нужно бы переучивать с азбуки. Отчасти я делаю это, насколько то возможно, в разных статьях, и пресмешно видеть, как эти статьи приводят их в недоумение. Но вообще надобно сказать, что они люди, хотя и ограниченные, но добрые и готовы соглашаться с правдою, когда втолкуешь им ее — что, впрочем, делается не сразу. Так, например, на-днях был очень забавный случай. У нас начали было толковать, что нужно, уча детей грамматике, преподавать им ужасные мудрости, известные под именем филологии, общесравнительной и исторической. В нескольких статейках, по поводу грамматик, написанных с этими премудростями, я объяснял, что это нелепо — и вчера Срезневский, один из главнейших представителей филологического направления, сказал мне: «А к чему же, наконец, приведет филология?» — «Ни к чему», — отвечал я, и он сказал: «Да, правда» — конечно, он не навсегда сохранит такой взгляд; старинное пристрастие увлечет его, но все-таки мои объяснения принесли и ему некоторую пользу; а другие читатели убеждаются еще легче. То же самое было с пристрастием к библиографии, которое теперь также упадает, отчасти при моей помощи. У нас можно — конечно, мало-помалу — делать кое-что, чтобы направлять читателей, даже таких, которые считают себя знатоками дела. Это поддерживает и охоту толковать с ними; иначе не стоило бы труда.
Мы все, слава богу, здоровы. Я тороплюсь отправить письмо на почту, потом сам отправиться на дачу.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
230
РОДНЫМ
[3 июля 1855 г.]
Милый папенька! Честь имею поздравить Вас с днем вашего ангела; буду молиться богу, чтобы и этот день и год, начинающийся им для Вас, и все следующие годы проведены были Вами в радости и здоровье. Буду молить бога и о том, чтобы он наста-
304
вил нас и дал нам с Олинькою доставлять Вам утешение. О, если бы его милость позволила нам приехать на следующий год лично поздравить Вас с днем Вашего ангела!
Нынешний раз мы будем праздновать его в разных городах, но как и всегда, как и каждый час, я буду мыслями в Саратове, которого, можно сказать, никогда не оставляли они — разве только в минуты сна без сновидений.
О, как счастлив был бы я, если бы удалось на следующее лето приехать к Вам и... да пошлет бог эту возможность!
Тысячу раз, миллион раз целую Ваши руки, обнимаю колена Ваши, милый, неоцененный, добрый папенька. Сын Ваш Николай.
P. S. Мы все, слава богу, здоровы. Олинька на прошедшей почте послала Вам ко дню ангела свой подарок — она хотела сшить здесь камилавки, но не было мерки.
Прошу Вас, милый папенька, пришлите нам ее, чтобы Олиньке можно было исполнить это желание.
Просим Вас также прислать мерку Вашей рясы и полукафтанья — Олиньке очень хочется сшить здесь самой эти вещи — она мастерица шить.
Александр Федорович и Иван Григорьевич поздравляют Вас также со днем Вашего ангела, милый папенька. Целую Ваши ручки.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы, и поздравляю с дорогим именинником, которого прошу поцеловать за нас.
231
РОДНЫМ
11 июля 1855 г.
Милый папенька! Честь имею еще раз поздравить Вас с днем Вашего ангела и пожелать Вам доброго здоровья и радости.
Мы все, слава богу, здоровы.
Собираемся праздновать нынешний день в кругу двух-трех знакомых и родных.
Ha-днях я был у Ивана Григорьевича, чтобы напомнить ему об Олинькиных именинах и просить его на этот день к себе. Он обещался, хотя ему почти совершенно некогда — он, бедный, так занят делами, что часто принужден не спать целые ночи. Особенно заняты у него бывают суббота, воскресенье и понедельник, потому что он во вторник имеет доклад, к которому и должен готовиться в эти дни. Но он был так добр, что все-таки обещался быть у нас ныне.
Новостей в Петербурге нет. Теперь все убедились, что союзный флот не только ничего не сделает, но и не решится ничего предпринять в Балтийском море. Потому перестали даже говорить
20 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
305
19
О нем. Общее внимание и в Петербурге, как везде, занято исключительно Крымом, откуда в последнее время получались вести благоприятные.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
P. S. Сейчас получили мы, вместо письма, посылку — конечно от Вас, милый папенька. Как Вы добры к нам!
232
РОДНЫМ
22 августа 1855 г.
 Мы,
наконец, переехали с дачи в город, скорее, нежели рассчитывали, потому что
погода сделалась холодна и Олинька боялась простудить нашего малютку, оставаясь
долее в Лесном институте. Потому мы оставили его в субботу и теперь живем на
новой квартире, адрес которой (в Поварском переулке, близ Владимирской, дом
Тулубьева) я сообщил Вам, милый папенька, в предыдущем письме.
Мы,
наконец, переехали с дачи в город, скорее, нежели рассчитывали, потому что
погода сделалась холодна и Олинька боялась простудить нашего малютку, оставаясь
долее в Лесном институте. Потому мы оставили его в субботу и теперь живем на
новой квартире, адрес которой (в Поварском переулке, близ Владимирской, дом
Тулубьева) я сообщил Вам, милый папенька, в предыдущем письме.
Нынешняя наша квартира расположена следующим образом — очень удобным для нас.
 Ростислав
Сокр. живет у нас, потому нужно было для него лишнюю комнату. Квартира эта в
4-м этаже по хорошей лестнице и вообще устроена довольно хорошо.
Ростислав
Сокр. живет у нас, потому нужно было для него лишнюю комнату. Квартира эта в
4-м этаже по хорошей лестнице и вообще устроена довольно хорошо.
Рост. Сокр. пока держит себя очень скромно, потому что видит в этом свою выгоду, потому я и согласился иметь его своим сожителем. Приемный экзамен он почти кончил и очень удачно. Если будет он продолжать жить, как мы живем, то есть добропорядочно, может оставаться у нас — если нет — не может. Он это знает и пока держит себя сообразно таким условиям.
Некрасов приехал и начал заботиться о приискании для меня места в департаменте уделов или по военному министерству — пока не кончится это, разумеется, я никому не говорю о своих расположениях относительно службы.
Мы все, слава богу, здоровы. Малютка наш растет и веселит нас.
306
У меня на эти дни накопилось столько дела, благодаря двойному переезду — с старой квартиры и с дачи — что я пишу чрезвычайно наскоро.
В следующий понедельник надеюсь быть свободнее.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
Александр Федорович свидетельствует Вам свое глубокое почитание.
233
РОДНЫМ
27 сентября 1855 г.
Милый папенька! Ваше письмо от 17 сентября показало нам, как серьезна была болезнь Вашей руки. Слава богу, что она миновалась! И дай бог, чтобы подобные опасности не тревожили Вас и нас более!
В Петербурге началась совершенная осень: каждый день идет дождь, хотя по петербургскому обыкновенному бессилию своему не может продолжаться по нескольку дней беспрерывно и по нескольку раз в день приостанавливается, чтобы собраться с силами.
Мы живем, слава богу, тихо и безмятежно. Ростислав пока не подает причины к неудовольствиям: Олинька внушила ему с первого раза, что здесь, в нашем семействе, его прежние привычки неуместны и должны быть оставлены. Если он будет продолжать жить и держать себя, как ныне, то это будет для него полезно и [не] подаст нам повода к неприятностям.
На-днях мы несколько раз виделись с Иваном Григорьевичем. Он ужасно много работает по службе и в неделю имеет только один вечер свободный — все остальное время пишет, часто до двух, трех часов ночи. Такая египетская работа его утомляет, и он в последнее время начал думать о перемене места службы. Но и об этом хлопотать ему некогда, как должно — на все необходимо иметь свободное время, даже на то, чтобы думать о своих делах.
Другие находят возможность служить с гораздо меньшими трудами, например, Александр Федорович: — он и сочиняет разные статейки (в «Отеч. зап.» с февраля нынешнего года он составляет «Современную хронику»), и каждый почти вечер бывает где-нибудь и считается одним из лучших чиновников своего департамента. Он свидетельствует Вам свое глубокое почитание.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
20*
307
234
РОДНЫМ
19 декабря 1855 г.
Милый папенька! От всего сердца желаю Вам встретить и проводить наступающие праздники в душевной радости, в спокойствии и в здоровье телесном. Я встречу их молитвою об этом, и о том, чтобы в новом году, который наступит скоро, для Вас и для нас было суждено увидеться в Саратове — чего не принес нам истекающий год. Но канун этих праздников — день, который еще более должен быть для меня посвящен молитвам...
Мы все, слава богу, здоровы. Ваш маленький внучек растет и благоденствует и совершенствуется. В последнее время он начал говорить не отдельными словами, как прежде, а выражениями, довольно полными и правильными. Невозможно и передать, как это радует Олиньку, которая души в нем не слышит и почти целые сутки проводит с ним. Правду сказать, он ей и сам не позволяет отлучаться от него. Когда у нас кто-нибудь бывает, и она оставит его хоть на полчаса, он уже начинает неотступно требовать, чтобы мама пришла к нему, или его пустили туда, где мама. Пользуясь теплою погодою, которая стояла в эти дни, его выносили гулять и кататься, — он у нас очень любит гулять, но еще больше любит перевертывать листы в книгах, — вероятно хочет быть ученым человеком.
Третьего дня, неожиданно для себя и для нас, был у нас Г. С. Воскресенский. Он искал какую-то г-жу Татаринову, которая с полгода назад жила в той квартире, которую теперь занимаем мы. Каково было его удивление, когда ему отвечал слуга, что «здесь живет Чернышевский». — «Неужели мой ученик?» — «Он самый», — отвечал я, узнав его голос и выходя к нему навстречу. Впрочем, он говорит, что и без того хотел быть у нас и у Ивана Григорьевича. Он пробудет здесь очень недолго — только до 26 декабря, однако же обещался побывать у нас в один из немногих вечеров, которые остаются у него свободны.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Милая сестрица Евгеньичка! Поздравляю тебя с днем твоего ангела и желаю тебе здоровья и всего лучшего.
Вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы, поздравляю с именинницею и с наступающим праздником.
235
РОДНЫМ
3 января 1856 г.
Милый папенька! Вот и новый год наступил! Дай боже, чтобы он был проведен Вами и нами в добром здоровье и тишине!
Мы встретили новый год у М. К. Козачковского, дяди
308
Олиньки, на даче, близ Лесного института, где жили летом, — М. К. оставался там и только на-днях переезжает в город. Нас было только свое семейство, и потому время прошло довольно приятно. На первый день нового года М. К. и его семья обедали у нас.
Г. С. Воскресенский уехал в Саратов и, вероятно, приедет туда вместе с этим письмом.
Г. М. Шапошников вчера вечером сидел у нас. Он говорил в том смысле, что получает место здесь в Петербурге.
У г-жи Юрьевичевой хотел я быть на Новый год — но не застал ее в городе, как и прежде — зайду на-днях еще. Когда-нибудь застану же.
У нас в предыдущем месяце носились слухи о близком мире, — теперь они рассеялись, как преждевременные. Все воюющие державы хотят мира, но еще не утомлены войною до такой степени, чтобы сделать ради него важные уступки в своих требованиях.
У нас повсюду делаются самые обширные приготовления к продолжению войны. На арсеналах день и ночь работают, делая пушки, на оружейных заводах — готовят ружья и проч. Войска у нас теперь, по верным словам чиновников военного министерства, до 2 500 000 человек.
Между тем государь деятельно занимается внутренними улучшениями по гражданской части. Все единогласно признают в нем самое искреннее и мудрое стремление к тому, чтобы улучшить администрацию, и все единодушны в привязанности и признательности к нему.
Все также превозносят высокий ум и благие намерения государыни, его супруги. От ее влияния на государя ожидают всего хорошего.
Общее уважение разделяют с ними великий князь Константин Николаевич, одаренный твердым характером и сильным желанием добра.
Вообще, несмотря на войну, все ожидают для России много хорошего в наступающие годы. Самая война во многих отношениях полезна для государства, служа причиною многих улучшений. Дай бог, чтобы это было так.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы. Свидетельствую мое глубочайшее почитание доброму крестному папеньке и Алексею Тимофеевичу.
236
РОДНЫМ
10 января 1856 г.
Милый папенька! Ваше письмо от 29 декабря мы получили в пятницу 6 января, вечером, и сердечно благодарим Вас за Ваши
309
желания нам — дай бог, чтобы они исполнились. Теперь Г. С. Воскресенский, вероятно, уже приехал в Саратов и виделся с Вами. Он расскажет, как видел нас.
В воскресенье обедали у нас Иван Григорьевич и Александр Федорович, — они свидетельствуют Вам свое глубочайшее почитание.
Мы все, слава богу, здоровы.
Пишу Вам известие о мире, потому что, быть может, это письмо получится ранее, нежели будет перепечатана в русских газетах официальная статья Journal de Saint Pétersbourg от 8 января. Предложения, присланные союзными державами с австрийским посланником Эстергази, приняты нашим кабинетом; известие это было сообщено по телеграфу в Париж; французский и английский кабинеты изъявили свою полную радость, и когда телеграфическое известие об этом было получено в Петербурге, наше правительство обнародовало эту отрадную для всех европейских держав новость.
Предложения, принятые нами, не отличаются, по словам Journal S. Pét., ничем существенным от условий, которые мы предлагали на венских конференциях прошедшего года.
Итак, все воюющие державы согласились в условиях мира. Остается только дать статьям этим окончательную редакцию — единодушные в деле, конечно, обе стороны не прервут мирных переговоров из-за слов.
Итак, надежды на близкое заключение мира очень тверды. Дай бог, чтобы весна 1856 года увидела тишину на полях брани, — и, по всей вероятности, этого надобно ждать.
Прощайте, до следующей почты, милый папенька. Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
237
К. И. ВУЛЬФУ
[Конец июня 1856 г.]
Если можно, я просил бы вас, Карл Иванович, приготовить для меня корректуру к 12½ часам утра завтра, т. е. в понедельник. Я тогда зайду в типографию, — мне хочется показать фельетон Николаю Алексеевичу.
Ваш покорнейший слуга
Н. Чернышевский.
310
238
Н. В. ВЕДЕНЯПИНУ
Милостивый Государь
Николай Владимирович,
Ольга Сократовна писала ко мне несколько раз, что если в Саратове очень весело проводит она время, то более всего обязана этим вашей дружеской любезности и обязательности. Искренно благодарю вас за расположение к вашей кузине и прошу вас быть уверенным в моей глубокой признательности.
Ha-днях я получил письмо от Александра Ник. Кобылина. Он пишет, что все их семейство очень хорошо помнит вас, и что когда он и другие находят, что в Саратове было для них лучше и веселее, нежели в Киеве, то это происходит между прочим от того, что в Киеве они не нашли таких добрых знакомых и друзей, каким были для них вы. Я охотно верю его словам.
Вероятно, для вас не будет новостью известие, что в Саратове назначено стоять квартирами 17-ой пехотной дивизии, — тогда- то начнутся в Саратове балы! Число свадеб увеличится по крайней мере вдвое. Быть может, и вам придется исполнять должность шафера у ваших кузин Аничковых.
Прошу вас принять уверение в моей совершенной преданности и считать вашим покорнейшим слугою
искренно признательного вам
Н. Чернышевского.
1 июня 1856. СПБ.
239
Н. А. НЕКРАСОВУ
24 сентября 1856.
Душевно поблагодарив Вас за письмо, которое получил я от Вас, Николай Алексеевич, прежде всего отдам Вам отчет в составе IX и Х книжек «Современника».
В IX книжке помещено 12 рассказов Даля — потому что ни Григорович, ни Островский не приготовили тех произведений, которые предполагалось поместить в этом нумере. Григорович, по его словам, не написал ничего, живши у Дружи[ни]на, потому что Дружинин возмущал и расстраивал его своими нападениями на «тенденции, которыми заразилась литература от Белинского». Он обещался приготовить свои (обещанные к IX №) рассказы к № Х, но все еще не приготовил; хорошо будет, если пришлет их хотя к № XI (чего можно и не надеяться). Однако он продолжает твердить о том, что надо работать и что он будет работать неутомимо.
Зато совершенно нельзя винить в неаккуратности Островского: повесть была у него почти готова, когда он, несчастный, сломил себе ногу; и до сих пор лежит он в постели, жестоко стра-
311
дая. Однако он пишет, что пришлет повесть в конце сентября или начале октября, если только его мучения не сделаются еще невыносимее, нежели теперь.
Толстой еще не прислал своей «Юности». Но Тургенева Вы поблагодарите — он прислал «Фауста». Повесть эта будет в Х книжке. Она подписана Бекетовым совершенно без всяких помарок. Объем ее 2¼ листа.
В этих обстоятельствах необходимо было употребить в дело перевод Струговщикова. Он уступил его за 400 р. сер. (и 600 экз. в его пользу — что делать, Вы не осудите этой прибавки, вынужденной недостатком материала для I отдела). Перевод во многих местах очень не лишен поэзии, и вообще довольно близок к подлиннику, так что может назваться хорошим. Он печатается в Х книжке — мне не нравятся два «Фауста» рядом — не потому, чтобы это было дурно для публики, напротив — но Тургеневу это, может быть, не понравится. Вы оправдайте «Современник» перед ним в этом совершенною необходимостью — что же было поместить, кроме Струговщикова? Я отчасти думал (вследствие недостатка материалов) о «Записках» Надеждина, но опасался, что это не понравится Вам. Рассказы Даля — ни то, ни се; печатать их сряду в двух книжках помногу мало Пользы. Притом же нужно иметь что-нибудь в запасе.
На XI книжку — вероятно, пришлет свою повесть Толстой; быть может, пришлет и Островский — если бы так, книжка была бы великолепна; есть надежда и на Григоровича, хотя довольно слабая. Раньше рождества, признаюсь, трудно ждать от него чего-нибудь.
Итак, на XI № до сих пор — только надежды и ожидания. В руках — только одни рассказы Даля.
Виделся я с Колбасиным — он пишет повесть («Добрый человек» или «Благотворитель» или что-то в этом роде), которой начало, по его словам, Вам понравилось. Дай бог, чтоб она была хороша. Но если она будет хороша, он, имея сбыт в «Библиотеку», меньше 50 р. сер. не возьмет, хотя, конечно, при равной цене всегда предпочтет «Соврем.».
Панаев говорил, что к XI номеру ждет повесть Авдотьи Яковлевны.
Повести, как видите, в настоящую минуту очень нужны. Не знаю, что будет через две недели — выведут ли из затруднения Толстой, Остр[овский] и Григорович или опоздают. Мы будем ждать их присылок до 20 числа (октября), если не получим раньше.
IX книжка при рассказах Даля, вышла более хороша, нежели дурна; Х книжка при «Фаусте» Тург[енева] и переводе Струговщикова положительно хороша. Надобно надеяться, что и на XI книжку будут во-время получены из трех или четырех ожидаемых вещей хотя две, с которыми она будет хороша.
312
В IX № напечатаны три Ваших стихотворения, «Ивы и березы» Фета. В Х № — присланное Вами стихотворение (без опечаток, по Вашему желанию) и «Последнее слово» Фета. Кстати, Фет прислал записки о своем путешествии довольно порядочные (по словам Ив. Ив. — я еще не читал). Если «Словесность» не будет нуждаться в материалах, они напечатаются в «Смеси»; если материала будет мало, и «Записки» действительно порядочны, то в «Словесности».
В науках — в IX № статья Журавского о железных дорогах и окончание статьи о «Собеседнике». Кстати: статья (в библиографии) о Педагогическом институте произвела прелестнейший эффект, так что я решительно конфужусь от похвал, которыми осыпают меня за нее (она приписывается мне). В № Х — моя 1-ая статья о Лессинге (Введение и обзор государственного быта Германии в половине XVIII века, — я делаю этот обзор потому, что литературу немецкую показываю как двигательницу государств. жизни, — стало быть, нужно видеть, в каком состоянии застала литература госуд. жизнь. — Во 2-ой статье будет обзор нем. лит. до Лессинга и начало биографии самого Лессинга. По возможности, пишу с приноравливаниями к нашим домашним обстоятельствам, хотя не упоминаю о том ясно). Статья Савинича (давно набранная) о Черноморской компании (статья Языкова о железн. дорогах запрещена Чевкиным).
В критике — в IX № моя статья (6-ая) о гогол. периоде (Белинский), в Х № — тоже (7-ая), в XI или XII будет 8-ая и последняя.
В «Смеси»: IX № «Бальзак»; «Англ. комики XVII века» (Маколея), «Народный быт в Сев.-Вост. России» (записки о Малмыжском уезде), Осокина — прекрасная статья (жаль, что 2-ая статья в Х № задержана для доклада министру, потому что говорит о народных поверьях — но, вероятно, будет разрешена к XI №).
В № Х — повесть Теодора Пави из быта египетских феллахов. — Начинаются «Рассказы из английской истории» по Маколею (их под моим руководством будет составлять Пыпин — мне очень хотелось составлять самому, но решительно нет времени).
Заметки о петерб. жизни.
В заметках о журналах: IX № — об отчете министра народного просвещения; о «Переселенцах» Григоровича. В Х № — о статье Безобразова (в «Русск. Вестн.»), относительно характера наших поселян, — это написано в хорошем духе; — о «Губернских очерках» Салтыкова, которые написаны плохо, но замечательны содержанием, вроде Капнистовой «Ябеды» («Губернск[ие] оч[ерки]» также в «Русск. Вестн.»).
Теперь относительно надежд на будущий год.
Объявление о контракте с Григ[оровичем], Остр[овским], Тол-
313
ст[ым] и Тургеневым должно произвесть сильное действие, по мнению читателей, с которыми я встречался.
По отзывам провинциалов, в нынешнем году «Соврем.» считался интереснейшим из журналов, — по беллетристике конечно. Но «Русский вестник», как вообще я слышал, также занимает публику. Об «Отеч. зап.» не говорит никто. Они, по общему мнению, склоняются к падению. Их соперничество, кажется, не опасно.
Дружинин был у Панаева с изъявлениями приязни и миролюбия; по словам Григоровича, он готовится поражать тенденцию и проповедывать чернокнижие в словесности, науках и критике — насколько тут правды, не знаю, но правда есть. Он, вероятно, начнет страшно изобличать мою неблагонамеренность, и Григорович говорит, что уже написал (Друж[инин]) статью в этом духе. Бог с ним, пусть его ратует, если ему это нравится. Я, конечно, не думаю, чтобы из-за этого стоило враждовать с ним. Когда увижусь с ним, скажу ему, что хотел бы написать о Ваших стихотворениях статью для «Библиотеки» — но согласится ли он? Впрочем, я не знаю, что может быть для Вас интересного в моих мнениях — ведь они Вам должны быть известны, хотя я и не говорил в последнее время ничего с Вами о Ваших стихотворениях.
Вы говорите;
Нет в тебе поэзии свободной.
Мой тяжелый, неуклюжий стих.
Вам известно, что я с этим не согласен. Свобода поэзии не в том, чтобы писать именно пустяки, вроде чернокнижия или Фета (который, однако же, хороший поэт), — а в том, чтобы не стеснять своего дарования произвольными претензиями и писать о том, к чему лежит душа. Фет был бы несвободен, если бы вздумал писать о социальных вопросах, и у него вышла бы дрянь; Майков одинаково несвободен, о чем ни пишет — у него все по заказу: и антологич. стихотворения, и «Две судьбы», и «Клермонтский собор». Гоголь был совершенно свободен, когда писал «Ревизора» — к «Ревизору» был наклонен его талант; а Пушкин был несвободен, когда писал под влиянием декабристов «оду на вольность» и т. п., и свободен, когда писал «Клеветникам России» или «Руслана и Людмилу» — каждому свое, у каждого своя свобода. Я свободен, когда не ем телятины (если вы помните) — у другого это было бы принуждением, и он свободен, когда ест телятину, не стесняясь моими вкусами. В этом и состоит свобода, чтобы каждый делал то, что требуется его натурою.
Ваша натура имеет две потребности — одна выражается пьесою
Давно, отвергнутый тобою...
и некоторыми другими; другая — большею частью ваших пьес. Из них ни одна не писана против влечения натуры — стало быть, талант ваш одинаково свободен в том и другом случае.
314
Теперь: тяжелый и неуклюжий стих. Тяжестью часто кажется энергия, поэтому говорят, что стих Лермонтова тяжелее стиха Пушкина, что решительно несправедливо: Лермонтов по достоинству стиха выше Пушкина. То же скажу я и о Вас. В чем состоит неуклюжесть Вашего стиха, я решительно не понимаю. У Пушкина есть много стихов негладких — что ж из того следует? Ровно ничего. У Лерм. их меньше — ну, тем лучше. У вас негладких стихов, быть может, больше, чем у Лерм., но решительно меньше, нежели у Пушк. Это не парадокс и не следствие безвкусия моего или пристрастия — чтобы судить о поэзии, нужен вкус, а судить о легкости стиха одинаково может человек со вкусом и без вкуса (если у меня его нет) — это качество, очевидное для всякого.
Теперь, о степени таланта. По моему мнению, Вы сделаете гораздо больше, нежели сделали до сих пор — Ваши силы еще только развиваются. Вы — как поэт — человек еще молодой. Что выйдет из Вас со временем, я не могу сказать, хотя имею основания предполагать разные приятные вещи. Но будем говорить о том, что сделано и уже дается Вашею книгою.
Сочинения Лермонтова и Кольцова доказывают, что у этих людей талант был сильнее, нежели у Пушкина. Как поэты-художники, они должны считаться или равными ему или (по-моему) выше его. Но влияния на литературу и публику они имели меньше (Кольцов ровно никакого).
Вы на публику имеете влияние не менее сильное, нежели кто-нибудь после Гоголя. Решительно затмевать собою всех остальных, как затмевали Пушкин, Лермонтов, Гоголь — Вы не имеете до сих пор права и не затмеваете — то есть, я говорю не о поэтах, вроде Майкова, Фета и т. п., а о прозаиках, особенно Тургеневе и Толстом: они разделяют с Вами внимание или публики (Тургенев) или, по крайней мере, литераторов (Толстой). Но — извините за правду — все-таки первое место в нынешней литературе публика присваивает Вам, как ни обидно это мне за Тургенева. Вы чувствуете, что публика права в этом случае: у Вас действительно больше таланта, нежели у Тургенева или Толстого.
Я пишу откровенно — конечно, печатным образом так резко нельзя говорить, и особенно проводить сравнение между Вами и прозаиками нет надобности. Но тут, в письме, почему не говорить без церемонии — что Вы одарены талантом первоклассным, вроде Пушкина, Лермонтова и Кольцова.
Есть ли у Вас слабые стихотворения? Ну, разумеется, есть. Почему и не указать их, если бы пришлось говорить о Вас печатно? Но собственно для Вас это не может иметь интереса, потому что они у Вас — не более, как случайности — иногда напишется лучше, иногда хуже, — как Виардо иногда поет лучше, иногда хуже — из этого ровно ничего не следует, и она ровно ничего не выиграет, если ей скажут, что 21 сентября она была хороша в
315
«Норме», а 23 сентября в той же «Норме» была не так хороша — она просто скажет: значит, 23 сент. я была не в голосе, а 21 сент. была в голосе — это просто случай, а не следствие какой-нибудь ошибки или недостатка.
Скажу еще вот что: есть люди, которым критика может быть полезна, — это те, которые способны подчиняться чужому мнению. А для Вас это невозможно, потому что не нужно. Для таких людей, как Вы, только один выбор: или замолчать, если им не сочувствуют, или говорить, как они сами хотят. Конечно, когда находишь сочувствие, то говоришь с большею охотою, — но Вы, конечно, не нуждаетесь в убеждениях, что Вам сочувствуют и очень сильно сочувствуют.
Правда, и людям самостоятельным критика может быть полезна, когда в состоянии обнаружить недостатки в их убеждениях (только в убеждениях, в понятиях о жизни) и заставить их вернее смотреть на жизнь — но в этом отношении Вам опять-таки критика вовсе не нужна: я не знаю, какие ошибочные убеждения нужно было бы Вам исправлять в себе.
Я написал столько, что чувствую надобность сделать множество оговорок относительно написанного. Во-первых, не поймите моих слов так, что я уклоняюсь от исполнения Вашего желания, чтоб я написал о Вашей книге. Напротив, для меня это было бы (или будет, если Друж[инин] согласится) очень приятно, по многим причинам — и, между прочим, потому, что предмет для меня интересен.
Во-вторых, не подумайте, что я пишу комплименты, как Вы выражаетесь. Да нет, Вы этого не подумаете. В-третьих, что если я напишу о Вашей книге, то напишу панегирик. В-четвертых, что если я стану писать о Вашей книге, то не соблюду приличий, которых не считаю нужным соблюдать в письме — то есть, конечно, я не буду употреблять слов: Пушкин, Тургенев и т. д.
Вы спрашиваете, что известно мне о времени, когда появится ваша книга. — Ни я, ни Вульф определительно не знаем этого. Вульф знает только, что она печатается, и думает, что в начале октября она будет уже выпущена в свет.
В числе оговорок я забыл самую важную: не сердитесь за то, что вообще я распространился в письме о своих мнениях относительно Вашей книги, — об этом Вы вовсе не просили меня. Но я не знаю еще, придется ли мне печатно поговорить о Вашей книге. Я сомневаюсь, чтобы Дружинину понравилось мое мнение о Вас.
И опять новая оговорка: из слов моих о Друж[инине] не заключите, что я враждую против него, как прежде. Нимало: дай бог ему писать и повести (лишь бы только хорошие), и ученые рассуждения, и все на свете, я совершенно готов хвалить его в глаза и за глаза, печатно и словесно, и рад даже обниматься с ним, а заводить ссору вовсе не намерен. Он теперь безвреден, по-
316
тому что его никто не слушает и не читает — чего же другого и можно желать ?
С Ив. Ив. Панаевым я в самых дружелюбных и удовлетворительных отношениях и не думаю, чтобы представился случай к несогласиям. Конечно, если Вы будете писать к нему, то я Вас прошу слегка говорить о том, чтобы он советовался со мною — Вы знаете, что я по характеру еще хуже его, так что без поддержки с Вашей стороны могу даже ему подчиняться, тем более, что его деликатность только усиливает врожденную мою склонность к уступчивости в разговоре. До сих пор я совершенно доволен своими отношениями к нему. Не знаю, доволен ли он мною, но, вероятно, доволен, потому что до сих пор мы во всем соглашались. Видимся мы часто.
Вы пишете, что не скучали Европою ровно восемь дней, — и то хорошо. Я, признаюсь, и этого не ожидал. Но южная природа не должна наскучить никогда. Я не особенный любитель природы — но все-таки нельзя же не любить ее. Нет, она может служить хорошим и долговременным лекарством от скуки, — и, верно, Вы влюбитесь в южную природу... Поверите, что я мечтаю о ней? Жить среди роскошной зелени — это высочайшее наслаждение после любви к женщине и после наслаждений, по временам доставляемых умственною деятельностью. Но от этих последних чувств, быть может, возможно утомление — а природа не утомит и не пресытит никогда.
Но не забывайте, ради бога, что Вы поехали затем, чтобы выздороветь. Вам рано скучать жизнью, потому что, что Вы ни говорите, чувства в Вас еще слишком свежи. Вы, конечно, много пережили, — но впереди для Вас осталось еще гораздо больше.
Да, наконец, право, и для того одного уж стоит пожить на свете, как можно дольше, чтобы смотреть на трагикомедию, которая в нем совершается. Чем-то кончит Наполеон? Выйдет ли, наконец, что-нибудь путное из испанцев и русских? Какова-то будет повесть, которую пишет Островский? — Предметы очень любопытные.
Будьте же здоровы, Николай Алексеевич, и не забывайте Вашего преданнейшего
Н. Чернышевского.
240
А. С. ЗЕЛЕНОМУ
26 сентября 1856 г.
Милостивый Государь Александр Сергеевич!
Книга Ваша, конечно, не имеет себе ничего подобного в нашей литературе и напечатать ее не только должно, — и можно, — но и совершенно необходимо.
317
Но в каком числе экземпляров должно ее печатать? Вот вопрос очень важный, потому что от числа экземпляров зависит цена. Цена, по Вашему справедливому желанию, должна быть самая умеренная — вот два приблизительные расчета, один на 2 400, другой на 9 600 экземпляров.
Объем книги (приблизительно), если напечатать ее довольно крупным шрифтом (крупнее того, который Вы видите в «словесности» наших журналов — крупный шрифт необходим, я думаю, для простонародной книги) — 10 печатных листов ( 160 страниц в 8-ую долю, или 240 стр. в 12-ую долю).
Стоимость всего издания:
А. 2 400 экз.
1) Набор по 10 р. за лист . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 р. —
2) Бумага по 2 р. 25 к. стопа, 50 стоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 р. 50 к.
3) Чтение корректуры (по 1 р. лист) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 р. —
4) Переплет (как Вы правильно полагаете, самый простой,
но корешковый по 5 коп. экз.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 р. —
5) Гравирование портрета государя и карта России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 р. —
Итого — около 450 руб. сер. Нужно прибавить еще несколько на мелочные расходы.
Книгопродавцам делается уступка 20% с объявленной цены, потому цена не может быть дешевле 30 к. сер. экземпляр, — и в этом случае, расходы издания едва покроются расходами всех до одного экземпляров.
Б. Издание в 9 600 экз.
Набор (и печатание) 20 р. за лист . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 р.
Бумага 200 стоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 »
Корректура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 »
Переплет (по 5 к.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 »
Гравирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 »
Итого — 1 240 р. сер. — расходы издания покрываются ценою в 20 к. сер. при распродаже 4/5 издания.
Разница довольно значительна. Издание в 2 400 экз. можно делать смело без всяких справок, — 2 400 экз. разойдутся.
Но 9 600 экз. разойдутся только тогда, если министерство государственного имущества возьмет книгу руководством или пособием для своих школ.
Вы не рассчитываете на выгоду от Вашей книги — и это благородно; но если бы минист. госуд. Имущ. взяло ее, то и пользы народу принесла бы книга больше, и Вы могли бы иметь выгоды (о выгодах издателя я не говорю, если бы Тургенев был здесь, он хотя и не имеет много денег, дал бы, сколько нужно; да и теперь, быть может, найдется возможность сделать издание без сношений с книгопродавцами).
318
Поэтому, прежде нежели приступить к печатанию книги, полезно узнать, возьмет ли ее мин. госуд. имущ.
По счастию, Хрущов (товарищ мин. госуд имущ., ныне управляющий министерством) знаком г. Панаеву, который на-днях переговорит с ним об этом.
Тогда я буду иметь удовольствие вновь писать Вам и передать более положительные известия.
Пока, позвольте сказать мое мнение о предмете, который имеет связь с этим вопросом о мин. госуд. имущ. — оно, конечно, потребует приноровления книги не к одним помещичьим, но и к госуд. крестьянам.
Чем права тех и других различаются? — Почти ничем, кроме того, что одни подведомы помещику, для других помещика с выгодою для себя заменяют попечительные начальники.
Потому и приноровление книги Вашей к госуд. крестьянам может ограничиться изменениями или вставкою двух-трех фраз.
Согласитесь ли Вы на это?
В других изменениях книга Ваша едва ли нуждается, — по моему мнению, решительно не нуждается: она и теперь прекрасна, и если Вы при втором издании найдете возможность сделать в ней дополнения и улучшения, то в этом деле, говоря откровенно, Вы лучший судья, и ни от кого не должны слушать советов.
Я не говорил о картинках, которые Вы желали бы приложить к книге — картинки эти хорошо выбраны и действительно полезны. Но резьба на дереве стоит дорого. Если будет возможность найти картинки (например, из старой «Иллюстрации» или другого издания) задаром или за бесценок, их можно и должно приложить; если же нет и нужно будет их заказывать вновь, то при издании в 9 600 экз. они увеличат цену экземпляра на 5 коп. сер., а при издании в 2 400 экз. — на 20 коп. — как Вы думаете об этом?
Кончив эти подробности, конечно интересные для Вас, начинаю собственное свое письмо к Вам (до сих пор я писал то, что мне сказали типографщики, и то, что я думаю, в качестве полуофициального Вашего корреспондента или агента) — начинаю письмо мое к Вам глубокою признательностью за Ваше, — позвольте себе сказать: истинно дружеское — ободрение, которое выражаете Вы к моим различным статейкам. Они действительно заслуживают его тем, что говорят о Белинском и других достойных людях.
Надеждин только наполовину принадлежит к ним, к сожалению он пережил 1836 год — и последние 15 лет его жизни запятнаны раскольничьими делами — он помогал известному Липранди; потому-то и бранил его Белинский — бранил, не совсем ясно говоря, за что бранит — ясно сказать было нельзя. Умный был человек Надеждин, но, подобно Сперанскому, не устоял против нашей жизни и замарал себя, не умея отказаться от обольщений честолюбия. Горько думать о таких примерах. То же было и с Полевым.
319
Теперь, конечно, [надо] вспоминать о добре, которое они сделали, потому что перестали они делать зло.
Белинский был не таков. Он действительно был всегда чист.
Биографических сведений о нем я имею мало. Он был сын пензенского лекаря, человека грубого, жесткого и, кажется, пьяного. Кончил курс в пензенской гимназии. Одного из учителей его я встречал. Учитель этот (человек, оглупевший от мошеннической жизни) мог сказать только, что Белинский и тогда «был ядовит». Потом Бел. был в Моск. универ. казенным студентом. Шевырев (тогда бывший отчасти либералом) донес на него как на студента неблагонамеренного (Шев. был уже профессор). Его исключили (исключил Голохвастов, помощник попечителя, тогда управлявший округом, NB автор «Замечаний об осаде Сергиевской лавры»), сообщив во все университеты, чтобы этого неблагонамеренного студента никуда не принимали. До переезда в Петерб[ург] Бел[инский] очень нуждался в деньгах. Нуждался и потом.
В 1843 или 1844 он женился на классной даме, которая была старше его и, как оказалось, имела дурной характер. Семейные неприятности окончательно расстроили его здоровье. Умер он от чахотки, — и умер, как нельзя более, кстати — иначе мог бы «попасть под манифест» недавно изданный, — что и намеревались уже сделать с ним — но он уже лежал в то время при смерти; потому и нельзя было ничего с ним сделать.
Характер у него был очень мягкий, отчасти даже робкий, он был застенчив и неловок, но стоило только затронуть его, — тогда глаза начинали сверкать, и он уже делался страшным своему противнику, говорил так же беспощадно, как писал, и молчать не мог уже заставить его никто.
Простодушие было в нем чисто ребяческое: он был наивен и невинен до невероятности.
Все это я говорю со слов Некрасова. Сам я не имел счастья видеть его.
Некрасов боготворит его память, Тургенев также. Вообще из людей, участвующих в петерб. Журнал., даже те, которые не любят его (по личным отношениям), не имеют сказать о нем ничего, кроме похвал (исключение остается за Булгариным, Дружининым и Гончаровым). Он имел чрезвычайное влияние на Некрасова, Тургенева и Григоровича, — это, буквально, его ученики.
Кстати, известно ли Вам, что в 1852 или 1853 году Тургенев сидел в части? Это тоже хорошая черта для истории литературы. Сидел по повелению... за то, что написал несколько слов в похвалу Гоголю за «Мертвые души» и «Ревизора». Это было тогда преступлением. Освобождением своим из части обязан просьбам нынешнего государя, который был, конечно, тогда наследником престола, но сам не мог его освободить, хотя и правил государством, за отсутствием государя, который после посаждения, уехал из столицы.
320
Но я заболтался.
Нужно кончить, как я начал, деловым образом.
Не будет ли у Вас времени и охоты писать для журналов? — ближайшим образом я, конечно, говорю о «Современнике». Вероятно, Вы могли бы принести пользу, — я так сужу по двум Вашим письмам, — большому письму к Панаеву, которое предшествовало посылке рукописи, и письму, которое имел удовольствие получить я.
Если Вы не расположены быть романистом или нувеллистом (что было бы приятнее всего для Вас, если Вы не чуждаетесь денег) — то пишите что угодно: письма ли о нашей журналистике, или этнографические очерки, или что угодно другое: вероятно (извините, что я пишу без комплиментов, которых Вам, вероятно, наговорят, когда Вы будете писать) — вероятно все, что Вы напишете, будет хорошо.
С истинною преданностью имею честь остаться
Вашим покорнейшим слугою Н. Чернышевский.
P. S. Но неужели Вы не хотите иметь выгоды от своей книги? Расчет я Вам написал. Вы легко можете видеть, что некоторые выгоды она должна кому-нибудь принести — скажите же, какими условиями были бы Вы довольны, если бы издание пришлось делать книгопродавцу.
241
П. П. ПЕКАРСКОМУ
[Конец сентября 1856 г.]
Ольга Сократовна и я просим Вас, Петр Петрович, дать нам приют у Вашего окна, когда все верноподданные будут смотреть на процессию въезда государя. Можно ли это?
Ваш покорный слуга Н. Чернышевский.
242
Н. А. НЕКРАСОВУ
5 ноября 1856 г.
Ваши стихотворения, Николай Алексеевич, получены здесь с неделю назад, — через два дня не оставалось в книжных лавках ни одного экземпляра из 500, присланных в первом транспорте, а теперь сотни ваших почитателей с нетерпением дожидаются второго транспорта, чтобы получить Вашу книгу, которою не успели еще запастись.
Сочувствие публики к Вам очень сильное, — сильнее, нежели предполагал даже я, упрекаемый Вами в пристрастии к Вашим стихотворениям. Восторг всеобщий. Едва ли первые поэмы Пушкина, едва ли «Ревизор» или «Мертвые души» имели такой успех, как Ваша книга.
20 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
321
Мне очень хотелось написать о Ваших стихотворениях. Поэтому я просил Ивана Ив. сказать Дружинину, что я желал бы поместить в «Библ. для чтения» статью о Вас, — и, не успокоившись на этом, сам был у Друж. с выражением того же желания. Он принял меня, как и сообразно с его правилами, очень любезно, но отвечал, что сам уже написал статью о Вашей книге (это справедливо), — впрочем, я и полагал, что он не согласится, — ведь дело идет о принципах, по мнению Дружинина, и было бы изменою этим принципам позволить мне писать в «Библ.» о таком предмете, как Ваши стихотворения.
Хотелось бы мне сказать свое мнение о Ваших стихотворениях — напечатать его негде, потому хотя напишу Вам несколько слов — третьего дня, тотчас по выходе XI № «Совр.», я принялся писать — но выходило так длинно, что я бросаю прежнее письмо и пишу вновь, покороче.
Вы находите, что в прежнем письме я преувеличивал достоинство Ваших стихотворений, — напротив, я выражался слишком слабо, как вижу теперь, перечитав Ваши стихотворения. Такого поэта, как Вы, у нас еще не было. Пушкин, Лермонтов, Кольцов, как лирики, не могут итти в сравнение с Вами.
Не думайте, что я увлекаюсь в этом суждении Вашею тенденциею, — тенденция может быть хороша, а талант слаб, я это знаю не хуже других, — притом же, я вовсе не исключительный поклонник тенденции, — это так кажется только потому, что я человек крайних мнений и нахожу иногда нужным защищать их против людей, не имеющих ровно никакого образа мыслей. Но я сам по опыту знаю, что убеждения не составляют еще всего в жизни — потребности сердца существуют, и в жизни сердца истинное горе или истинная радость для каждого из нас. Это и я знаю по опыту, знаю лучше других. Убеждения занимают наш ум только тогда, когда отдыхает сердце от своего горя или радости. Скажу даже, что лично для меня личные мои дела имеют более значения, нежели все мировые вопросы — не от мировых вопросов люди топятся, стреляются, делаются пьяницами, — я испытал это и знаю, что поэзия сердца имеет такие [же] права, как и поэзия мысли, — лично для меня первая привлекательнее последней, и потому, например, лично на меня Ваши пьесы без тенденции производят сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденциею.
Когда из мрака заблужденья...
Давно отвергнутый тобою…
Я посетил твое кладбище...
Ах, ты, страсть роковая, бесплодная...
и т. п. буквально заставляют меня рыдать, чего не в состоянии сделать никакая тенденция. Я пустился в откровенности, — но только затем, чтобы сказать Вам, что я смотрю (лично я) на поэ-
322
зию вовсе не исключительно с политической точки зрения. Напротив, — политика только насильно врывается в мое сердце, которое живет вовсе не ею или, по крайней мере, хотело бы жить не ею.
Не подумайте также, что я увлекаюсь общим мнением — я люблю противоречить ему, если то возможно. Восторг других возбуждает во мне потребность противоречия, — но что ж делать, когда другие справедливы? Нельзя же отказаться от своего мнения только потому, что оно разделяется другими.
Не думайте, что мне легко или приятно признать Ваше превосходство над другими поэтами, — я старовер, по влечению своей натуры, и признаю новое, только вынуждаемый решительною невозможностью отрицать его. Я люблю Пушкина, еще больше Кольцова, — мне вовсе нет особенной приятности думать: «поэты, которые доставили мне столько часов восторга, превзойдены» — но что ж делать? Нельзя же отрицать истины только потому, что она лично мне не совсем приятна.
Словом, я чужд всякого пристрастия к Вам — напротив, Ваши достоинства признаются мною почти против воли, — по крайней мере с некоторою неприятностью для меня.
Я должен сознаться, что Ваши произведения, изданные теперь, имеют более положительного достоинства, нежели произведения Пушкина, Лермонтова и Кольцова. Но этим, конечно, нельзя удовлетвориться. Надобно желать гораздо большего, — надобно желать, чтобы мы были принуждены забыть для Вас о Пушкине, Лерм., Кольцове, как для Кольцова забыли о Цыганове и Мерзлякове, как для Лермонтова забыли об Огареве и т. д., как для Гоголя забыли о прежних романах.
Вы имеете все силы, нужные для этого. Только одно может воспрепятствовать Вам быть в поэзии создателем совершенно нового периода — если Вы будете личные Ваши силы и время тратить на бесплодные и несовершенно основательные сожаления о том, что в прошедшем Вашем не все было расположено благоприятным образом для развития Ваших сил, если Вы предадитесь мысли, что в самом деле не имеете силы быть тем, чем быть назначила Вас натура Ваша, если Вы будете бездействовать в сожалениях и ипохондрии. Конечно, каждому из нас естественно быть недовольным собою, своим прошедшим, думать: «я мог бы быть гораздо лучшим, нежели каков я теперь» и т. п. Быть может, Вы имеете на это несколько более права, нежели другие — но что ж из того? Как Вы ни думайте о себе, а все-таки Вы в настоящем имеете великие силы, и предаваться унынию — нет причины для Вас.
Вы говорите:
Волшебный луч любви и возрожденья!
Я звал тебя, теперь уж не зову!
Той бездны сам я не хотел бы видеть,
Которую ты можешь осветить...
То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.
21*
323
Лично мне эти стихи очень симпатичны, — я знаю, что необходимы в жизни минуты уныния, — но не все имеют основание оставаться в унынии — или в отчаянии, если хотите более громкого слова, — как в законном расположении их духа. И Вы не имеете этого права — с чего Вы взяли, что имеете право унывать и отчаиваться?
Организм Ваш еще крепок, — как Вы ни думайте о своем здоровье, а Вам суждено еще быть здорову и крепку телом — только сами не разрушайте своего здоровья ни бесплодным уныньем, ни неосторожностями, — и Вы будете крепок и бодр физически. Я вовсе не собираюсь скоро умереть, — но уверен в том, что Вы переживете меня. Полноте, не рассчитывайте на то, что Вам не достанет времени и здоровья для деятельности, и не успокаивайте себя отчаянием.
Или в самом деле Ваше сердце устало ненавидеть? Или в самом деле Вы ничего и никого не любите? Все это ипохондрические мечты. На самом деле, Вы человек со свежими еще душевными силами. Вы когда-то предавались излишествам относительно женщин, — ну, были развратником, если Вам угодно этого слова, — но что ж из того? Все-таки очень мало юношей, которые сохранили бы такое чистое сердце, какое сохранилось у Вас, человека, испытавшего все излишества. Немногие способны так глубоко уважать достоинство женщины, немногие способны к такой нежности чувства, как Вы, — не говорите, что это неправда, — это ясно для меня из Вашей книги, ясно и из личного знакомства. Какое же право имеете Вы сказать, что Ваше сердце не научится любить? Я взял в пример одно чувство, которое раньше других теряет свою чистоту и свежесть, — то же самое должно сказать и о всех других чувствах, дающих жизнь поэзии.
Я знаю, что в стихах, которые выписаны, Вы говорите не о любви к женщине, а о любви к людям — но тут еще меньше права имеете Вы унывать за себя:
Клянусь, я честно ненавидел,
Клянусь, я искренно любил!
не вернее ли будет сказать Вам о себе:
… я честно ненавижу
… я искренно люблю!
в чем другом, а в холодности Вам не следует упрекать себя. Вы — апатичный человек! — да есть ли хотя капля правды в этой фразе! Это все равно, что Дружинина упрекать в пылкости или Гончарова в избытке благородства.
Извините, если я беру смелость говорить подобным тоном, но верьте, меня возмущает мысль о том, что Вы можете смотреть на себя как на человека с изношенным сердцем — я не хочу знать, много ли было в Вашей жизни волнений и испытаний, от которых
324
мог бы износиться и утомиться другой человек, — дело идет о настоящем, и довольно того, что в настоящем Вы сохранили редкую свежесть и силу чувства, — если прежде Вы были лучше и свежее, тем лучше было для Вас, но из того, что прошедшее было хорошо, не следует, чтобы настоящим следовало пренебрегать, — оно недурно у Вас, даже, быть может, еще чересчур хорошо, — быть может, Вы будете писать лучше, когда будете холоднее, а теперь Вам грех жаловаться на свою холодность или усталость.
Вы просто хандрите, и главная причина хандры — мысль о расстроенном здоровье. Так постарайтесь же укрепиться физически — это возможно для Вас, Вы несомненно будете крепок и здоров, если сами будете хотеть того. Пожалуйста, постарайтесь укрепить свое здоровье, — оно нужно не для Вас одних. Вы теперь лучшая — можно сказать, единственная прекрасная — надежда нашей литературы. Пожалуйста, не забывайте, что общество имеет право требовать от Вас: «будь здоров, ты нужен мне».
А чтобы вы не сделались бодр и крепок телом, если того будете хотеть, — этого не думайте отрицать. Организм Ваш еще крепок. Все Ваше расстройство — временная болезнь, которая не в силах противиться крепким еще силам Вашего организма. С болезнью пройдет и хандра.
Но довольно об этом. Вы, быть может, уже давно сердитесь. Помните, однако, что на Вас надеется каждый порядочный человек у нас в России. Вы сделали много, — гораздо больше, нежели предполагал даже я, пока не перечитал Вашу книгу — но еще гораздо больше Вы сделаете. Силы Ваши огромны и, что Вы ни говорите, свежи. Будьте же здоровы, берегите себя и не освобождайте себя от обязанности трудиться для настоящего сожалениями о прошедшем.
Мне хотелось бы много поговорить о Ваших стихотворениях — не с политической, а с поэтической точки зрения. А между тем негде напечатать эту статью. В «Современнике» я написал только: «Читатели, конечно, не могут ожидать, чтобы «Совр.» представил суждение о ст-ниях одного из своих редакторов. Мы можем только перечислить пьесы, вошедшие в состав изданной теперь книги. Вот их список... Читатели заметят, что многие из этих пьес не были еще напечатаны. Из напечатанных прежде некоторые являются ныне в виде, более полном. Из тех, которые не были еще напечатаны, приведем здесь: «Поэт и гражданин», «Забытая деревня», «От-p. из пут. гр. Гаранского». Я даже не сказал ни одного слова о сочувствии публики, чтобы не говорили: сами себя хвалят!
Вульф хочет послать Вам Вашу книгу и IX, Х, XI №№ «Современника». Напишу Вам несколько замечаний в объяснение состава последнего нумера, — о первых двух я уже писал.
Словесность очень пестра — что ж делать? Лучших материалов не было, и надобно было заменять качество количеством. Толстой сам везет свою «Юность» — он будет здесь на-днях. Григорович
325
не прислал еще ничего. Островский болен попрежнему. Что ж было делать? Стихотворений особенно хороших также не было — опять количество вознаграждает за качество. Трудно было изворотиться с № XI — по-моему, он плох, — но читатели находят, что хорош, — в самом деле, «Отеч. зап.» и «Русский вестн.» дали последние нумера решительно пустые — в «Отеч. зап.» ровно ничего нет, в «Р. в.» только «Губернские очерки» Щедрина (Салтыкова, автора «Запут. дела») — это вроде «Воспоминаний чудака» Селиванова, которые напечатаны в № XI «Совр.». — Заметки Берга на одну каплю получше его прежних заметок — впрочем, публика находила и прежние интересными. «Картины из русского быта» Даля почти все из рук вон плохи, но публика находит, что они недурны. Кроме «Крымских заметок» Берга, «Воспоминаний» Селиванова, «Картин» Даля, «Из-за границы» Фета (последнее порядочно для Фета — для другого было бы плохо) — в «Совр.» № XI напечатаны 8 стихотворений А. К. Толстого, 2 Фета, 2 Грекова, 2 Вл. Павлова (неизвестный молодой человек; напечатанные пьесы очень недурны), 1 Гербеля: из Шиллера (этого, пожалуй, лучше бы не печатать, — но так и быть, если уж напечатано). На публику первый отдел книжки производит хорошее впечатление, на меня скверное. Но лучшего ничего не было в руках.
В II отделе моя статья 2-ая о Лессинге и Северцова «Сельская община» — разбор мнений Чичерина, написанный основательно. В критике 8-ая статья моих очерков, — о Белинском; в следующей книжке будет окончание. (Потом буду писать (в следующем году) о Соллогубе, повестях Тургенева.)
В «Смеси» — записки о Малмыжском уезде (та самая статья, которую Вы помните, и действительно статья очень хорошая) библиогр. записки Лонгинова, «История Англии» Маколея, вероятно, это понравится, — если понравится, будем продолжать переводить. В заметках о журналах — панегирик Дружинину, новому редактору «Библиотеки» — я написал это с двумя целями так обширно и витиевато: 1) Чтобы доказать Вам мою приверженность к Друж. 2) Чтобы был контраст между похвалами «Совр-а» улучшениям «Библиотеки», радостью нашею будущим его успехам и между зложелательством «Отеч. зап.» к «Совр.» — потому что за похвалами «Библиотеке» следует в моих заметках суровое осуждение «Отеч. зап.», поместившим в № Х грязную выходку такого смысла, что писатели, обязавшиеся печатать исключительно в «Совр.» — люди бесстыдные и бесчестные. На это нельзя было не отвечать; я отвечал с такою жестокостью, которая превзойдет все ожидания «Отеч. зап.».
Кстати, в XI № «Отеч. зап.» продолжаются выходки против моих статей — на это я не буду отвечать, как и вообще не буду отвечать на то, что касается лично только меня. Потому в XII № «Современ.» «Заметки о журналах» не будут заключать полемики. Мне действительно не хотелось начинать и не хочется продолжать
326
полемики. Но когда надобно защищать Григ., Остр., Толст. И Тург. — я буду писать с возможною ядовитостью и беспощадностью — кроме журнальных соображений тут есть и нравственная причина: как сметь чернить такого благороднейшего человека, как Тургенев? Это низко и глупо. Да и Григ., Толстой имеют права на уважение, и защищать их — обязанность добросовестности, а не один расчет. Мне бы хотелось, чтобы они выиграли, вследствие нападений «Отеч. записок», и сколько у меня достанет уменья, постараюсь об этом. Но, повторяю, полемику буду и начинать и продолжать только по необходимости, а не по собственной охоте, хотя в натуре моей и есть расположение к спорам и разрушению высокомерных притязаний. Чтобы не казалось, будто «Совр.» оскорбляется только из-за расчета, возникающего по сотрудничеству Гр., Остр., Тол. и Тург., — чтобы видно было, что он равно не позволит унижать своих сотрудников, все равно, известны или безвестны они, я отвечал и на глупую статью Галахова, неприличным и довольно подлым образом сделавшего выходку на 43 страницах (в той же книге «Отеч. зап.») против статьи Лайбова (Добролюбова) о «Собеседнике» — Галахов превозносит Екатерину — ему доказано, что статья его глупа. Не отвечать ему (казалось мне) значило бы навести подозрение, что мы, вступаясь за Григор., Остр. и проч., вступаемся только за свои выгоды, — потому я и поместил защищение Лайбова.
Иностр. известия составляет Сераковский — если помните, Вы встретили его у Вашей сестры. На первый раз, он составил Ин. изв. не совсем искусно — но будет полезным сотрудником как человек неглупый и образованный!
У меня с Лессингом недостает времени на составление Ин. изв. — то есть, достало бы, если б я был спокоен; но когда бы Вы знали, что я пережил в последние полутора месяца, Вы подивились бы, что я мог написать хотя одну строку в это время. Скажу только, что чем больше живу на свете, тем больше убеждаюсь, что люди, правда, безрассудны, делают вздор, глупости, — но все-таки в них больше хорошего, нежели дурного. В успокоение Вам скажу, что неприятности эти имели источником не литературу и касались только лично меня, никого больше. Еще больше прежнего убедился я, что все учреждения, ныне существующие, глупы и вредны, как бы благовидны ни были, все это глупо; любовь, дружба, вражда — все это если не чепуха, то имеет следствием чепуху. А человек все-таки хорош и благороден, все-таки нельзя не уважать и не любить людей, по крайней мере, многих людей.
Однако оставлю эту тему, — Вам нужно знать не мои рыцарские подвиги, а дела «Совр.». В XII № «Совр.» необходимо поместить «Лира», — иначе Дружинин смертельно оскорбится. Кстати, о Друж.: он будет в «Библ.» защищать свободное творчество и беспощадно разить таких безумных, как я. На это есть намеки даже в объявлении его о подписке на 1857 г. Тем не менее, я пи-
327
таю к нему самую нежную дружбу, и стрелы его, конечно, не так остры, чтобы возбуждать во мне потребность ответа. С «Совр.» он хочет хранить приязнь, негодуя исключительно на меня, — ну, пусть негодует, а я всегда буду отзываться о нем хорошо при всякой возможности.
На-днях приедет Толстой и привезет «Юность» для 1-го № «Совр.». Я побываю у него, — не знаю, успею ли получить над ним некоторую власть — а это было бы хорошо и для него и для «Совр.».
Тургенев в конце ноября обещался прислать «Нахлебника». Когда будете писать ему, скажите, что я глубоко благодарен ему за одобрительные слова его обо мне, переданные мне Колбасиным.
Итак, в XII № будет «Лир», в № 1 «Юность» (вероятно, часть 1-ая — говорят, эта «Юность» довольно велика) и «Нахлебник».
Кстати. В Х № — 34 листа, в XI 33½ — эти книжки заметно толсты; в XII будет ровно 30 л., чтобы не увеличивать расходов.
Стихотворение Фета, Вами присланное, получено уже по выходе XI №.
Третьего дня вышли повести Тургенева. Издание хорошо. Цена 4 р.; Анненков продал все издание (3 000 экз.) Базунову за 8 000 р., и имеет 3 500 р. выгоды. Что за охота была Тургеневу лишаться этих денег? Книга идет хорошо.
Но Ваши стихотворения идут лучше всего — лучше Гоголя. Давыдов говорит, что в феврале все издание будет распродано до последнего экземпляра, так что к пасхе хотя[т] печатать 2-ое издание.
Правило Ваше — чтобы в каждой книжке отдел «Словесности» и переводных романов имел не менее 15 листов, соблюдается.
«Указатель» почти готов, — в нынешнем месяце начнут его печатать, — потому в нынешней книжке в объявлении уже сказано о нем.
Присылайте Вашу статью: «Десятилетие «Современника» — я не знаю, почему, но Вас узнают даже в мелких журнальных статьях и, конечно, восхищаются, так что, пожалуйста, кончайте эту статью и присылайте поскорее. Она, наверное, произведет очень хорошее впечатление в первой книжке.
Надобно также просить у Вас для № 1-го стихотворений — пожалуйста, пришлите их: ведь Вы хотели за границею писать больше, нежели здесь.
Судя по всей вероятности, подписка на следующий год будет больше, нежели ныне, и значительно больше. У «Совр.» только один соперник «Русский вестник»; «Отеч. зап.», вероятно, будут иметь меньше подписчиков, нежели в прошлом году, «Библ.» едва ли слишком много выиграет от редакции Друж., хотя несколько выиграет, как видно. Здесь основываются два новые журнала — «Русское слово», заменяющее собою умирающий или умерший
328
«Пантеон» — журнал будет до крайности пошлый и глупый — и «Критическое обозрение» — которое, вероятно, не будет иметь успеха. Издатель «Русского слова» — бездарный князь Кушелев, богач, дававший деньги Кони за печатание его повестей; издатель «Критического обозрения» — некто Разин, бывший редактором «Детского журнала», человек, говорят, неглупый, чему я мало верю.
Будьте здоровы, Николай Алексеевич, — это главное. Вас ожидает великая слава, какой не имел еще никто из русских поэтов, ни сам Пушкин. Это верно. Заботьтесь же о своем здоровье, — оно нужно для русской литературы. Вы отвечаете за Ваше здоровье перед русским обществом. Теперь Вы дали нам книгу, какой не бывало еще в русской литературе, — но Вы обязаны дать нам еще гораздо больше — будьте же здоровы.
Истинно, у Вас огромный талант, — я не умею и сказать, есть ли что не возможное для Вас, есть ли высота, недоступная для Вас.
До следующего месяца; простите, если я говорил что-нибудь неловкое — правда не всегда бывает ловка и прилична, — но Вы занимаете в литературе такое положение, что Вам должно выслушивать правду: Вы отвечаете перед русским обществом за употребление Ваших сил. Будьте же здоровы.
Ваш Н. Чернышевский.
P. S. Ваш Василий был очень обрадован тем, что Вы его помните. Он, видно, любит Вас искренно.
243
H. A. НЕКРАСОВУ
5 декабря 1856 г.
Вчера вышла декабрьская книжка «Современника», и я опять принимаюсь писать Вам, Николай Алексеевич.
Прежде всего я должен сказать Вам, что различные толки и т. п. по поводу Ваших стихотворений далеко не имеют той важности, какую готовы им приписывать иные люди. Месяца два-три, и все успокоится. Вообще, дело не так ужасно, как думают легковерные, хотя и не вовсе приятно. Через два-три месяца все забудется и успокоится.
«Состав XII-ой книжки таков, что может успокаивать Вас. В «Словесности» помещен «Лир» Дружинина. Перевод действительно хорош. В «Науках» — мой «Лессинг» (будут еще три статьи, если не надоест публике, а если надоест, то сокращу эту историю) и небольшая статейка Стасова «О голландской живописи» — недурная. В «Критике» — конец моих «Очерков» и моя статейка о «Детстве», «Отрочестве» и «Военных рассказах» Толстого, написанная так, что, конечно, понравится ему, не слишком
329
нарушая в то же время и истину. В «Смеси» — окончание «Малмыжского уезда» Осокина и «История Англии» Маколея. Переводный отдел — «Очерки Лондона» Теккерея.
Вообще книжка хороша.
Первая книжка на следующий год будет, вероятно очень хороша. В ней будет «Юность» Толстого, — вся, если Островский не пришлет своей повести, или половина, если получим во-время повесть Островского. Для «Наук» есть статья Соловьева — 1½ листа, так что и мне нужно написать еще листа 2 «Лессинга». Для «Критики» В. П. Боткин (который здесь) написал «Фет и Огарев». В «Смеси» будут «Святочные рассказы» Диккенса и «Ист[ория] Англии» Маколея.
На февральскую книжку Тургенев хотел прислать «Нахлебника». Григорович также, вероятно, пришлет что-нибудь.
Таким образом, я успокаиваюсь относительно важнейшего — отдела «Словесности». Все остальное легко получается или пишется, так что можно быть довольну настоящим.
Кстати о Толстом. По совести, «Юность» должна быть несколько хуже «Детства» и «Отрочества», — я сужу по первой половине, которую прочитал. Но все-таки вещь недурная. Хуже то, что он не любит Ив[ана] Ив[ановича], — напишите ему что-нибудь для пробуждения его ревности. Я не имел еще случая сойтись с ним, но Боткин говорит, что он исправляется от своих недостатков и делается человеком порядочным. Ha-днях я увижу его у Боткина, который попрежнему благоволит ко мне, чему я рад.
Еще о Тургеневе. Не знаю, писали ли Вам о глупой выходке, которую сделал против него Катков в объявлении о подписке на «Р[усский] вестник». Смысл выходки таков: Тург[енев] обещал «Р[усскому] в[естник]у» повесть — манил обещаниями до самого отъезда: тогда в «Совр[еменике]» явился «Фауст» — вероятно, те самые «Призраки», которые обещаны были «Р[усскому] в[естник]у», и «Совр[еменник]» объявил об исключительном сотрудничестве Т[ургенев]а. Это написано с глупою оскорбительностью. По-моему, Т[ургенев] должен был послать «Р[усскому] в[естнику]» обещанную повесть и сказать, что он прекращает всякие личные отношения с людьми, оскорбившими его не как писателя, а как человека. Я не знаю, приятна ли будет Вам вражда с Катковым, потому пока удержался от ответа, но, признаюсь, оскорблен обидою Тургеневу более, нежели обидою, которая была бы нанесена мне самому. Пусть бранят, кого хотят, но как осмелиться оскорблять Тургенева, который лучше всех нас, и, каковы бы ни были его слабости (если излишняя доброта есть слабость), все-таки честнейший и благороднейший человек между всеми литераторами? Отрадно, по крайней мере, что публика приняла его сторону против Каткова, — конечно, публика предполагает, что Тург[енев] и не имел мысли изменить обещанию дать одну по-
330
весть в «Р[усский] вестник». Потому я от всех слышал: «Р[усский] в[естник]» не имел права высказывать сомнение в честности Тург[енев]а.
Далее нового ничего нет. На этой неделе, увидевшись с Толстым, я напишу Вам еще письмо.
Присылайте обещанную статью «Десятилетие «Современника» и Ваших стихов. Мы будем ждать Вас летом, — теперь дела идут хорошо и без Вас. Главное, не беспокойтесь понапрасну и заботьтесь о своем здоровье.
Истинно преданный Вам
Н. Чернышевский.
P. S. В первой книжке будут три стихотворения Фета и одно Майкова, порядочное. «Указатель» на-днях начнут печатать. Подписка, по всем соображениям, будет хороша. Новых журналов пока нет. Из прежних «Р. в.» один может считаться соперником, — «Б. для чт.» и «От. з.» не соперники. Стало быть, увеличение числа читателей должно принести пользу главнейшим образом «Современнику». Будьте же спокойны и здоровы.
Жена моя, увидев это письмо, вздумала приписать два слова. Она, видите ли, в восторге от Ваших стихотворений.
244
И. С. ТУРГЕНЕВУ
7 января 1857.
Милостивейший Государь, Иван Сергеевич,
Чтобы оправдать перед Вами свое письмо, начинаю объяснением дела, заставляющего меня беспокоить Вас.
Колбасины сказали мне, что у Вас есть совершенно готовая первая часть романа «Два поколения». «Современник» не имеет ничего для 2-ой и 3-ей книжек. Только Вы можете спасти его от крайнего затруднения. Умоляю Вас: пришлите Ваш роман (если рукопись у Вас в Париже) или попросите Вашего дядюшку выслать его в Петербург (если он в деревне).
Вот сущность дела. Теперь подробности.
Григорович и Островский с сентября месяца обещаются прислать свои повести, — каждый месяц повторяется это обещание, и каждый месяц исполнения все еще нет. Теперь Григорович обещает на 3-ью книжку выслать рассказы, — Островский тоже говорит о 3-ей книжке — из этого надобно заключать, что и к 3-ей книжке ничего не будет. Толстой, напечатав «Юность» в № 1 «Совр[еменника]» и две повести в декабрьских книжках, — одну в «Библ[иотеке] для чт[ения]», другую в «Отеч[ественных] зап[исках]» — конечно, не будет иметь ничего готового в течение нескольких месяцев.
331
— Словом сказать, «Соврем[енник]» должен взывать к Вам, Иван Сергеевич, как Гретхен в «Фаусте».
Hilf, rette mich*…
Колбасины говорили, что Вы отложили печатание «Двух поколений» потому, что какой-то аристарх не одобрил этого романа — Иван Сергеевич, Вам грех слушать суждение какого бы то ни было аристарха, — Вы поставлены силою своего таланта выше всех подобных оценок. И разве аристархи не всегда почти несут чепуху? О них в свящ. писании говорится: «Мерзость господеви глаголы их, яко исполнися лжи гортань их, неправда же глаголет устнама их». Мнение публики, — это так, им должен дорожить писатель, — публика и в заблуждениях своих все-таки бывает близка к истине, по крайней мере, к какой-нибудь стороне истины — но Вам слушаться какого-нибудь аристарха! Да что такое эти аристархи перед Вами?
Вы слишком добры, слишком уступчивы.
Вы должны знать, что по натуре своего таланта и другим качествам Вы не можете написать вещи, которая не была бы выше всего, что пишется другими, не исключая и Вашего protégé Толстого, который будет писать пошлости и глупости, если не бросит своей манеры копаться в дрязгах и не перестанет быть мальчишкою по взгляду на жизнь.
Я уж бранюсь — такая натура у меня. Мне досадно, что Вы по своей доброте не обрываете уши всем этим господам нувеллистам и всем этим господам ценителям изящного, которые сбивают с толку людей подобных Толстому — прочитайте его «Юность» — Вы увидите, какой это вздор, какая это размазня (кроме трех-четырех глав) — вот и плоды аристарховских советов — аристархи в восторге от этого пустословия, в котором 9/10 — пошлость, скука, бессмыслие, хвастовство бестолкового павлина своим хвостом, — не прикрывающим его пошлой задницы, — именно потому и не прикрывающим, что павлин слишком кичливо распустил его. Жаль, а ведь есть некоторый талант у человека. Но — гибнет оттого, что усвоил себе пошлые понятия, которыми литературный кружок руководится при суждениях своих.
Еще раз извините, что я бранюсь — но досадно вспомнить об этих аристархах. Единственным судьею, голос которого должен уважать поэт, надобно признавать публику.
Ради бога, не колеблясь печатайте все, что напишете, — и пришлите «Два поколения» для спасения «Соврем[енника]» — публика рассудит между Вашим романом и златыми изречениями наших литературных мудрецов.
Вам останавливаться мнениями этих тупцов!
Лучше когда-нибудь опишите нам их златую мудрость, как Вы некогда хотели сделать.
Д. Я. Колбасин, вероятно, пошлет Вам вырезку из «Мос[ковских] ведомостей» № 152, где ответ Каткова на Ваше письмо. Я с своей стороны посылаю однако эту вырезку и кроме того корректуру «Совр[еменника]» — в том виде, как я изложил было это дело. Панаев — по совету Боткина — не хотел перепечатывать Вашего письма. Я пристыдил их. Но по слабости характера, сделал уступку — написал о подлости Каткова умереннее, нежели хотел бы. Им и то показалось слишком резко. Они вычеркнули большую часть — как видите — (красный карандаш — это их вычерки) — я опять уступил, не зная, убеждены ли Вы в справедливости Вашего дела так, как я, — ведь я не знаю, может быть, Вам тоже кажется, что Катков отчасти прав — так готовы были думать эти господа, — они похожи на флюгер, вертящийся туда и сюда, куда случится.
Вот истинно люди, о которых опять свящ. писание говорит: «упасеши я (т. е. их) жезлом железным» — у нас нужна еще в литературе железная диктатура, перед которою бы все трепетало, как перед диктатурою Белинского.
Флюгера, флюгера, и Ваш Боткин первый и самый вертящийся из этих флюгеров, — он хуже Панаева — трус, и больше нежели трус — жалчайшая баба.
Они боятся Каткова — они думают, что честный человек может бояться гласности, они воображают, что за Каткова может быть общее мнение, ежели он станет вынуждать на ответы. Не знаю, как Вы об этом думаете — быть может, они уж написали Вам, что Вы неправ — но я клянусь Вам, что если бы от меня зависело, — если б я был уверен, что Вы настолько тверды в убеждении о Вашей правоте, насколько тверд я, — я не так бы отвечал Каткову, я напомнил бы нынешним нашим читателям времена Полевого и Надеждина — не примите это за хвастовство, — нет, не всякое дело и не каждого человека можно защищать так, чтобы покрыть нравственным позором его хулителей — я не берусь защищать ни Толстого, ни Островского, — но во многом я готов защищать Григоровича — каков бы он ни был, он честный человек, — готов защищать его, как человека, —
но — когда кто дерзнет сказать что против Вас, мое сердце негодует — Вы (кто Вас знает?) может быть, не цените себя, — но другие ценят Вас — и мое кровное убеждение: кто осмеливается сказать против Вас, как человека, хотя одно слово, тот должен быть покрыт нравственным позором, как человек, решившийся на гнусную клевету.
Я Вас спрашиваю: разве Вы не честный человек, как человек?
Ну, а от себя я прибавлю: если кто составляет честь нашей литературы, так уж, конечно, Вы.
Оскорбить Вас! — да это значит оскорбить нашу литературу!
Уверяю Вас, что если Катков осмелился сказать против Вас, он действительно выказал себя человеком подлым.
333
Простите, что я пишу Вам все это.
Я имею на то одно право:
убеждение, что такого человека, как Вы, никто не может оскорблять безнаказанно.
Публика разделяет это убеждение.
Катков, как видите, упирается на глупую приписку Панаева, что каждый из четырех контрагентов сделал оговорку только относительно одной повести.
Пусть же за эту глупость и отвечает Панаев.
А Вам какое дело? Вас не было здесь, когда печаталось объявление «Современника» с этою припискою.
О, я разобрал бы по слову весь ответ Каткова и клянусь Вам, не поздоровилось бы ему. Не пришла бы никому охота подражать ему — дело это осталось бы пятном на его имени. Не потому я уверен в этом, что верю в свои силы, а потому, что верю в совершенную правоту Вашего дела.
Он напечатает Ваши письма? — Пусть; в них не может быть ничего такого, что могло бы оправдать его подлость.
Однако Вы, может быть, сердитесь на мою излишнюю ревность — как хотите, но — я говорю Вам как один из читателей, как представитель тысячи тысяч читателей:
Кто поднимает оружие против автора «Записок охотника», «Муму», «Рудина», «Двух приятелей», «Постоялого двора» и т. д. и т. д.
тот лично оскорбляет каждого порядочного человека в России.
Вы не какой-нибудь Островский или Толстой, — Вы наша честь.
Простите же. Вы, вероятно, найдете тон этого письма неприличным — все равно, — пусть оно покажется неловким, неуместным, — все равно.
Простите и помните одно:
Веруйте в себя, и не смущайтесь толками людей трусливых и подловатых, каковы многие из наших литературных авторитетов. Публика всегда и во всем за Вас. Она чтит Вас.
Ваш Н. Чернышевский.
P. S. На-днях пишу к Некрасову, чтобы он просил Вас о присылке «Двух поколений».
245
П. П. ПЕКАРСКОМУ
[Январь 1857 г.]
Любезнейший Петр Петрович,
Вот Вам представляется случай исправить упущение, в котором Вы раскаивались — именно, съездить в лавру к отцу Иоанну с Вашими корректурами, — потрудитесь, ради бога, — мне, ей- богу, некогда совершенно и потому я прошу Вас об этом. Попро-
334
сите отца Иоанна на сверстанных листах подписать (на каждом особенно) свое разрешение; также подписать приписку о мистерии гр. Уварова — этот лист еще не был у него.
— Лажечников, видите ли, сомневается в том, что дух[овный] ценз[ор] подписал Вашу статью.
Ваш преданнейший Н. Чернышевский.
P. S. Если же Вы не расположены ехать в лавру, то возвратите мне корректуры, я отвезу их.
Прежние корректуры я оставляю у Вас на случай, если Вы поедете в лавру — Иоанну надобно показать их.
246
П. П. ПЕКАРСКОМУ
[Январь 1857 года.]
Петр Петрович,
Не трудитесь отправляться к цензору; я ныне вечером был у него, и оказалось, что мне переврали, сказав, что он затрудняется пропуском Вашей статьи. Вовсе нет, он пропускает ее и без всяких объяснений.
Ваш преданнейший Чернышевский.
247
Н. А. НЕКРАСОВУ
7 февраля 1857 г.
Николай Алексеевич,
Вчера утром получил я Ваше письмо из Парижа, а ныне утром пишу ответ — похвалите хотя за эту аккуратность Вашего преданнейшего слугу, потому что ни за что другое, при всем желании моем и Вашем, похвалить нельзя меня.
Я спрашивал о 2-м издании Ваших стихотворений у секретаря Ценз. комитета, Ярославцева. Он говорит, что теперь не позволят: это именно сказано в предписании министра: «2-го издания не позволять». — «А если исключить те стихотворения, которые были главнейшею причиной суматохи?» — «Все равно, теперь еще не позволят, дело слишком свежо». — «А когда же позволят? Летом позволят ли?»
— «Это вероятно», — сказал он.
Из разговора с ним узнал я, что перепечатка стихотворений в «Совр.», действительно, имела дурное влияние на это дело, — теперь вижу, что я кругом виноват...
В отрывке, Вами присланном, цензурный комитет зачеркнул следующие слова, и стихи (то, что подчеркнуто).
Ни горя, ни отрад не жди,
Отдайся весь во власть господню...
Свинья увязла в подворотню.
(по причине близости свиньи).
335
Молчи, фанатики они...
Но есть и там свои могилы,
Но гам напрасно гибнут вилы…
Подчеркнутое выброшено цензурою.
Вы написали: «если хоть одно слово выкинут, то не печатать» — потому стихотворение и осталось ненапечатано, что жаль — лучше бы напечатать.
Все, что Вы пишете о недостатках «Современника» (последн[их] нумеров) — моих и других статей, — совершенно справедливо. Но Вы прибавляете, что это дело прошлое, и лучше подумать о будущем, нежели о том, чего уже изменить нельзя.
Я был ободрен тем, что Вы находите нужным для будущего то, что нужным казалось и мне, но чего я не приводил в исполнение отчасти по нерешимости бросить рутину, отчасти и потому, что у меня почти не было нравственной возможности писать в последние месяцы.
Сначала скажу несколько слов о последнем обстоятельстве, в объяснение дела.
Вы, может быть, помните, что я свою жену люблю, — помните, может быть, что первые роды были очень трудны, сопровождались разлитием молока и т. п. Доктора говорили, что это может повториться при вторых родах и иметь следствием смерть. Поэтому я и располагался удовольствоваться одним потомком, — но как-то по грехам нашим — против моей воли, оказалось, что у нас готовится еще дитя — Вы вообразите, какими сомненьями за счастливый конец глупого дела я мучился — последний месяц, когда я несколько сохранял спокойствие, был сентябрь, — а с октября чорт знает, какое унылое ожидание спутывало у меня в голове все мысли, — так прошло около четырех месяцев — писал, что мог, но мало, — верите, двух слов не мог склеить по целым неделям, — раза два даже напивался пьян, что уж вовсе не в моих привычках. Только вот в последние дни, когда все кончилось хорошо и жена уже ходит, стал я похож на человека. А то было скверно и в голове и на душе. Хорошо, что эта глупая история кончилась.
Все это для объяснения. Теперь буду работать, конечно, больше. На 3-ью книжку напишу листов 7, — тогда как прежде едва писал половину. Теперь к делу.
Вы говорите, что «Р. вестник» лучше «Соврем.» (кроме беллетристики) — это так. Но чтобы улучшить журнал, меня одного, конечно, мало. Нужны посторонние статьи по наукам и т. п. — это требует лишних расходов — до какой степени можно увеличивать расходы на науки и смесь при 4 000 подписчиков? Напишите об этом, пожалуйста. Вы знаете, что я очень робок в подобных соображениях. По 50 р. с. ведь необходимо платить, чтоб иметь хорошие оригинальные статьи от посторонних людей, — иному, быть может, понадобилось бы заплатить и больше.
336
Не говорите об экономии, — это подразумевается само собою, что соблюдать ее необходимо. Но считаете ли Вы возможным увеличить, для улучшения отдела наук (который в таком случае должен расшириться в объеме), годичную цену оригинала на 1 500 или 1 200 рублей сер.? Без хороших оригинальных статей ученый отдел журнала ныне не завлечет, — переводные и компилированные статьи не заменят их.
Во всяком случае, согласитесь ли Вы на увеличение расхода или нет, можно (и мне казалось бы полезно) произвести такого рода изменения.
По отделу «Словесности» помещать только повести и стихотворения и проч. или действительно очень хорошие или с громкими именами, — пусть от этого иная книжка будет иметь только 3 — 4 листа оригинальной словесности, — лучше поместить перевод, нежели оригинальную посредственную повесть. По возможности избегать этого баласта, чтобы в журнале не было бросовых листов. Вообще не очень стесняться, относительною величиною отделов — пусть иной раз преобладает беллетристика, иной раз серьезный отдел — все равно, лишь бы только не было баласта.
Критику и библиографию нельзя ли соединять в один отдел? Впрочем, это все равно. Важнее то, чтобы писать только или о книгах, производящих эффект, или о таких, которые дают случай написать что-нибудь заслуживающее прочтения. Пустых и мелких разборов не писать, — сказать о трех-четырех книгах, и довольно. Но главное, чтобы пустых статеек только для наполнения отдела не помещать. Беллетристическая сторона библиографии была до сих пор главное; теперь нужно отстранить ее на второй план и более писать о серьезных книгах живого содержания.
«Смесь» слишком часто наполнялась незначительными статьями и вообще располагает к помещению их. Потому ее сократить в пользу наук. Иностранных фельетонов не нужно в каждой книжке — обыкновенно это баласт.
Когда случится мне (или кому-[нибудь] другому) в свободное время написать интересный обзор иностр. новостей по какой-нибудь части, — поместить его; а чаще пусть этого не случается. Театры и новости парижские, отрывки из мелких журнальных иностр. статеек и т. п. — все это никому ныне уже не нужно.
Моды и с картинками с следующего года уничтожить. Об этом начать писать с лета и объяснить их бесполезность два или три раза; потом сказать, что в след. году их не будет.
Вообще стараться придать журналу направление, вроде того, которым выигрывает «Р. вестник» — сохраняя, конечно, всевозможное внимание к первому отделу, которым и должен отличаться «Совр.» от других журналов. Менее баласту, — это главное, и более живых статей. А для того необходимо во многом отстать от рутины.
21 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
337
1
Вдруг нельзя найти статей оригинальных, нельзя и сделать так, чтобы радикальность перемены была замечена всеми в один месяц. Но к осени можно стать в такое положение, чтобы выдержать соперничество с «Р. вестником».
В этом году финансовые дела уже решены. Будет более 4 000 подписчиков — но надобно стараться, чтобы в следующем было 5 000. Кажется, это можно сделать.
В конце прошлого и начале нынешнего года книжки были плохи, — это лишило «Совр.» 500 подписчиков, или, пожалуй, и больше. Но что делать? Охотно сознаюсь в своих винах по этому вопросу. Писал мало и плохо, держался рутины, не мешал (а иногда и помогал) помещать ничтожные статьи и проч. Но были и другие обстоятельства: 4 союзника как нарочно оставили почти без поддержки «Совр.», отчасти поленившись, отчасти исполняя другие обещания — две повести Толстого в декабрьских нумерах «Отеч. зап.» и «Библ. для чт.», повесть Григоровича в № 1 и 2 Библ. для чт., — между тем, у нас, кроме Фауста Тургенева, ничего в последнюю половину прошлого года. Еще одно: успех «Р. вестника» более, чем на половину, зависел от статей Щедрина (Салтыкова) — «Губернские очерки» — Вы их читали в Париже? У Тург., кажется, есть «Р. вестник». С № 16-го до конца года они тянулись непрерывно, производя эффект в каждой книжке. 500 подписчиков, — это мало, — быть может, 1 000 приобретена Р. ве-ку этими «Очерками». Что делать? Я постоянно просил Ив. Ив. похлопотать, чтобы приобресть Щедрина, — он не мог, хотя, кажется, и старался.
NB. Они в сущности плохи, не думайте, что увлекаюсь политикою, — нимало, — он бесталанен и не всегда умен. Но «Очерки» его производили эффект страшный на публику — это верно.
Как вижу из Вашего письма, я не лишился Вашей доверенности после истории с Вашими стихотворениями, — а я думал, что лишился, — отчасти и поэтому был слаб. Теперь стал деятельнее. Но одобрите ли Вы, если я, когда буду полагать, что Ив. Ив. чего-нибудь не сделал, стану вмешиваться в разные отношения?
Например, если будет нечто подобное Щедрину, прямо адресоваться с предложениями? О Щедрине много хлопотать теперь, конечно, уже поздно — он утратил свежесть и часть эффектности. Вообще я всегда очень стесняюсь мыслью: не превысит ли то или другое, что думается сделать, границы доверия ко мне, роли, которую я должен играть, и т. п. Это во всех делах, не в одних журнальных — притом я, по неловкости, часто могу делать промахи в отношениях с людьми, — и потому опять наклонен держаться в стороне и молча. Но если Вы думаете, что из двух зол — Панаева и меня, я — меньшее зло, то я могу быть тверд и отчасти расторопен — но меня всегда смущает мысль: «да кто тебя просил об этом?»
338
Подписка на «Совр.» немногим меньше, нежели на «Р. в-к» — так надобно думать. Другие журналы далеко отстают. «Р. в-к» печатается в 4 200 экз.; быть может, будет иметь 4 500 или 4 600 подписчиков. Соперничество очень сильное. Оно, мне кажется, делает необходимостью пожертвования, чтобы к будущему году стать впереди всех — кажется, этого возможно достигнуть.
Напишите, Николай Алексеевич, что Вы думаете — подробнее и точнее.
О составе 3-ьей книжки напишу на-днях — не позже, как через неделю, — теперь скажу только, что во 2 № есть комедия Островского, «Охота на Кавказе» Н. Толстого (брата Л. H. Т.) и путевые впечатления Фета. В 3-ий № Григорович привез «Очерки», довольно хорошую вещь (листа 4), кроме того, будут воспоминания Селиванова (2-ая статья). Что еще — зависит от обстоятельств, — и решится на-днях. Тогда и буду писать Вам.
Прошу Вас передать мою благодарность Ивану Сергеевичу Тургеневу за то, что он отвечал на мое письмо. Катков положительно глуп, в чем признаются и москвичи.
Будьте здоровы, Николай Алексеевич, и, пожалуйста, не оставляйте моих вопросов без ответа, —
Ваш душевно преданный
Н. Чернышевский.
P. S. О стихах Павлова, Грекова и т. п. не пишу, потому что их действительно не следовало помещать. Таковы же стихи Спиглазова (Сп — ов) во 2-м №. Но эти примеры не повторятся, будьте спокойны.
248
Н. А. НЕКРАСОВУ
13 февраля 1857 г.
Очень обрадовало меня известие (в Вашем письме к Ив. Ив. Панаеву), что Вы, Николай Алексеевич, уговорили Тургенева прислать «Нахлебника» на 3-ью книжку и заняться обработкою романа. Без «Нахлебника» и 3-я книжка была бы так же неудовлетворительна, как 2-ая. Вот состав этих двух нумеров;
№ 2. «Охота на Кавказе», H. Н. Толстого — та хваленая охота, о которой полгода кричали его брат и Дружинин и проч. Пустая и плохая вещь, мне кажется, эта «Охота», — во всяком случае, публике не понравится. Если бы этот H. H. Т. не был брат Л. Н. Т., не стоило бы и печатать, — подражание Тургеневу, — вероятно, и Аксакову (я не читал «Зап. ружейн. охотн.», потому и не знаю, верно ли говорят, что они также отразились на H. Н. Т., но подражание Тургеневу несносно ярко кидается в глаза). — Комедия Островского «Праздничный сон до обеда» — достоинством равная его пьесе в «Р. вестнике» (заглавие которой я за-
22*
339
был, — но Вы ее помните) — то есть талант виден в ведении разговора, языке и т. п., но сама пьеса ничтожна, — но все-таки, слава богу, что она поместилась в 2 № (кстати: Остр. отдал в «Р. беседу» (по условию контракта) драму «Минин и Пожарский» — воображаю, что это [за] поразительная нескладица, хотя иные из слышавших ее в Москве и говорят, что это удивительно хорошо. — Ост-му ли, с его понятиями и его знанием старины, написать драму из XVII века?) Наконец, записки Фета, статья 2-ая — не знаю, читали ль Вы их? — пусто, иной раз пошло, иной раз и не совсем глупо.
«Науки» — Пекарского «Мистерии до Петра и при Петре» статья 1-ая — другого ничего не было, я не успел написать «Лессинга», — ученое достоинство «Мистерии» имеют, — все из рукописей, почти все новые факты, но, конечно, не эффектно, — порядочно, не больше. — Моя статья о Боткине, — библиографию также писал я, — (в прошлом месяце, т. е. № 1, писал Пыпин — отчасти потому и показалось Вам скучно). «Смесь»: Маколей (рассказы из ист. Англии) — т. е. перевод, с ничтожными выпусками, и то только скучных для русск. читателя мест — статьи эти очень нравятся публике; но объем их, если продолжать так, будет страшен: 10 печатн. листов из каждого тома, а томов — 7 (и еще, вероятно, выйдут 2 в этом году) — я думал бы, что так как нравятся они публике, то пускать побольше — 4 или 5 листов в книгу, — пока не надоест читателям, — тогда можно и сжать, чтоб скорее расквитаться. — Статья о Китае из сочинения Гюка (книга хорошая; но Китай не слишком-то кажется мне привлекателен, — выйдет 3 статьи). Рассказы мистрисс Гаскелль (ее роман «Юг и Север» переведен в «Р. вестнике»; в Англии он наделал шума; рассказ 1-ый так себе, 2-ой и 3-ий недурны). — Вообще вторая книжка очень неудовлетворительна: комедия Остр. единственное (и плохое) ее украшение.
3-ья книжка будет хороша, если пришлется «Нахлебник». — Григорович написал для этой книжки три рассказа, маленькие, под общим названием «Очерки соврем. нравов». Из них первый положительно хорош, два другие недурны, — рассказ живой и легкий. Кроме того, статейка Селиванова, вроде его «Провинциальных воспоминаний», — плохо, разумеется, со стороны таланта и ума, но эффектно и выгодно по своей резкости. В «Науках», кроме окончания Пекарского, мой «Лессинг». В критике, о письмах Алексея Михайловича, постараюсь (без упоминания о славянофилах, которые надоели и опошлели в один год) сказать о допетровской Руси разные вещи, имеющие отношения к нашему времени. В заметках о журналах буду говорить между прочим об «Экономическом указателе», новом журнале Вернадского — постараюсь коснуться чего-нибудь живого.
К сожалению, связался я с Лессингом, когда можно бы писать о чем-нибудь другом, — а теперь не хочется бросить без конца
340
Все эти Лессинги и Краббы и т. п. были хороши два года тому назад. В следующем месяце (№ 4) постараюсь написать или о Штейне (то есть освобождении крестьян и тому подобное в Пруссии) или о железных дорогах, в объяснение условий наших дорог по обнародованному теперь указу.
Как только разделаюсь с Лессингом, стану писать постоянно о более живых предметах — или даже не лучше ли отложить Лессинга? Ведь будет еще три статьи — их пока читают и хвалят даже, но все-таки в сущности это вздор. Выгоднее говорить о чем-нибудь другом посовременнее.
Пашу мало к Вам на этот раз, — потому что нужно побольше написать для «Соврем.».
Простите, до выхода книжки.
Будьте здоровы. Ваш преданный
Н. Чернышевский.
P. S. Ваше стихотворение будет в № 3-ем, так как Вы согласны печатать его с выпусками.
Львов (который написал разбор «Чиновника» соллогубовского) обещал Ив. Ив-у рассказы, вроде Щедрина — это хорошо, даже очень хорошо — вероятно, таланта у него будет больше, нежели у Щедрина], который такового совершенно не имеет. Но когда он даст эти расказы? Успеет ли к 4-му №? Хотя бы и успел, все-таки необходим роман Тургенева.
Прошу вас засвидетельствовать Ив. Сергеевичу мое душевное уважение.
Л. Н. Толстой теперь, вероятно, уже в Париже, — не собьет ли с него путешествие ту умственную шелуху, вред которой он, кажется, начал понимать?
249
Я. П. ПОЛОНСКОМУ
[Февраль 1857 г.]
Добрейший Яков Петрович, я вчера писал Вам, еще не заметив Вашей записки. Повесть Ваша, сколько могу судить по началу, очень мила, а Вы, взявший на себя крест, покинутый другими, еще милее.
Если Вам сказать правду, корректурных пропущенных Вами при чтении ошибок набирается довольно — и буквы стоят невредимо вверх ногами, и запятых нет и т. д. Но слог прекрасен, и я не такой вандал, чтобы решился, злоупотребляя Вашим позволением, изменить хотя одно слово.
Завтра я буду ждать Вас.
Моя жена Вам кланяется — она часто вспоминала о том, что слишком давно не виделась с Вами.
Ваш преданнейший Н. Чернышевский.
341
250
А. С. ЗЕЛЕНОМУ
[Первая половина апреля 1857 г.]
Милостивый Государь Александр Сергеевич,
Все мои письма начинаются непременно извинениями в том, что я долго не отвечал, что я неисправный корреспондент и т. д. Вы видите, что и в настоящем письме я остаюсь верен себе. Вы простите меня: случайные обстоятельства — то нездоровье жены, то спешная работа, то иные задержки мешали мне до сих пор отвечать на Ваше письмо, которое порадовало меня за Вас, хотя собственно для нас с женою и было бы приятнее, если бы продолжалась неприятность, подавшая нам мысль предложить Вам наши услуги. Она миновалась — и слава богу; но если бы возобновилось что-нибудь подобное, Вы, конечно, уверены, что готовность наша всегда остается прежняя, и так же искренно воспользуетесь Вашими друзьями, как воспользовались бы они своими. Если Вам или кому из близких Вам нужно будет переселиться в Петербург, Вы, по нашей просьбе, изберете наш дом точкою опоры для этого переселения и дальнейших забот о Ваших делах.
Жена моя очень грустила, лишившись надежды иметь подругу в m-elle Votre nièce*, — но мы не теряем надежды когда-нибудь познакомиться с Вами и с нею, — дай бог, чтобы в более веселых обстоятельствах.
Теперь о других делах.
Ваша книга все еще не возвращена из II отделения. Как возвратится, — а этого уже пора ждать — мы, с Вашего позволения, приступим к ее печатанию.
А между тем — почему бы Вам не написать для «Современника» повести, очерка нравов, — чего хотите, лишь бы только чего-нибудь более длинного, нежели обыкновенное письмо, и предназначенное для печати? Я, помнится, уже просил Вас сделать такой опыт, — теперь можно почти наверное сказать, что он был бы удачен. Ваши письма всегда имеют литературное достоинство; Вы сами видите, пользуется ли ими г. Панаев для своих «Заметок» — и уверяю Вас, отрывки, им помещенные, были всеми замечены, как нечто, написанное очень хорошо. Вам следовало бы сделаться литератором.
Это имеет и выгодную в материальном отношении сторону. За хороший рассказ каждый журнал с радостью платит по 50 р. сер. за печатный лист (16 страниц).
Вероятно, и г. Панаев просил Вас попробовать написать что-нибудь для «Современника», — по крайней мере, я знаю, что он хотел сделать это.
Вам легко сделаться писателем (не говоря о других причинах желать этого, для пользы нашей литературы — исчисление этих причин могло бы оскорбить Вашу скромность) уже и потому, что Вы много пережили и переиспытали, на деле узнали людей, имеете, конечно, большой запас наблюдений, — это качества, драгоценные для писателя.
Вы сами согласитесь, что за одно можно поручиться: Ваша повесть не могла бы не иметь богатого содержания.
Говоря преимущественно о повести, я имею в виду не только уверенность в том, что Вам повесть, вероятно, было бы приятнее и легче написать, нежели трактат, который представляет то неудобство, что мысль, возможная печатным образом в повести, часто бывает невозможна для печати в форме рассуждения, — я думаю также и о том, что у нас в литературе хороший беллетрист полезнее, нежели всякий другой писатель: его больше читают, его идеи ближе принимают к сердцу. Но, впрочем, я только говорю, что, по моему мнению, беллетристика скорее всего может быть Вашим родом, — а какой род Вы изберете, это зависит, конечно, от Вас, а не от чьих-нибудь предположений. Я думаю только одно: во всяком случае, что бы ни писали Вы, Вы, по всей вероятности, будете хорошим и полезным писателем.
Сообщу Вам несколько известий из нашего литературного мира. Некрасов, Тургенев, Толстой (Л. Н.), Фет, Огарев всё еще за границей. Тургенев возвратился в мае; он, бедный, много страдал в Париже от застарелого ревматизма. Весною едут за границу Боткин, Дружинин, Краевский, осенью думает ехать Григорович. Таким образом, мы сильно европеимся (если можно так сказать). Некрасов ничего не присылал, кроме небольшого отрывка из какой-то поэмы в № 3 «Совр.», но, по словам Тургенева, написал довольно много. Тургенев почти окончил рассказ «Полесье», напоминающий «Записки охотника». Островский напечатал в «Русской беседе» комедию «Доходное место», которая в художественном отношении очень плоха, — от этого человека, кажется, уже нечего ждать. Толстой, который до сих пор по своим понятиям был очень диким человеком, начинает образовываться и вразумляться (чему отчасти причиною неуспех его последних повестей) и, быть может, сделается полезным деятелем. Из новых писателей нет ни одного беллетриста, который бы что-нибудь обещал.
Мы надеемся на Львова, — но комедия его в «Отеч. записках» — Вы видели, слаба. Пять лет уже не являлось новых талантов, — пора бы явиться кому-нибудь — и почему бы не Вам исполнить это требование времени? Я все возвращаюсь к одному и тому же: надобно Вам начать писать.
Примите уверение в искреннейшей моей преданности и уважении.
Ваш Н. Чернышевский.
343
Жена моя просит Вас передать ее дружеский поклон Вашей m-elle nièce. Жена моя на лето собирается погостить у Вас в деревне — удобно ли это было бы для Вас, если бы наши обстоятельства допустили эту поездку?
251
В. И. ЛАМАНСКОМУ
Добрейший Владимир Иванович,
К страшной досаде, я не мог между книгами брата отыскать ни одной Вашей, кроме «Описания Румянц. муз.» — «Гласник» я когда-то видел, прежде, и где-нибудь, вероятно, найду, но ни «Актов» Калачова, ни «Ковчежца» Вукова я и прежде не замечал у брата.
Брат вчера прислал мне письмо из Турина; кланяется Вам, расспрашивает о Ваших новостях (делаю галлицизм, для уязвления Вас).
Будьте здоровы. Я все собираюсь зайти к Вам, как и Вы ко мне — я исполню эту мысль, вероятно, раньше, нежели Вы.
Ваш преданнейший Н. Чернышевский.
252
ЯКОВЛЕВУ
Статью о распространении знаний в России возвратить автору, г. Ламанскому.
Н. Чернышевский.
25 апреля 1857.
На обороте адрес: В типографию военно-учебных заведений. — Г-ну Яковлеву.
253
И. С. ТУРГЕНЕВУ
[Конец апреля — май 1857 г.]
Милостивейший Государь Иван Сергеевич,
Н. А. Некрасов писал, что письма к нему должно адресовать на Ваше имя в Париж. Позвольте мне просить Вас передать ему мое письмо, вложенное в этом конверте.
Я пользуюсь этим случаем, чтобы поблагодарить Вас за Вашу обязательную приписку в его письме и за доброе мнение обо мне. Но, как человек грубых нравов, и не соблюдающий приличий, я с тем вместе жалуюсь Вам на Вас самих. Я не знаю, ка-
344
кие причины заставляли Вас писать в том грустном тоне, который выражался во всех Ваших письмах к Панаеву и другим. Но если это причины литературные, то Вы неправы. Неужели мнения нескольких тупцов (по совести говоря, Вы должны сознаться, что эти господа кажутся Вам тупцами) могут изменять Ваше мнение о Ваших произведениях? Вы по доброте Вашей слишком снисходительно слушаете всех этих гг. Боткиных с братиею. Они были хороши, пока их держал в ежовых рукавицах Белинский, — умны, пока он набивал им головы своими мыслями. Теперь они выдохлись и, начав «глаголати от похотей чрева своего», оказались тупцами. Они прекрасные люди, но в делах искусства или в другом чем-нибудь подобном не смыслят ни на грош. Возьмите статьи Дудышкина — кроме тех мест, где он повторяет Белинского, Вы найдете одни пошлости. Ум этих людей, быть может, очень грациозен и тонок, но он слишком мелок. Вы слишком добр к ним. Когда Вы приедете сюда, в Петербург, если Вы захотите говорить со мною, я Вас попрошу указать мне во всем, что написано Боткиным, Дружининым, Дудышкиным (не о Вас, это дело постороннее, а [о] ком бы то или о чем бы то ни было), хотя одну мысль, которая не была бы или банальною пошлостью, или бестолковым плагиатом. По-моему, уж лучше Аполлон Григорьев — он сумасшедший, но все же человек (положим, без вкуса), а не помойная яма.
Что касается до публики, поверьте, никакие «Юности» или «Охоты на Кавказе», ни даже стихи Фета и статьи о стихах Фета и т. п. не могут на столько опошлить ее, чтобы она не умела отличать людей от... ну, хотя бы от тупцов.
Я вам укажу пример — Вы лучше меня должны знать, что по мнению этих господ — стихи Некрасова дрянь. После Ваших «Записок охотника» ни одна книга не производила такого восторга. Хорошо бы он сделал, если б слушал наших аристархов.
Но Вы, быть может, не знаете того, какое положение Вы занимаете в нашей литературе? О, без всякого сомнения, Вы знаете, что люди с великим талантом — Ваши Островские, Толстые и т. п. Нечего сказать, хороша была бы с ними наша литература! — Полюбуйтесь в № 1 «Русской беседы» комедиею Островского — это верх нелепости в художеств[енном] отношении. «Юностью» Вы уж любовались. Как Вы о себе ни думайте, но согласитесь, что Вы действительно не способны создать таких великих произведений. Я не говорю, когда из мальчишки Толстой сделается человеком, быть может, он напишет что-нибудь вроде «Записок охотника», или «Двух приятелей», или «Затишья», или чего-нибудь подобного — но «старуха еще надвое сказала». И Вам не грех слушать тупцов, которые восхищались «Юностью» и т. д.? В настоящее время русская литер., кроме Вас и Некрасова, не имеет никого. Это каждый порядочный человек говорит, смею Вас уверить.
345
Простите неприличность моего письма; но, воля Ваша, мне досадно на Ваши письма к Панаеву и другим. Грех Вам не знать себя.
Ваш преданнейший Н. Чернышевский.
254
А. С. ЗЕЛЕНОМУ
[Первая половина июня 1857 г.]
Милостивый Государь Александр Сергеевич,
Прежде всего извините меня за то, что я слишком воспользовался Вашим позволением отвечать на Ваши письма, не торопясь, когда будет время. Мне хотелось прежде всего увидеть, может ли моя жена действительно поехать к Вам. Как ей хотелось, — неделя проходила за неделею, и все еще нельзя было этого решить: сначала небольшие собственные болезни, потом небольшие болезни детей удерживали ее; теперь мы привили оспу нашему младшему сыну — опять матери надобно сидеть с ним. Бог знает, успеет ли жена воспользоваться Вашим радушным приглашением, которым очень хотелось бы ей воспользоваться. Судя по тому, как до сих пор то одно, то другое обстоятельство делало для нее невозможностью уехать хотя бы недели на две, ей и мне кажется, что все лето пройдет подобным образом. Искренно благодарим Вас, Александр Сергеевич, за любовь, с которою Вы приняли нашу фантазию, но кажется фантазия так [и] останется фантазией.
Теперь к делу. Ваша рукопись хрестоматии для сельских школ доныне лежит во II отделении собств. канцелярии его велич. и по обыкновенному в наших присутственных местах порядку, залежалась там гораздо дольше, нежели мы предполагали. Но все-таки скоро должна быть возвращена с разрешением печатать. Вашу рукопись «Арифметика для сельских школ» присылайте мне, не сомневаясь в том, что она немедленно будет напечатана. Тут нет законов, — следовательно, нет и задержки: обыкновенная цензура пропустит ее. Я говорил Давыдову (книгопродавцу, у которого в магазине контора «Соврем.»), он с радостью берет печатать ее на означенных Вами условиях. Но мы здесь посмотрим, не можем ли сами, без книгопродавцев, издать ее, что было бы выгоднее для Вас. «Хрестоматия» отправлена во II отделение к. е. в., потому что это место (издающее свод законов с продолжениями, полное собр. зак. и т. д.) цензирует все книги, в которых излагаются действующие законы Русской Империи.
Арифметику будет читать только обыкновенный цензор и возвратит, конечно, через неделю, много через две, после того, как возьмет.
Я очень рад, что Вам понравилась статья Ламанского об учреждении общества для распространения знаний, или, скорее,
346
не статья, имеющая свои недостатки, а мысль статьи, действительно прекрасная. Жаль только, что мысль эта слишком мало находит сочувствия. Я ожидал, что ею не все так заинтересуются, как Вы и я, но все-таки думал, что будет хотя некоторое сочувствие в журналах — кажется, ничего такого не обнаружилось в наших литераторах. Ламанский не совсем чист от славянофильства — нелепость славянофильства можно оценить вполне только, когда говоришь с его последователями, свободно, не стесняясь цензурою. Боже праведный, какие несовместимые с здравым умом мысли соединяются в их головах! Об ином они говорят так, что одна фраза кажется заимствованною из Прудона, а другая, за нею непосредственно следующая, из жития Симеона Столпника, о другом так, что одна мысль — из Белинского, другая — из Булгарина. Это народ странный! Ближе всего их поймешь, когда представишь, что имеешь дело с людьми, одержимыми мономаниею — человек благородный, умный, образованный, обо всем говорит превосходно, — коснись предмета помешательства, начнет пороть дичь, которой сам не понимает, — а Вы понимаете, что он знает только то, в чем соглашается с Вами, а в чем не соглашается, того не понимает и не хочет слушать никаких объяснений или все Ваши объяснения перетолковывает самым диким образом. У Ламанского есть в статье несколько таких замашек. Но Вы приписываете ему взгляд, которым он гнушается, когда думаете, что он не заботится о народе (простом), — а напротив, в этом отношении он, может быть, дальше нас с Вами. Мы спасение видим в просвещении, а он, кроме того, еще в особенных благодатных дарах нашего простонародья, перед которым благоговеет. Если выходит у него чепуха, то что ж делать? Славянофил без чепухи жить не может. Он до избытка любит славянские племена — это, конечно, личное пристрастие, никому не вредное, когда он не менее горячо любит и западное просвещение. Еще месяц подождем, что скажут о его статье журналы. К сожалению, мы еще неспособны ценить важных мыслей. Мелочи всегда отвлекают внимание наших литераторов от предметов, истинно государственных.
Я очень рад также, что Вам кажется важен вопрос об общинном владении. Быть может, я ошибаюсь в своем мнении об этом деле, но действительно с теоретической точки, преимущество общинного владения доказано неоспоримо. Как применить общий принцип к делу — это задача людей специальных и особенно задача самой практики. И пароходы и железные дороги не построились удачно по первому плану, составленному в кабинете, но все-таки общая идея этого плана оправдалась практическим выполнением его. Когда я начинал это дело, наглым тоном требуя ответа у «Эконом. указ.», мне хотелось вызвать во что бы ни стало положительный ответ. — «Эк. ук.» отвечает не совсем добросовестно, ну, да это так и быть. Я все-таки буду возражать са-
347
мым деликатным образом, с учтивостями и т. д., чтобы только продлить охоту «Эк. ук.» к прению, начатому ими против воли. У меня тут есть разные цели — между прочим, и те, которыми заняты Вы. Прямо говорить нельзя, будем говорить как бы о посторонних предметах, лишь бы связанных с идеею о преобразовании сельских отношений. Ваши возражения я напечатал бы в «Совр.» с радостью (и, конечно, за статью заплатил бы «Совр.» Вам), если бы Вы были так добры, что вздумали бы написать возражения. Если Вам для этого нужен экземпляр «Совр.» и «Эконом. указ.», я готов прислать Вам эти журналы (деньги зачтутся при расплате за Вашу статью). Лишь бы только прошло цензуру, с радостью надобно печатать все, касающееся положения наших поселян. Вы, конечно, не будете щадить моих мыслей, которые кажутся Вам ошибочны — ну, да это все равно, так и нужно. Вмешивайтесь в это дело и обсудите вопрос с практической точки: 1) Оттого ли бедны поселяне, что по общинному праву получают участки, или от крепостного права и страшной администрации? 2) Действительно ли неудобства общинного владения не могут быть отстранены более разумным порядком переделов с оставлением неприкосновенности принципа: «каждый сын земли имеет право на участок этой земли». — Не стесняйтесь в возражениях, тут дело вовсе не о том, безошибочен ли я — я человек, не слишком много думающий о своих познаниях — мы все учились на медные деньги — пусть я буду совершенно неправ и ничего не смыслю в этом деле — Россия от того нимало не потеряет. Но скажите, неужели невозможно сохранить принцип: «Каждый земледелец должен быть землевладельцем, а не батраком, должен сам на себя, а не на арендатора или помещика работать?» Мне интересно было бы знать Ваше мнение об этом. Напишите цензурно — я был бы в восторге, если бы Ваша статья об этом была напечатана.
Ваш Н. Чернышевский.
P. S. Как скоро допустим, что при эманципации земля дается в полную собственность не общине, а отдельным семействам с правом продажи, они продадут свои участки, и большинство сделается бобылями. Освобождение будет, когда, я не знаю, но будет; мне хотелось бы, чтобы [оно] не влекло за собою превращение большинства крестьян в безземельных бобылей! К этому я хотел бы приготовить мысль образованных людей, давно приготовленных к эманципации.
255
А. С. ЗЕЛЕНОМУ
5 сентября 1857 г.
Добрейший Александр Сергеевич,
Предыдущие письма от Любови Николаевны и моей жены встревожили Вас, конечно, — и встревожили совершенно пона-
348
прасну. Ни холеры и ничего подобного нет с Любовью Николаевною, а есть просто расстройство желудка, которое не представляет ни малейшего основания к беспокойству. Через два-три дня Любовь Николаевна будет совершенно здорова; нужно только ныне, завтра и послезавтра держать ей диэту, и больше ничего.
Рукопись Вашу я отдал Ив. Ив., который уже переехал в город. Они живут вместе с Некрасовым. Если вздумаете писать им, адрес таков;
На Литейной, в доме Норова.
В литературе есть у нас кое-какие новости. Говорят об основании нескольких новых журналов, из которых только «Атеней» Корша и Чичерина представляется интересным.
Говорят о хороших намерениях государя, относительно помещиков и их мужиков: основанием манифеста, которого ждут (вероятно, слишком рано) в начале октября, полагают:
1) два года срока для заключения полюбовных договоров;
2) после двух лет правительство принимает на себя посредничество между теми из помещиков и поселян, которые не могли сойтись в условиях;
3) еще два года на это; а по истечении всех четырех лет, все должно уже прийти в нормальное состояние.
Прощайте, Александр Сергеевич; о Любовь Николаевне не тревожьтесь, в следующем письме, наверное, она скажет Вам уже, что совершенно здорова.
Ваш И. Чернышевский.
256
А. С. ЗЕЛЕНОМУ
[Сентябрь 1857 г.]
Добрейший Александр Сергеевич,
Здоровье Любовь Николаевны, наделавшее Вам столько забот, оправляется, и она должна назваться теперь совершенно здоровою. Остается только слабость, обыкновенная после болезни, соединенной с строгою диэтою.
Я, конечно, знал, что Вы обеспокоитесь, получив первое известие об этой болезни, но все-таки не думал, чтобы Ваша мнительность дошла до таких ужасных размеров, какие обнаруживаются Вашею запискою. Вы говорите о смерти, — откуда у Вас взялось основание к таким мрачным опасениям? Болезнь была скучна, как всякая болезнь, кладущая в постель — но опасности совершенно никакой не было. Это с самого начала говорил доктор, который от меня не стал бы скрывать опасности — потому я и писал Вам легко. Будьте уверены, что я не держусь мысли, будто — от людей здоровых надобно скрывать истину, если она огорчительна — знать даже прискорбное все-таки лучше и спокойнее, нежели оставаться в обольщении. Если бы опасность была, я написал бы Вам непременно, будьте в этом уверены —
349
Вы тогда, по крайней мере, могли бы приехать в Петербург и т. д. Но опасности ровно никакой не было. А теперь, повторяю, и болезни уже нет, остается только слабость, и когда Вы получите это письмо, Любовь Николаевна, конечно, будет уже разъезжать по городу и, верно, уже побывает у доктора, который лечил ее очень усердно. Доктор этот и его жена славные люди и из наших семейных знакомых самые близкие к нам.
Из общественных новостей попрежнему занимает Петербург указ об освобождении крестьян. Он подписан и скоро будет обнародован. Но он оказывается вовсе не указом об освобождении, а просто приглашением к полюбовным сделкам, причем определяются некоторые обеспечения поселянам против произвола, именно: 1) помещик не может продавать на вывод и 2) браки между крепостными заключаются без его вмешательства. Некоторые прибавляют, что определяется maximum оброка и maximum выкупной платы, так что поселянин, который заплатит определенную сумму, не может быть обращен на барщину или удержан от выкупа.
Все это — продолжение указа 1842 г., как видите. Потому я не защищаю и не превозношу.
До следующего письма, простите.
Ваш преданнейший Н. Чернышевский.
257
И. К. БАБСТУ
4 декабря 1857.
От всей души благодарю Вас, Иван Кондратьевич, за то, что Вы доставили мне знакомство с В. И. Косаткиным и H. М. Щепкиным — это, сколько я теперь знаю их, прекрасные люди. Особенно понравился мне Косаткин. Скажите, каким образом Москва производит столько хороших людей? Свойство ли это климата, или следует приписать их прекрасные качества мудрому правительству Закревского? Я склоняюсь к последней гипотезе: Закревский приучает к терпению и самоуглублению, с тем вместе к анализу его распоряжений, а с терпением, самоуглублением и критикой, конечно, развивается много хорошего в человеке.
Благодарю Вас также за Ваши брошюры, — я считаю честью для себя доброе чувство, которое Вы, повидимому, имеете ко мне, — да, великою честью; признаться, я дорожу мнением очень немногих, — в Петербурге не знаю ни одного человека, которого доброе мнение действительно приносило бы мне сердечную радость; в Москве, быть может, и есть такие люди, кроме Вас, — но, сколько могу судить, не видев многих лично, кажется мне, что и в Москве некого уважать столько, чтобы радоваться его доброму о себе мнению, кроме Вас. Это я говорю в том смысле, что надобно считать человека и более честным, и более основательным в суждениях, нежели сам, чтобы истинно дорожить его мнением.
350
Не сочтите этого фразой, — поверьте, я так чувствую, — и в доказательство искренности сошлюсь на то, что сам понимаю неуместность и даже нелепость подобных изъяснений, а если не удержался от них, значит, принуждает к ним внутреннее какое-то убеждение. Но обрываю эту тему, сам сознавая все ее неприличие.
Об «Атенее» сочинил я в № XII «Совр.» некоторую прокламацию, не лишенную патетизма; удерживался еще мыслью, что, чего доброго, Вы же т. е. «Атеней» прогневаетесь, — скажете, что парень-де хватил уже через край и услуживает с ревностью не по разуму. То же говорил мне и брат, А. Н. Пыпин, которому давал прочесть написанное, — по его совету часть пафоса я вычеркнул; но все еще, бог Вас знает, шутя станете бранить.
Сочинил нечто и о лавке Щепкина — предприятие в самом деле честное и полезное. Но — предаюсь скептическому направлению своего остроумия, — не перессорятся ли эти Пилады и Оресты между собою, когда начнутся расчеты? Ведь с такими же тенденциями, вроде бескорыстного служения литературе и т. д., основывался и «Р. вестник».
Но возвращаюсь к «Атенею». По свойственному мне тщеславию, не хотел бы я подвергаться заушениям, как Беринг; потому не вызываюсь прямо к Коршу; но Вы скажите с дипломатическою хитростью, что Вы, конечно, не знаете, могу ли я и захочу ли я сочинять разную чепуху для «Атенея», но что если Коршу было бы приятно иметь такого гениального сотрудника, как Черныш., то Вы спросите, могу ли я писать иногда для «Атенея». Если Корш скажет, что этаких-де гениев мы любим держать от себя подальше, то да простит ему бог, и да останется мое желание тайною между Вами, мною и единым сердцеведцем богом. Тогда и меня горестным ответом не возмущайте, а просто промолчите. Серьезно говоря, я вовсе не так обидчив, чтобы это могло меня оскорбить, не подумайте, что я буду в претензии: нимало.
Боже, 4-ое число, а я еще не кончил работы для книжки «Совр.2, которой следовало выйти 1-го числа. Это ужасно для меня, но это великое счастие для Вас — иначе мое письмо равнялось бы целому нумеру «Атенея». Простите же.
Ваш преданнейший Н. Чернышевский.
258
РОДНЫМ
31 декабря 1857 г.
Милый папенька! Еще раз поздравляю Вас с Новым годом и желаю, чтобы он скоро принес с собою окончательное разрешение всех долгих неприятностей милого братца Ивана Фотиевича. Для нас, живших в Петербурге, был довольно хорош и тот год, с которым теперь мы прощаемся. Олинька и дети были вообще здоровы; Сашенька видит исполнение своего желания ехать за гра-
351
ницу и может считать теперь свою карьеру устроившеюся; мои дела шли недурно, и во все продолжение года я не имел серьезных неприятностей. Дай бог, чтобы наступающий год был также благоприятен.
В Петербурге нет особенных новостей. Говорят только, что на-днях утверждена или утверждается компания для проведения железной дороги от Рыбинска до Вышнего Волочка, по которой будет доставляться в Петербург волжский хлеб, ныне идущий до Петербурга два лета; а тогда его будут доставлять сюда через два дня по приходе в Рыбинск. Компания основывается русскими, — купцами города Рыбинска, между которыми, говорят, есть много миллионеров. Поговаривают также об учреждении компании железной дороги от Москвы через Рязань и Тамбов до Саратова.
Мы не будем ждать этой дороги, чтобы приехать в Саратов, — слава богу, дела располагаются у меня так, что можно сделать эту поездку нынешним летом. О, с каким нетерпением я жду его!
Целую ручки Ваши, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую Вас, милые дяденька и тетенька, и Вас, милые сестрицы и братцы.
259
РОДНЫМ
7 января 1858 г.
Милый папенька! Покорно благодарю Вас, благодарю от всей души, за Ваше благословение доброму успеху «Исторической библиотеки». Это в самом деле будет дело полезное для наших молодых людей, желающих учиться; полезное и для всех других, имеющих досуг и желание читать дельные книги.
Я должен сообщить Вам еще об одном деле, которое мне предложили на-днях и которое, повидимому, устраивается. Но так как оно еще не установилось окончательно, то я и говорю о нем только как о надежде, довольно вероятной, но еще только надежде.
Граф Баранов вздумал издавать для распространения образованности между офицерами русской армии «Военный сборник». Заняться устройством этого дела он поручил генерал-квартирмейстеру Гвардейского генерального штаба Карцеву. С Карцевым я был несколько знаком, и он предложил мне быть редактором этого издания. Я согласился. Граф Баранов велел приготовить доклад государю. Вчера я слышал, что доклад этот утвержден. Мне говорят, что это издание может принести пользу нашим офицерам, которые до сих пор читали слишком мало и оттого в Крымскую кампанию показали себя людьми, правда, храбрыми, но неспособными бороться с успехом против неприятеля, приготовленного к распорядительности и находчивости на поле сражения умственными трудами в мирное время.
352
Если это назначение состоится, я буду заниматься сообщением статьям, которые большею частью будут написаны дурным языком, такой формы, чтобы они могли явиться в печати приличным образом; кроме того, мне придется рассматривать окончательно, заслуживает ли печати статья по своей дельности и занимательности, и справедливы ли мысли, в ней излагаемые. Для оценки статей чисто военного содержания, относительно их достоинств по военной части, будут у меня два помощника, — двое профессоров Военной академии.
Издание журнала предполагается начать с 1 мая. Издается он под покровительством и с пособием от правительства, — оно дает на издание 12 000 р. сер. в год.
На-днях это дело официально окончится, то есть на основании высочайше утвержденного доклада, будут сделаны распоряжения, издано объявление о Военном сборнике, будут заключены контракты с типографиею и конторою, и т. д. Меня уверяют, как я уже сказал, что относительно моего назначения дело кончено, потому что в докладе было уже сказано обо мне. Это правда, и доклад несомненно утвержден, — но я сам еще не видел резолюции государя; кроме того, до начала издания остается еще три или два месяца; потому я и считаю это еще только надеждою, а не конченным делом. Впрочем, вероятно, все устроится, как я писал.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую Вас, милые дяденька и тетенька, и Вас, милые сестрицы и милые братцы.
260
РОДНЫМ
14 января 1858 г.
Милый папенька! Определение мое редактором «Военного сборника» состоялось; я получил уже бумаги, извещение об утверждении меня редактором и инструкцию, которая утверждена государем. Теперь остается только подождать еще с полгода, удастся ли мне поддержать хорошие отношения, в которых я теперь нахожусь с людьми, имеющими наблюдение за порученным мне изданием; главным образом, важен тут Карцев. Теперь, как я сказал, мы с ним хороши; если это поддержится, мое положение упрочится. Издание «Военного сборника» начинается с 1-го мая; в июле, когда выйдет три книжки журнала, будет видно, останется ли доволен этим изданием государь, граф Баранов и их отголосок, Карцев.
Условия могут быть для меня выгодны, если справедливы расчеты, сделанные военным министерством, относительно числа подписчиков. Если, как оно полагает, подписчиков будет около 2 000 на первый год, на мою долю придется до 3 000 р. сер. Даже при 1 500 подписчиках, мне придется получить до 2 000 р. Менее
23 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
353
1 500 подписчиков едва ли будет. Не помню, писал ли я Вам, на каких основаниях основывается этот журнал. Вот они. Казна дает пособия на каждую книжку журнала 1 000 р. сер. Подписная цена назначается 6 р. сер., а в нынешнем году, так как выйдет только 8 книжек, вместо 12, цена 4 р.
Из денег, остающихся за покрытием издержек издания, прежде всего берется редакторами вознаграждение за их труды, — мне приходится получать вдвое больше, нежели каждому из двух военных моих товарищей по редакции. Если прибыль от издания будет превышать 4 800 р. в год, тогда я беру жалованья 2 400 р., мои товарищи каждый по 1 200 р., затем остальная сумма делится на две равные половины, — одна половина остается в казне, другая делится между редакторами, — в официальной бумаге сказано, что и тут я буду получать вдвое больше, нежели каждый из моих товарищей, но я, чтобы поощрить их усердие, сказал, что буду делиться с ними поровну.
Из этого выходит приблизительный расчет такой.
При 1 500 подписчиках
Расход на издание около . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 000 р. сер.
Доход: пособие от казны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000 „ „
От подписки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 000 „ „
———————
21 000 р. сер.
Остается 4 000 р. сер., которые мы делим, — мне приходится 2 000 р., каждому из моих товарищей по 1 000 р.
При 2 000 подписчиков
Расход на издание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 000 р. сер.
Доход: пособие от казны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000 „ „
подписка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000 „ „
—————
24 000 [р. сер.]
В остатке 6 000; из них я беру 2 400; мои товарищи по 1 200; всего 4 800; остаток 1 200 р. делится пополам — из 600 р. я беру третью часть, а всего имею 2 600 р. Расходы издания, по всей вероятности, будут меньше, нежели я положил, потому и выгоды останется, по всей вероятности, несколько больше, вероятно, до 3 000 [р.] Но на 2 000 подписчиков я не хочу рассчитывать — довольно вознаградятся труды, если будет хотя 1 500 подписчиков.
На меньшее число, нежели 1 500, едва ли можно рассчитывать, потому что до 500 экземпляров будет уже рассылаться обязательным образом по разным штабам — дивизионным, бригадным и проч.
Теперь, как я сказал, нужно мне заботиться только о том, чтобы поддержать хорошие отношения, в которых я нахожусь ныне к людям, имеющим голос в этом деле.
354
Ha-днях будет напечатано объявление о «Военном сборнике»; само собою разумеется, что я Вам, милый папенька, буду присылать это издание, как только оно явится.
В пятницу уехал домой Е. А. Белов. Он хотел быть у Вас по приезде.
У меня теперь оказалось, милый папенька, несколько денег, которыми я могу располагать, не стесняя себя, и потому вчера я отправил некоторую часть их Вам и прошу расположить ими, как Вам будет удобнее. Я очень рад, что, наконец, могу быть полезен, хотя сколько-нибудь, для своих родных — братца Ивана Фотиевича, дяденьки и тетеньки, и сколько-нибудь пригоден для Вас, милый папенька, — для Вас, сделавших для меня столько, сколько едва ли кто-нибудь делал для сына.
По обыкновению спешу на почту.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
261
РОДНЫМ
28 января 1858 г.
Милый папенька! Ваше письмо от 18 января мы получили своевременно. Мы все, оставшиеся в Петербурге, здоровы и благополучны.
Через несколько часов после того, как было послано наше предыдущее письмо к Вам, во вторник, 21 янв., в шесть часов вечера отправились мы провожать за границу Сашеньку. Он поехал, милые дяденька и тетенька, в почтовой карете на Тауроген, оттуда проедет, уже в прусской почтовой карете, в Кенигсберг, а из Кенигсберга, по железной дороге, в Берлин, где думает пробыть до мая; в мае проедет он через Дрезден в Прагу, где также останется несколько месяцев, потом, к осени, отправится в Италию, и на зиму поселится в Париже.
До Таурогена почтовые кареты ходят с небольшим трое суток, и, стало быть, в субботу утром Сашенька был в Таурогене. Оттуда до Кенигсберга сутки езды, и в воскресенье Сашенька, вероятно, был уже там. Не знаю, пробудет ли он в Кенигсберге два-три дня, чтобы осмотреть город, или проедет в Берлин, не останавливаясь, — если сделал последнее, то вечером в воскресенье был он уже в столице Пруссии. Из Берлина и Кенигсберга письма сюда приходят на шестой или седьмой день, и если Сашенька напишет тотчас по приезде, на-днях будет к нам письмо от него, которое мы перешлем к вам. Но я думаю, что в первые дни он может не найти досужного часа для письма; потому очень возможно, что известия от него мы получим только уже недели через полторы.
23*
355
Все его письма мы будем пересылать вам, милые дяденька и тетенька. Точно так же и вы письма к нему присылайте нам: мы вернее и скорее будем каждый раз знать его адрес.
Провожали мы Сашеньку (предварительно погрустив дома о разлуке) очень весело: в почтамт собрались все его и наши близкие знакомые, так что съехалось до двадцати человек. Мы шутили, смеялись и напутствовали Сашеньку всеми добрыми желаниями.
Напишите к Сереженьке, чтобы он переписывался теперь со мною. Ему, вероятно, будет нужно посылать деньги. Я прошу Вас сказать ему, что он будет получать их аккуратно, каждый месяц, или через два месяца, как получал от Сашеньки; пусть напишет, сколько в месяц ему нужно — 15 р. сер. или больше.
Мы все, слава богу, здоровы.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
262
РОДНЫМ
11 февр[аля] 1858 г.
Милый папенька! Мы все, слава богу, здоровы. Письмо Ваше от 1 февраля получили своевременно.
Вместе с ним получили мы письмо от Сашеньки, которое посылаем вам, милые дяденька и тетенька. Из него видно, что Сашенька очень доволен своим путешествием. Он, в небольшой записке ко мне, говорит очень справедливо, что не хочет долго оставаться в Берлине, где университетские лекции скоро кончаются, и проедет в Париж, откуда через несколько месяцев воротится в Берлин, когда там опять начнутся лекции. Присылайте к нам письма ему, а мы будем их пересылать за границу к нему.
В Петербурге нет ничего особенно нового. Все здесь, как и по всей России, заняты исключительно рассуждениями об уничтожении крепостного права. К сожалению, многие помещики еще до сих пор не поняли, что единственная дорога для них теперь — предупреждать желания государя, и ропщут на рескрипт, в сущности очень выгодный для них. Они могут этим испортить свое дело.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы.
356
263
РОДНЫМ
18 февраля 1858 г.
Милый папенька! Ваше письмо от 8 февраля мы получили своевременно. Мы теперь все, слава богу, здоровы, но три дня тому назад Олинька вздумала, по совету докторов, поставить себе десяток пиявок, чтобы избавиться от лихорадки, которая недели две или три трепала ее и происходила, по словам докторов, от легкого воспалительного расстройства в желудке. Поставив пиявок, Олинька должна была полежать в постели один день, как обыкновенно делается для предосторожности в этих случаях.
Ha-днях был я у Лазаревского и просил его не забывать о делах дядюшки. Он хотел в тот же день написать письмо к Силичу. Но если, как мне кажется, с такими господами, как этот человек, письма и т. п. ни к чему не ведут, а действуют на них только деньги, то я думаю, что теперь мог бы прислать их, сколько было бы нужно. Напишите мне об этом, милый папенька и милая тетенька.
Отсюда на этой неделе уехали Булгаков, зять Горохова, и Антонов, молодой человек, занимающийся торговыми делами и очень хороший юноша (сын бывшего камышинского судьи). Последний взял несколько книг для Вас.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
P. S. Олинька на этот раз еще не пишет, потому что чувствует еще некоторую слабость после пиявок.
264
РОДНЫМ
25 февраля 1858 г.
Милый папенька! Ваше письмо от 18 февраля мы получили своевременно. Олинька все еще не пишет Вам, потому что не совсем еще здорова. У ней было небольшое воспаление в желудке, так что надобно было ставить пиявок. Теперь все прошло, и остается только некоторая слабость, но это ничего. Впрочем, и с самого начала болезнь не представляла ничего трудного, тем менее была опасна.
От Сашеньки мы получили письмо к вам, милые дяденька и тетенька. Прилагаю его здесь. Теперь Сашенька уже давно в Париже.
В Петербурге нет ничего особенного. Главным предметом разговоров остается освобождение крестьян. Государь чрезвычайно занят этим делом, и ему неприятна медленность дворянства вели-
357
корусских губерний в согласии на его желание. Действительно, надо отдать дворянам справедливость в том, что они держат себя очень неблагоразумно: ропот, даже брань и угрозы, — к чему хорошему для них может это привести? Они воображают, будто составляют в государстве самобытную и очень крепкую силу, — а на самом деле они дышат на свете только поддержкою со стороны правительства, и туго им придется, если они своим неблагоразумием лишатся покровительства и защиты. Государь кроткого характера, это так; но, наконец, самый кроткий человек теряет терпение и тогда может показать, что кротость не исключает твердости.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы.
265
РОДНЫМ
4 марта 1858 г.
Милый папенька! Наконец Олинька выздоровела и начала выезжать, просидев дома около месяца, из того числа пролежав в постели более недели. Болезнь ее не была ни опасна, ни серьезна, но довольно продолжительна. Олинька простудилась еще в начале зимы, все перемогалась и крепилась, но именно от этого вовсе разнемоглась под конец и должна была прилечь на несколько дней. Теперь, слава богу, все прошло.
От Сашеньки из Парижа мы еще не получали письма; как получим, перешлем к вам, милые дяденька и тетенька. К одному из своих знакомых, доктору Городкову, Сашенька писал днями тремя позднее, чем к нам. Он был тогда в Иене (по дороге из Берлина в Париж), где останавливался дня на два. Теперь он давно должен быть в Париже.
Новостей в Петербурге особенных нет. Ha-днях, после порядочных холодов началась оттепель. По улицам плохо ездить на санях, а на полозьях еще нельзя.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы.
266
РОДНЫМ
5 августа 1858 г.
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы. Олинька ездит гулять и чувствует себя хорошо.
Виктор растет и начинает говорить, хотя все еще довольно мало, — Саша начал порядочно произносить многие слова несколько раньше. Зато Виктор здоровее Саши.
358
В Петербурге говорят о назначении Ростовцева министром внутренних дел, как о факте несомненном; думают, что назначение произойдет немедленно после его приезда из-за границы, т. е. в конце августа.
Разнесся также слух, впрочем, еще не вероятный, о закрытии губернских комитетов, созванных для обсуждения крестьянского дела. Очень может быть, что их закроют, но теперь это было бы еще слишком рано — они едва успели собраться, и было бы преждевременно решить, что правительство не воспользуется их работами.
Мне кажется, милый папенька, что вторая книжка «Военного сборника» послана была Вам с Суетиным; неужели он еще не был у Вас? Третью книжку мы послали с Калмыковым — он будет у Вас на-днях. Если же Вы не получили еще вторую книжку, напишите мне, и я вышлю ее. Следующие книжки обещаюсь Вам высылать аккуратнее через почту, не дожидаясь случая посылать с знакомым.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы.
267
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
11 августа 1858 г.
После Вашего рассказа, мне остается только удивляться сходству основных черт в наших характерах, милый друг Николай Александрович. В Вас я вижу как будто своего брата, разница только в том, что те стороны характера, которые кажутся Вам дурными в Вас и которые действительно приносят Вам огорчения, ввязывая Вас в отношения тяжелые и неопределенные, — эти стороны во мне еще сильнее развиты, нежели в Вас. Таким образом, я, если должен быть Вашим судьею, могу чувствовать только одно: все дурное, что сделали Вы, сделал бы я (и постоянно делаю нечто подобное), — зато на многое хорошее, которое тут же Вы делали, недостало бы у меня характера. Я могу только сказать, что каковы бы ни были Вы, Вы все-таки гораздо лучше меня. А если, как я Вам говорил, я не лишен некоторого уважения к себе, то тем менее могу считать основательным В. самопрезрение: это временный порыв чувства, которое уступит место в Вас более справедливому мнению о В. нравственном достоинстве.
Мы с Вами, сколько теперь знаю Вас, люди, в которых великодушия или благородства или героизма или чего-то такого, гораздо больше, нежели требует натура. Потому мы берем на себя роли, которые выше натуральной силы человека, становимся ангелами, христами и т. д. Разумеется, эта ненатуральная роль не может быть выдержана, и мы беспрестанно сбиваемся с нее и опять лезем вверх, — точно певец, который запел слишком вы-
359
сокую арию, — то берет он ноты, недостижимые для других певцов, то хрипит, пищит, в результате выходит, что он поет фальшиво, — смейтесь над фальшивыми нотами, но не забывайте, что он вместе с ними берет и другие, которые заслуживают аплодисментов.
Если бы я хотел Вам исповедываться, я рассказал бы Вам о себе подвиги более гнусные, нежели все то, что Вы рассказываете о себе. Поверьте мне на слово, — или прочтите «Confessions» Руссо, там рассказывается многое из моей жизни, но далеко не всё. А все-таки, повторяю, я человек хороший, — а Вы лучше меня, в этом я убежден как 2 × 2 = 4. Чорт с ними, с подлостями, — мы люди, мы не можем быть, подобно мифическим существам наших Четь-Миней, без слабостей. А все-таки, мы очень хорошие люди. Будем принимать себя такими, как мы есть, — поверьте, мы все-таки лучше 99 из ста людей. О чем же горевать? «Зацепил — поволок, сорвалось — не спрашивай», по пословице, иначе сказать: мы всегда с Вами хотим поступать хорошо — удалось поступить хорошо в самом деле — ну, благодари себя за это; не удалось — я утешаюсь тем, что в сущности хотел хорошего, — вышла гадость, ну, чорт с нею, я не хочу и помнить о ней.
Ваши отношения к Т. К. в сущности показывают Вас человеком высокого благородства или чего-то подобного.
Но, действительно, от преувеличенности этого идеально высокого элемента в них есть много тяжелого для Вас.
Эта тяжесть, вероятно, будет становиться все больше с течением времени, и потому едва ли не самое благоразумное было бы оставить Вашу мысль о женитьбе без исполнения. Иначе Вы бесполезно будете мучиться, не доставляя никому удовольствия. Конечно, есть и другой шанс: время смягчит неприятные стороны Ваших отношений, но этот шанс неправдоподобен.
В самом деле, трудно будет Вам жить спокойно, если Вы женитесь. Не будет, по всей вероятности, счастлива и она с Вами.
Завтра напишу Вам еще — теперь пора на почту — вчера воротился домой очень поздно и, получив Ваше письмо, читал и обдумывал его до 2 часов, — а ныне поутру мешали мне писать, так что едва-едва успел набросать эти строчки до ½12-го.
Итак, до завтра. Ныне побываю у Т. К., поговорю с нею еще, — вероятно, о посторонних предметах, по крайней мере сам не буду сводить речи на Ваши отношения, — и завтра буду писать уже на основании этого разговора.
Ваш Н. Чернышевский.
P. S. Главное, старайтесь не принимать живо к сердцу ничего — «все перемелется, мука будет» — это уж я много раз испытывал: сначала бывало лезешь на стену, а потом понемногу увидишь, что можно бы волноваться гораздо менее, и что дело в сущности было вовсе не так важно, как показалось с первого раза.
360
268
H. A. ДОБРОЛЮБОВУ
12 августа 1858 г.
Вчера был у Терезы Карловны, проболтал с нею часа два или три о разных, большею частью посторонних предметах, и под конец она, кажется, смотрела на меня как на человека, который желает ей добра. По крайней мере я сам желаю ей от души всего хорошего, потому что она, действительно, добрая девушка и, сколько могу судить, достойна уважения не менее других.
Поэтому, теперь я затрудняюсь действовать против нее, как, разумеется, велит действовать житейское благоразумие. Это мне казалось бы некоторого рода недобросовестностью перед Терезой Карловной.
С другой стороны, против благоразумия восстают и собственные мои романические бредни, которыми я всегда был заражен.
Все это приводит к тому, что я совершенно не знаю, как думать и говорить относительно Вашего проекта женитьбы, если Вы сами не бросили его.
Не советую ничего. Как Вы поступите, так одобрит мой нерешительный и неопытный в подобных делах ум.
Об одном только мог бы я просить Вас: дайте себе время обдумать то или другое решение по возможности хладнокровно.
Еще вот о чем прошу Вас: когда воротитесь сюда, прежде всего заезжайте ко мне, и мы потолкуем. Когда видишь человека, все-таки несколько вернее судишь о его действительных чувствах и потребностях, нежели читая письмо, в котором почти всегда мысль выражается слишком сильно.
Опять помешали мне написать больше. Явился Аничков и без всякой надобности просидел час.
Если успею написать до 18-го, то пошлю Вам еще письмо. Но его содержанием будет только одно: не спешите решаться под влиянием экстаза, дайте несколько остыть ему.
Ваш Н. Чернышевский
269
РОДНЫМ
19 августа 1858 г.
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы и благополучны. Ваше письмо от 9 августа получили мы своевременно.
Новостей в Петербурге мало попрежнему. Говорят только, что проект учреждения генерал-губернаторов и уездных начальников (составленный Ростовцевым) встречает сильные возражения в Государственном совете. Действительно, он представляет важные затруднения, — например, говорят, что от одного учреждения уездных начальников расходы по провинциальному управлению
361
увеличатся на 6 миллионов рублей сер. Но когда Ростовцев возвратится из-за границы, вероятно, он пересилит своих противников. Вы, конечно, знаете, что он назначается министром внутренних дел, как все говорят; — если это действительно случится, он заберет власть над всеми министерствами, потому что чрезвычайный мастер на это. Другое дело, сумеет ли он сладить с делами, за которые берется.
В прошлый раз я так заторопился отправлять письмо свое на почту, что даже забыл вложить в конверт письмо от Сашеньки, о котором упоминал сам. Извините эту оплошность, милая тетенька. Теперь я получил еще другое письмо от Сашеньки к вам. Нам он присылает только коротенькие записочки, из которых видно, что он здоров.
Деньги за премию, ему данную, я получил, — воспользуйтесь, милая тетенька, остатком их — он составляет до 500 рублей сер., — чтобы поскорее устроить переход дяденьки в Саратов. Сашенька просит Вас об этом.
Я написал Вам в начале письма, милый папенька, что мы все здоровы, — но Олинька вчера жаловалась на зубную боль, плохо спала от нее ночью, и теперь еще спит, — я не хочу будить ее. Потому она и не сделала приписки.
Мамаша и я, мы поздравляем тебя, милый Сашурка, с днем твоего ангела. Будь здоров и весел, мой милый.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы.
270
РОДНЫМ
[Около 19 августа 1858 г.]
Милая тетенька, получив из Академии деньги, выданные в премию Сашеньке, посылаю из них, по его желанию, 500 р. — Ему эти деньги совершенно излишни, потому что содержания получает он на свою поездку довольно, а если бы и понадобилось ему больше денег, нежели дает университет, он всегда может получить, сколько ему будет нужно, от «Современника». Вы принесете ему большую радость, если употребите эти деньги на устройство Ваших дел. В банк их класть не стоит, потому что больше пользы доставят они, если будут употреблены на дело.
От Сашеньки получил я письмо к Вам, которое вложено здесь.
Целую Вас, милая тетенька. Ваш Н. Чернышевский.
Милый папенька, по желанию Сашеньки, я прошу Вас получить деньги, которые посылает он тетеньке.
Во вторник буду писать больше, по обыкновению. Мы все здоровы.
Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
362
271
РОДНЫМ
26 августа 1858 г.
Милый папенька, я просил одного из моих знакомых, родственника директору синодальной канцелярии, похлопотать о деле братца Ивана Фотиевича; директор на его просьбу отвечал, что дело это уже кончено, и прислал справку, которую влагаю в это письмо. Неужели указ о решении еще не получен в саратовской консистории?
Мы здесь все, слава богу, здоровы. Жаль, что мы не переселялись нынешнее лето на дачу — лето все было прекрасное, редкое в Петербурге и до сих пор стоит отличная погода. На даче было бы приятно в такое лето.
Новостей в Петербурге никаких нет; говорят только о путешествии государя и о праздниках, которые готовятся ему в Вильне. Рассказывают, что один бал, даваемый виленским дворянством, будет стоить 90 000 руб. сер. Говорят также, что один из тамошних богачей, граф Тышкевич, приготовил для государя такую великолепную охоту, одни охотничьи принадлежности которой стоили 30 000 р. сер., не считая расходов на содержание свиты и угощение посетителей.
Вообще путешествиями своими государь, как рассказывают, очень доволен.
Продолжают также толковать о проекте учреждения генерал-губернаторов и уездных начальников по всей России. Верного ничего нет: одни утверждают, что проект брошен между просим потому, что требует увеличения расходов по губернскому управлению на 6 000 000 р. сер.; другие, напротив, уверяют, что никогда проект не был так близок к исполнению, как теперь.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые, сестрицы.
Целую тебя, милый Сашурка. Теперь ты, я думаю, стал уже такой молодец, что прелесть. Брат кланяется тебе.
Да, я забыл отвечать на Ваш вопрос об адресе, выставленном на конверте с деньгами. Это письмо отправлял один из занимающихся у меня делами по журналу и выставил свой адрес, — мы продолжаем жить на прежней квартире, которой не думаем покидать.
272
РОДНЫМ
16 сентября 1858 г.
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы и благополучны. Письмо Ваше от 6-го сентября получили своевременно.
До вчерашнего дня у нас все продолжалось лето, — теперь
363
начались дожди и, вероятно, пойдут почти без перерыва. Слишком долго и постоянно для петербургского климата тянулась ясная погода.
Здесь все говорят о речах, произнесенных государем во время путешествия являвшимся к нему дворянам. В речи нижегородцам есть выражения многозначительные, но еще замечательнее, как уверяют, речь к московскому дворянству, не напечатанная. Уверяют, что сущность ее такова (конечно, слова имеют более округленный и дипломатический вид): «Вероятно, во мне есть много слабостей, но заметнее всех других мне самому одна: я ужасно люблю благодарить, иногда даже без слишком основательных причин. Однако, несмотря даже на эту мою слабость, я решительно не вижу возможности благодарить вас. Давно я говорил вам, что надобно спешить освобождением крепостных крестьян сверху*, иначе оно начнется снизу**. Я думал, что вы поймете меня. Вы не хотите понять; вы стараетесь затянуть это дело; вы надеетесь, что как-нибудь оно заглохнет. Этого не будет, уверяю вас. Снова говорю вам: спешите кончить это дело сверху, чтобы оно не сделалось снизу. Надеюсь, теперь вы меня поняли».
Не знаю, справедлив ли рассказ об этой речи; но, вероятно, что-нибудь подобное было говорено, потому что точно так содержание речи государя повторяется здесь всеми. Действительно, московское дворянство держало себя так, что неудовольствие государя на него правдоподобно.
От Сашеньки мы получили письмо из Турина; пересылаю его Вам, милая тетенька.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы, и тебя, милый дружочек Сашурка.
273
РОДНЫМ
30 сентября 1858 г.
Милый папенька, Ваше письмо от 20 сентября мы получили своевременно. Мы все, слава богу, здоровы и благополучны. Виктор становится занимательным мальчиком: понимает все, что говорим ему, хотя сам еще ничего не говорит, — Саша в его лета (1 год 9 месяцев) уже довольно много болтал.
В среду уехала Анна Ивановна Шапошникова, повидимому, довольная результатом своего посещения к министру финансов (Княжевичу), который принял ее очень хорошо.
Здесь получены французские газеты, в которых напечатана речь государя к московскому дворянству — она действительно почти такова, как я передавал Вам, с некоторыми прибавлениями, усиливающими ее твердость. Говорят, что скоро явится она и в русских газетах.
Московское дворянство совершенно заслужило упреки, которые делал ему государь; дай только бог, чтобы оно ими воспользовалось и исправилось.
От Сашеньки третьего дня мы получили письмо из Рима к Вам, милая тетенька, и ныне отсылаем ему Ваше письмо, — он теперь едет во Флоренцию, оттуда в Прагу, на зиму проедет, вероятно, в Париж. Нам он ничего не пишет. Это значит, что он совершенно доволен.
Давно я жду письма от Сереженьки, — что-то он поделывает в Казани и чем решил свои колебания о том, переехать ли в Москву или Петербург, или остаться в Казани?
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, вас, милые сестрицы, и тебя, дружок мой Сашурка.
274
РОДНЫМ
14 октября 1858 г.
Милый папенька, Олинька, слава богу, чувствует себя хорошо и поправляется после родов, как следует. Самые роды были правильны и были бы даже легки, если бы Олинька была крепка в силах. Но во время беременности она несколько раз бывала больна, потому и не имела той крепости, какою одарена от природы. Слабость сил сделала роды более продолжительными, нежели могли бы они быть при хорошем здоровье во время беременности. Но они были правильны и не сопровождались никакими особенными обстоятельствами.
Ребенок родился большой и здоровый, такой же, как Виктор. Голос у него сильный и басистый, так что мог бы он быть хорошим дьяконом.
Олинька надеется, что можно будет ей встать с постели после завтра, в четверг. Быть может, в следующий раз она сама уже напишет Вам несколько слов.
От Сашеньки мы получили письмо из Рима. Пересылаю его к Вам, милая тетенька. Нам он пишет несколько слов, из которых видно, что он здоров и счастлив совершенно. Он теперь уже знает, что остается за границею еще на год, и очень доволен этим.
За хлопотами я все еще не успел взять из университета его премию, — на этой неделе непременно возьму и пришлю к Вам. Ему самому деньги решительно не нужны, а если бы понадобились, он легко мог бы получить, сколько нужно, написав какие-
365
нибудь очерки своего путешествия. Но теперь он вовсе не имеет нужды в деньгах.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Бог так милостив, что я надеюсь на него: это письмо найдет Вашу болезнь прекратившеюся и здоровье восстановленным, по благости божией, — но я этим был встревожен отчасти. Ваш сын Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы.
Целую тебя, милый дружок Сашенька, и благодарю за твою приписку.
275
РОДНЫМ
28 октября 1858 г.
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы и благополучны. Олинька теперь чувствует себя совершенно хорошо и могла бы, кажется, даже выезжать; но хочет держать себя как можно осторожнее и потому решилась сидеть дома до окончания шести недель. Она в нынешний раз менее изнурена родами, нежели тогда, когда родился Виктор. Похудела не очень много и вообще отделалась от всей истории с Мишею легче, нежели как в прежние разы.
Мишу в четверг мы крестили. Гостей никого не было, кроме крестной матери и крестного отца с женою. Гости эти посидели у нас часов до десяти, и Олинька могла уже держать себя настоящею хозяйкою, — распоряжаться всем, занимать сидевших у ней. Но под конец вечера несколько устала, зато тем лучше спала.
От Сашеньки мы получили еще письмо к Вам, милая тетенька. Нам он ничего особенного не пишет. Здоров и совершенно доволен своими разъездами, — вот все, что можно сказать о нем.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы.
276
РОДНЫМ
11 ноября 1858 г.
Милый папенька, Ваше письмо от 1 ноября мы получили благовременно.
Вы не беспокойтесь тем, что Олинька ныне к Вам не пишет и даже не надписала конверта; у нее просто только болят зубы, которыми она от расстройства нерв уже раза два страдала в это время, и болят довольно сильно.
Что же касается до выздоровления ее после Миши, то она чувствует себя так хорошо, что уже выезжала несколько раз прока-
366
титься. Ныне же или завтра зубная боль пройдет, и Олинька опять будет совершенно здорова.
Миша также здоров.
Вы пишете, милый папенька, о гражданской службе. Исполняя Ваше желание, я постараюсь при случае куда-нибудь причислиться, чтобы считаться на службе. Действительно же поступать мне на какое-нибудь место, соединенное с обязанностью что-нибудь делать, нет расчета: служба в мои лета никак не может дать столько денег, сколько получаю я, употребляя время на занятия не служебные. Ведь директором департамента или членом совета министерства меня не сделают, а даже если бы могли сделать начальником отделения, это было бы мне невыгодно, потому что начальник отделения получает всего 1 400 р. жалованья, а занят делами с утра до ночи. По «Военному сборнику» я не считаюсь на службе для того, чтобы сохранять независимость от генералов, с которыми имею сношения по этому изданию. Мне предлагали сделать редакторскую должность при Гвардейском штабе, но я отмолчался от этого предложения: теперь я могу говорить прямее, нежели мог бы тогда. Что же касается до того, чтобы учить где-нибудь, учительская обязанность невыгодна. В университет я пошел бы, если не с радостью, то и без особенных потерь для меня (да и то еще не знаю); но если в университете такие люди, как Кавелин и Березин, мои друзья, то с другой стороны у меня там много врагов между дрянными профессорами, и из этого всего не может выйти ничего. Но в угождение Вам причислиться куда-нибудь я постараюсь, хотя вовсе не нуждаюсь в службе.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы.
От Сашеньки я получил письмо, которое посылаю Вам.
277
РОДНЫМ
18 ноября 1858 г.
Милый папенька, опять Олинька ничего не пишет Вам, потому что не совсем здорова — у нее болит голова довольно сильно. После болезни ее осталась некоторая слабость, потому Олинька иногда жалуется на зубы, иногда на голову, — это нервическая боль, проходящая на другой, на третий день. Когда окрепнут силы, это все пройдет.
Малютка наш здоров, точно так же, как и его старший брат. Миша, кажется, будет похож на мамашу свою: черноглазый и черноволосый мальчик, крепкого сложения.
У нас после сильных (по-здешнему, а не по-саратовски) морозов в 8 и 10°, наступила оттепель. День и ночь льет с крыш вода.
367
Мы боимся, что сойдет весь снег, которого было уже много, и начнется грязь.
Здесь пронеслись было положительные слухи об увольнении Муравьева. Но пока еще нет никакого распоряжения об этом. Вероятно только, что он сильно колеблется и останется министром разве еще несколько месяцев.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую тебя, милый Сашурка.
Милая тетенька, посылаю Вам еще письмо Сашеньки, писанное раньше того, которое послал я с прежнею почтою. Тут произошла следующая история. Когда я кончил письмо в прошедший раз, принесли новое письмо от Сашеньки. Положив его подле своего оконченного, но не запечатанного письма, я ушел в другую комнату говорить с одним господином, пришедшим ко мне по делу. Разговор затянулся. Олинька, еще не зная, что от Сашеньки получено новое письмо, вложила его в конверт, принимая за прежнее, и не взяла прежнего, которое лежало в ящике.
Сашенька здоров и весел. Я уже отправил ему деньги из университета за следующий год, так что он теперь богат.
Целую Вас, дяденьку и сестриц.
Милый папенька, я едва не позабыл написать ответ на Ваш вопрос о том, кто крестил Мишу в действительности, а не только по записке в книги. Крестною матерью была Авдотья Яковлевна Панаева (жена И. И. Панаева, редактора «Современника»), а крестным отцом — вице-директор комиссариатского департамента Виктор Михайлович Аничков, наш хороший знакомый.
С прошлою почтою Олинька послала вам, милые сестрицы Полинька и Евгеньичка, по шляпке к рождеству в подарок; не знаю, как вы их поделите, а Олинька предназначала тебе, Евгеньичка, лиловую, а тебе, Полинька, белую.
278
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
[Около 22 декабря 1858 г.]
Николай Александрович,
Вероятно, Вы встаете раньше Николая Алексеевича, потому, как он встанет, потрудитесь сказать ему, что я вчера слышал от Тургенева:
Долгорукий (которого Тургенев видел) зашел вчера в типографию, увидел там мои замечания на проект, вообразил, что его поймали в ловушку (конечно, он не сообразил, что замечания были бы показаны ему) и взбесился страшно, особенно фразами: «мы, маратели бумаги», «автор не замечал, какие последствия будет иметь это» (стало быть, говорит, я глуп, если не понимаю), «печатаем затем, чтобы не явилось в другом издании без замеча-
368
ний». Он бегал уже к Делянову, рвет и мечет. То же подтвердил и Анненков (я видел их у Галахова).
Надобно Николаю Алексеевичу поскорее, ныне же утром, написать Долгорукому и, приложив корректуру его статьи, объяснить истинный ход дела, то есть, что замечания хотели показать ему.
Ваш Н. Чернышевский.
279
РОДНЫМ
30 декабря 1858 г.
Милый папенька, мы все еще раз поздравляем Вас с новым годом и желаем встретить Вам его и провести в здоровье телесном и душевной радости. Мы сами надеемся встретить его подобру-поздорову. Наши малютки, внучата Ваши, растут хорошо. Виктор, который очень долго молчал, теперь, когда остается один или задумается и не замечает, что в комнате есть кто-нибудь, рассуждает сам с собою или напевает какие-то песенки, но при нас очень скромен в речах, он, повидимому, будет соблюдать правило благоразумия: «держи язык за зубами». Миша, конечно, еще ничем не успел проявить своих будущих правил; впрочем, он мальчик очень спокойный и плачет редко.
Олинька на рождество веселилась меньше, нежели следовало бы: на самый день праздника у нее сделался небольшой флюс, который продержал ее в комнате дня четыре. Теперь он прошел, и она может выезжать. Разумеется, нельзя флюс и называть нездоровьем, но все-таки скучно сидеть в комнате, особенно во время праздников.
Мое намерение съездить на весну в Саратов к Вам, милый папенька, не встречает себе теперь ни в чем затруднений, и я непременно отправлюсь, если только бог даст нам всем здоровья. В следующем письме я напишу об этом подробнее, а теперь только скажу, что обстоятельства расположились очень счастливо для исполнения этого моего желания.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Мы получили, милая тетенька, письмо от Сашеньки. Посылаю его Вам. В небольшой записке ко мне он прибавляет, что чехи встретили его, как истинные друзья, и не может нахвалиться их радушием.
Целую вас, милая тетенька и милый дяденька, и вас, милые сестрицы и братцы, и поздравляю вас с наступающим новым годом.
У Олиньки сегодня несколько ломит левый глаз, в который переходит по временам боль из выздоравливающей щеки, потому она и не пишет ничего. К завтрашнему дню все это пройдет-
24 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
369
280
РОДНЫМ
13 января [1859 г.]
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы. Ваше письмо от 3-го января получили мы во-время, в субботу вечером, но подновились, куда пропало наше письмо, которого Вы не получали: мы отправили его на почту, как и всегда. Теперь Олиньки нет дома, рано поутру она отправилась делать разные закупки по хозяйству и, вероятно, забыла написать Вам несколько строк. Я еще спал.
Вчера узнал я неожиданную новость о деле, про которое давно забыл и думать, но которое, вероятно, интереснее для Вас. Вот уже почти четыре года, как я держал экзамен на магистра. По окончании всех формальностей, решение университетского совета было, как обыкновенно, представлено на утверждение министру народн[ого] просвещения. Министром в то время был Норов, который не мог слышать моего имени, — почему? бог его знает, я никогда его в глаза не видел, но были у меня доброприятели, которые потрудились над этим. Отвергнуть представление университета он не решился, потому что это было бы нарушением обычных правил, но положил бумаги под сукно. Университетские очень обиделись и года два приставали ко мне, чтобы я подал в университет вопрос о моем магистерстве, — тогда университет имел бы формальное основание вести дело. Я отвечал, что мне в этом нет надобности, что если они обижены, то могут поступать, как угодно, а что я даже рад этому случаю несогласия министра. Действительно, я был рад, потому что, слава богу, имею некоторую репутацию, не нуждающуюся в министерских утверждениях, а это дело придавало ей больше эффекта. Наконец сменился Норов. Университетские опять приставали ко мне, чтобы я дал им нужную бумагу. Я опять сказал, что не имею в том надобности. Наконец вчера, не знаю как, получается утверждение министра. Я улыбнулся. Теперь опять возобновятся предложения занять кафедру в университете. Прежде я не мог принимать их, потому что с этим была связана необходимость просить университет об окончании магистерского дела. Теперь посмотрю, какую кафедру будут предлагать и на каких условиях. Тут есть еще формальности, на которые я не соглашусь: докторский экзамен, пробная лекция. Я не мальчик, чтобы держать экзамены и читать пробные лекции. Если найдут возможным отбросить эти формы, которым теперь мне уже неприлично (по моему мнению) подчиняться, я соглашусь, а если нет, не соглашусь, потому что надобности в месте не имею.
Мне опять возобновляли просьбу заняться «Военным сборником». Я не мог согласиться.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
370
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы.
Целую тебя, милый дружочек Сашурка. Месяца через четыре, или даже скорее, мы с тобою увидимся.
281
РОДНЫМ
20 января [1859 г.]
Милый папенька, ныне у нас день рождения Викториньки. Ему два года, и Саша в это время говорил уже очень бойко; но Викторинька очень застенчив и болтает только тогда, когда считает себя одним в комнате. При нас едва, и то изредка, скажет одно какое-нибудь слово. Он здоровее Саши и гораздо смелее его. Пройти одному через комнату, где нет свечи, для него ничего не значит. Саша не отваживался на это до самого отъезда к Вам. Не знаю, сделался ли храбрее теперь.
В Петербурге зима стоит очень неудобная по погоде. Бывает изредка по два, по три дня сильного (по-здешнему) мороза в 15 — 20° холода, потом стоит недели полторы или две такая оттепель, что на улицах нет ни прохода, ни проезда. Здесь снегу очень мало, по сравнении с саратовским, и нужно только два дня быть теплу, чтобы снег сошел весь, и осталась мостовая, покрытая грязью. Невозможно себе представить, какое мучение и для седока, и для лошади тащиться по камням на полозьях.
У нас, недели две тому назад, были слухи о войне с Австриею. Мне казались они тогда же неверны. Теперь оказывается, что действительно война едва ли будет. Мы хотели помогать французам; но Франция призадумалась, и ссоры ее с Австриею кончатся на этот раз мирно. Через полгода, через год, конечно, неудовольствия могут снова усилиться. У нас были сделаны распоряжения о сформировании обсервационного корпуса на границах Галиции. Пока на этом остановились, и дальнейшие меры кажутся правительству ненужными при нынешнем миролюбивом расположении главных врагов, Франции и Австрии.
Ha-днях, кажется, третьего дня, — был я в университете, чтобы получить деньги для отсылки к Сашеньке. Там мне сказали, что уже приготовлен мне магистерский диплом. Когда случится быть там в другой раз, возьму его и перешлю к Вам, милый папенька, вместе с книгами, которых давно уже мы не посылали. Надобно также написать братцу Ивану Фотиевичу, — это я сделаю, когда кончу свои расчеты по журналам за прошлый год.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Милая тетенька, от Сашеньки я получил письмо, которое передаю Вам. Он здоров. Целую Вас, дяденьку, сестриц и братцев.
Сереженька мне давно не писал, — что-то он поделывает и не нужно ли ему денег? У меня остается еще для него несколько Сашенькиных денег.
24*
371
24*
282
И. А. ПАНАЕВУ
Милостивейший Государь
Ипполит Александрович,
Мы говорили с Николаем Алексеевичем о разных моих делишках и нашли к устройству их такой способ, чтобы предоставить мне «Историческую библиотеку» и воспользоваться наличными деньгами по ней, с тем, чтобы из этих денег я производил и все уплаты.
Я полагаю ныне вечером или завтра, или послезавтра, в какое Вам будет удобнее время, заехать к Вам, чтобы ограбить Вас, на сколько Вы можете допустить грабеж. Сделайте одолжение, напишите мне, когда я менее помешаю Вашим занятиям.
Ваш преданнейший Н. Чернышевский.
25 января 1859.
P. S. Расчетами слишком подробными и точными Вы не затрудняйте своего писца теперь, это когда будет досуг, а теперь довольно тех, которые Вы уже сделали, когда я был у Вас.
283
РОДНЫМ
3 марта 1859 г.
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы. Ваше письмо от 21 февраля получили своевременно.
Новостей у нас мало, кроме слухов о войне. Двигают два корпуса в Волынскую губернию, чтобы грозить Австрии. Действительно, войну, кажется, не хотят начинать, но эта армия будет склонять Австрию быть уступчивее в переговорах, которые теперь ведутся, а если Франция и Австрия все-таки не согласятся и станут воевать, то наши войска, собранные на галицийской границе, будут задерживать значительную часть австрийских сил.
Я в этот месяц занимался главным образом «Историческою библиотекою», чтобы несколько нагнать просрочки в ее издании. Теперь 4-й том почти весь отпечатан, а 5-й подготовлен к изданию, так что до отъезда в Саратов надеюсь выпустить оба их и приготовить половину 6-го тома.
Сюда приехал из Саратова Макашин, отданный в солдаты по вражде бывшего головы Масленникова; он хлопочет об отставке за болезнью. Вероятно, это дело устроится.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы.
372
284
РОДНЫМ
8 марта 1859 г.
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы и благополучны. Ваши внучата растут хорошо. Виктор очень долго не начинал говорить, а только пел, аккомпанируя себе на фортепьяно. Теперь начал и говорить, впрочем, еще не с особенным красноречием, каким отличался Сашурка. Мише привили оспу, и теперь боль от нее уже начинает проходить.
В Петербурге теперь говорят, что мы не будем воевать с Австриекю, а только поставим на границах Австрии 100 или 120 тысяч войска, чтобы держать ее в страхе и развлечь ее силы. Конечно, это лучше, нежели вести войну без всякой притом надобности; но все-таки и вооруженный нейтралитет (как называют систему, которой мы хотим следовать) обойдется очень дорого: много уйдет на него денег, десятки тысяч солдат погибнут от болезней, а провинции, в которых будут стоять такие огромные силы, сильно истощатся. Лучше было бы нам и не вооружаться. Наполеон нас обманывает, пользуется нами для своих целей.
По крестьянскому вопросу назначена комиссия для окончательного составления нужных положений. Председателем сделан Ростовцев. Говорят, что в число членов он берет людей просвещенных и понимающих дело надлежащим образом. Дай бог! Говорят, что это дело хотят кончить к совершеннолетию наследника, т. е. к сентябрю.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы.
Целую и тебя, милый друг Сашурка.
285
РОДНЫМ
17 марта 1859 г.
Милый папенька, мы все слава богу, здоровы.
Ваше письмо от 7 марта мы получили своевременно. От Сереженьки я также получил письмо, в котором он говорит, что экзамен у него кончится в конце мая. Таким образом я, по всей вероятности, застану его в Казани. Я собираюсь ехать, как только начнется пароходство по Волге. Я почему-то воображал, что оно начинается в апреле; но я не сообразил, что в верховьях Волга вскрывается несколько позже, чем у нас, так что правильные отправления пароходов начинаются с 3 или 4 мая из Твери. Я думаю расположить свою поездку так, чтобы прожить у Вас, милый папенька, около месяца и приехать назад в Петербург к 25 или
373
26 июня. Одна книжка «Современника» выйдет таким образом без моего участия; это еще ничего. На более долгий срок — например, на 2½ месяца — мне отлучиться из Петербурга в нынешнем году еще неудобно. После, в следующем году, можно будет устроить и это. В прошедшие годы я не мог отлучиться и на две недели; но теперь есть другие люди, на которых лежит часть того, что прежде я делал один. Поэтому-то у меня и остается теперь свободное время заниматься Шлоссером. В прошлом году этого свободного времени оставалось маловато, и выпуск томов запоздал. Теперь времени гораздо больше, и оттого я надеюсь издать остающиеся пять томов в нынешнем году. Один из них совсем готов, другой будет готов до моего отъезда отсюда.
Слухи о войне в Западной Европе усиливаются, но мы, кажется, понемногу убеждаемся, что нам нечего в нее мешаться. Тысяч до 100 войск будет поставлено по границе, но они предполагаются назначаемыми только для охранения наших областей.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы. От Сашеньки я еще не получал письма. Он все еще живет в Берлине.
286
И. А. ПАНАЕВУ
Милостивейший Государь
Ипполит Александрович,
Если бы это не затруднило Вас, я просил бы Вас написать мне, сколько теперь есть подписчиков на «Историческую библиотеку» 1859 года и сколько в нынешнем году разошлось еще экземпляров ее за прошлый год.
Я просил бы также Вас за статью в № 3 «Современника» «Возвращение Милоша в Сербию» считать по 30 р. за лист и за 11/8 л. ее, если можно, передать деньги мне или автору, г. Обручеву, как Вы найдете удобнее.
Ваш преданнейший Н. Чернышевский.
5 апреля 1859.
287
РОДНЫМ
7 апреля 1859 г.
Милый папенька, Христос воскресе! Честь имею поздравить Вас с светлым праздником и пожелать Вам встретить его в добром здоровье и радости душевной.
Мы готовимся встретить праздник здоровыми и довольными. Письмо Ваше, милый папенька, от 28 марта мы получили почти целыми двумя сутками позже обыкновенного, — так испортились уже дороги.
374
Но скоро будем мы избавлены от этих задержек. Железная дорога в Саратов построится с быстротою замечательною: один из акционеров этой компании, сын учредителя Анненкова, сказывал мне, что работы непременно будут окончены в пять лет; тогда поездка до Саратова отсюда будет требовать всего только 44 часов, менее двух суток, и люди, подобно мне, часто имеющие свободного времени дней по восьми или десяти, будут иметь возможность пользоваться этими льготными днями, из которых теперь ничего нельзя сделать.
У нас начинается весна, — снегу уже нет, и улицы почти присохли. Если на праздники погода будет ясная, то мы будем праздновать пасху, действительно, как весенний праздник, что здесь случается не часто.
Я теперь кончаю свои дела, которые надобно очистить перед отправлением к Вам, милый папенька.
Целую Ваши ручки, сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы, и поздравляю вас с наступлением светлого праздника
288
И. А. ПАНАЕВУ
Милостивейший Государь
Ипполит Александрович,
Я Вас попрошу теперь прислать мне, хотя с этим человеком, деньги за три статейки Пискунова, считая по 40 р. за лист.
Из этих статеек первая помещена чуть ли еще не в № XII прошлого года, помню только, что всех их три.
Ваш преданнейший Н. Чернышевский.
10 апреля 1859.
289
И. А. ПАНАЕВУ
[середина апреля 1859 г.]
Прошу Вас, Ипполит Александрович, послать эти деньги г-ну Тютчеву, который живет на Гагаринской улице, в доме Андреева.
Ваш покорнейший слуга Н. Чернышевский.
290
РОДНЫМ
14 апреля 1859 г.
Милый папенька. Ваше письмо от 4 апреля мы получили только вчера вечером, почта запоздала слишком тремя днями. Вероятно, уже повсюду вскрылись реки. Нева прошла в четверг
375
и пятницу на страстной неделе, теперь у нас весна, то есть дождь почти непрерывный, эта непогода и составляет в Петербурге весну.
Два или три раза здесь уже разносились слухи о телеграфических известиях, объявляющих начало войны, вчера говорили, что австрийцы перешли границу и идут на Турин. Не знаю, верен ли этот слух, или преждевременен, во всяком случае он показывает, что войну теперь считают неизбежною. Мы двинули на Волынь два корпуса (3-й и 4-й), — дай бог, чтобы они ограничились охранением наших границ, на которые, впрочем, и не хотят нападать австрийцы. Пока, сколько можно судить по здешним слухам, мы не думаем вмешиваться в войну.
Праздник мы встретили дома. На первый день виделись с Иваном Григорьевичем, который кланяется Вам. Завтра он будет у нас обедать.
Я получил письмо от Алексея Ивановича Воронова, с младшим из двух сыновей которого я работаю вместе. Если Вы, милый папенька, увидитесь с А. Ив., я прошу Вас передать ему, что этот младший — прекрасный юноша, который не пропадет. Ныне он поступит в университет и наверное пойдет там хорошо. Старший сын его, ныне оканчивающий курс, занимался в Академии отлично и, может быть, останется здесь по окончании курса. Оба эти Вороновы очень хорошие и умные люди.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Милая тетенька, поздравляю Вас с днем Вашего ангела. Сашенька прислал к Вам из Парижа письмо, которое мы влагаем здесь.
Целую Вас, милого дяденьку, и вас, милые сестрицы.
Целую тебя, милый друг Сашенька.
291
И. А. ПАНАЕВУ
19 апреля [1859 г.]
Милостивейший Государь Ипполит Александрович.
Если можно, то я просил бы Вас прислать мне ныне 100 р. в счет по «Современнику». Этим Вы оказали бы мне большое одолжение.
Ваш преданнейший Н. Чернышевский.
Воскресенье, 19 апреля.
292
РОДНЫМ
21 апреля 1859 г.
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы. Письмо Ваше мы получили почти в обыкновенное время, значит дороги попра-
376
вились. У нас, кажется, думает начаться весна с нынешнего дня, а до сих пор стояла непогода.
Вы уже прочли в газетах телеграфические депеши о начале войны. Самое интересное для нас: примет ли Россия участие в ней? — до сих пор остается неизвестно, да, кажется, и сами правители наши еще не знают этого хорошенько. Носятся слухи о их желании воспользоваться временем, когда Западная Европа занята своими войнами, чтобы возвратить уступленные по Парижскому миру клочки. Дай бог, чтобы мы удержались от этой мысли. Гнилой кусок Бессарабии и дрянная крепость Измаил, в которой ежегодно умирало от злых лихорадок до 4 000 человек из нашего гарнизона, решительно не стоят того, чтобы покупать их русскою кровью.
Три корпуса, до 150 000 человек, собираются на австрийской границе, но это еще не значит, что мы уже решились начать войну: эта армия пока предназначается только для того, чтобы затруднять Австрию своим присутствием на границе, как затрудняла нас австрийская армия в 1854 году.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые тетенька и дяденька, и вас, милые сестрицы.
Целую тебя, милый друг Сашурка.
293
РОДНЫМ
28 апреля [1859 г.]
Милый папенька, Ваше письмо от 18 апреля мы получили только вчера, в понедельник. Почта ныне запоздала двумя днями» между тем, как в прошлый раз замедления не было. У нас все еще ничего неизвестно о том, будет ли Россия участвовать в начавшейся войне. По всей вероятности, если война продлится, то мы не сумеем избежать от обольщений Наполеона. Теперь уже достоверно известно, что существует между Россией и Франциею договор, по которому мы обязались выставить на австрийской границе наблюдательную армию. Это еще только первый шаг по пути к войне, и до войны еще остается далеко; но видно, что мы не удержимся от дальнейших действий по тому же направлению, если война не прекратится в скором времени, чего ожидать трудно.
Мы все здоровы. Внучата ваши, милый папенька, растут хорошо. Виктор начинает говорить довольно порядочно, но вообще он развивается гораздо медленнее, нежели Саша, хотя телом крепче его. Миша самый веселый и бойкий малютка из всех своих братьев. Он беспрестанно хохочет и пляшет. Саша был в его возрасте гораздо серьезнее, а Виктор смеялся еще меньше.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
377
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы. От Сашеньки мы получили письмо собственно к нам; однако же посылаю его вам.
294
РОДНЫМ
5 мая 1859 г.
Милый папенька, свою поездку мне пришлось отложить до июня месяца. Я располагался было отправиться в мае с одним из первых пароходов; но дела у меня здесь расположены так, что в каждом месяце самая важная часть для моих занятий — от 25 числа до конца месяца. Потому я хочу расположить свою поездку так, чтобы отправиться в самом начале одного месяца и воротиться к 25 числу следующего месяца. В мае в первых числах мне нельзя было уехать, потому что Олинька теперь не совсем здорова. Надобно было, кроме того, заняться несколько внимательнее «Историческою библиотекою», которую я слишком запустил. Теперь Олинька поправляется, и, бог даст, через четыре недели не будет мне препятствий отправиться к Вам, милый папенька.
Новостей у нас особенных нет. На лето Олинька думает отправиться на дачу, по здешнему обычаю. Из прошлых пяти лет мы только одно провели на даче, — это было на второй год нашей жизни здесь; тогда Олинька очень поправилась. Теперь, вероятно, также запасется здоровьем лучшим того, чем пользовалась нынешнею зимою и прошлым летом.
Иван Григорьевич вам всем кланяется.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Милый дяденька и тетенька, в прошедший раз, торопившись отправлением письма, я забыл вложить записку Сашеньки, о которой упоминал. Теперь поправляю эту ошибку.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы.
295
И. А. ПАНАЕВУ
Милостивейший Государь
Ипполит Александрович,
Г. Калиновский просил меня, чтобы деньги, следующие ему за статью в № V «Современника», передать г. Сераковскому.
Передавая Вам эту просьбу, прошу Вас также, если можно, прислать мне 100 р. Этим Вы очень обяжете
Вашего преданнейшего
Н. Чернышевского.
15 мая 1859.
P. S. Г. Калиновскому было сказано, что он должен получить по 40 р. сер. за лист.
378
296
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
[Май 1859 г.]
Николай Александрович,
Ныне я чувствовал себя опять не совсем здоровым, потому и не успел прочесть более значительной дозы статьи об Италии. Извините меня перед Обручевым, если будете у него. Очень благодарен Вам за справку у Кожанчикова.
Наши пьют чай у Бокова, а я без них расположился терпеть припадок лихорадки. Ваш Н. Чернышевс[кий].
297
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
[Конец июня 1859 г.]
Посылаю Вам, Николай Александрович, продолжение политики. Остальные листы привезу с собою, а ворочусь в Петер[бург] на Штеттинском пароходе, который отходит в субботу 4 числа ст[арого] стиля, поэтому будет в Петерб. 7 числа. Оставаться здесь долее было бы скучно. Разумеется, я ездил не понапрасну, но если б знал, что это дело так скучно, не взялся бы за него. Собственно здесь я с удовольствием прожил бы месяцы и годы — я нахожу, что здешние нравы лучше всего подходят к здравому смыслу, т. е. нравы туземцев. Но боже мой, по делу надобно вести какие разговоры! Не хочу писать, чтобы не огорчить Пыпина, через руки которого пойдет это письмо, но если хотите вперед узнать мое впечатление, попросите Николая Алексеевича, чтобы он откровенно высказал свое мнение о моих теперешних собеседниках, и поверьте тому, что он скажет; он ошибется разве в одном: скажет все-таки что-нибудь лучшее, нежели сказал бы я об этом предмете. Кавелин в квадрате — вот Вам все.
Кланяйтесь Николаю Алексеевичу и другим, кому почтете нужным. У Авдотьи Яковлевны поцелуйте за меня руку.
298
А. В. СТАСОВУ
[Конец июня 1859 г.]
Дмитрий Васильевич жив, здоров и благополучен. Я виделся с ним во вторник.
Н. Чернышевский.
379
299
И. А. ПАНАЕВУ
[7 или 14 или 21 июля 1859 г.]
Милостивейший Государь
Ипполит Александрович,
Перед отъездом моим за границу Николай Алексеевич говорил, что я могу попросить у Вас денег, когда буду собираться в другую поездку, на родину. Поэтому, если можно, я просил бы у Вас 200 р. сер., если Вы можете исполнить эту просьбу, будьте так добры, передайте эти деньги Николаю Александровичу Добролюбову — он увидится со мною в субботу.
Ваш преданнейший
Н. Чернышевский.
Пятница
300
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
31 июля [1859 г.] Саратов.
Николай Александрович, посылаю окончание статьи. Только здесь, вчера и ныне написал я большую часть. На пароходе можно было писать только во время непродолжительных остановок у пристаней, — на всех пароходах, на которых мы ехали, корпус был построен слабо, и от толчков машины сильно подергивало, так что рука дрожала. Можете видеть признаки этого в некоторых строках, написанных на ходу этой дрянноватой машины.
Прибавки понадобятся только с 18 листа. Я отметил, где надобно будет вставлять новые известия, и в оригинале и на обороте этого листка. Во многих местах, вероятно, окажется лишним «если» и «вероятно» — будут уже известия о фактах, которых я только ждал.
Написанного я не успел перечитать. Потому не стесняясь оригиналов, исполненных недописок и ошибок, поправляйте бессмыслицы по собственному вдохновению. Оглавление можно хотя такое, если не дадите более замыслова[то]го: Неосновательность упреков, делаемых императору французов за Виллафранкский мир. — Речь императора в Сен-Клу. — Негодование во Франции и Италии. Урок для либералов.
Кланяйтесь Николаю Алексеевичу и Ивану Ивановичу.
Поцелуйте за меня руку у Авдотьи Яковлевны.
Ваш Чернышевский.
1, лист 18. Нет ли в газетах известий о каких-нибудь новых и сильнейших проявлениях неудовольствия во Франции? Если бы были и говорилось, что они опасны, эпитет «опасный» едва ля заслуживает веры. Падение Наполеона не может последовать из итал. вопроса. Нужны внутренние поводы.
380
Вообще, начиная с 18 листа оригинала, вероятно, во многих случаях будущее время уже обратилось в прошедшее, и «может быть» стало лишним.
2, лист 20. Нет ли продолжения тосканских событий? Не собрались ли уже депутаты, и не сделаны ли дальнейшие военные распоряжения? Воротились ли тосканские войска из бывших в 5-м франц. корпусе (принца Наполеона) или французы задержали их?
3, лист 20. Не пришли ли уже французские войска (вероятно, корпус принца Наполеона) в Тоскану, не было ли стычек у них с тоск. и не было ли бомбардирования Ливорно (центр маццинистов в Тоскане). — В Легатствах (северная часть Папской области) центр маццинистов Болонья. Модена хотела действовать заодно с Легатствами, но, быть может, она примкнула к Тоскане?
4, л. 20. Нет ли чего нового в Легатствах?
5, л. 28. Не было ли где событий подобных злодействам перуджианским?
301
РОДНЫМ
8 сентября [1859 г.]
Милый папенька, мы все здесь, слава богу, живы и здоровы. Я нашел, что во время моей поездки Олинька очень поправилась. Дети, разумеется, заметно выросли в полтора месяца, особенно Миша. Виктор начал порядочно говорить, и после того стал гораздо бойчее и веселее прежнего: видно, что он конфузился от своего неуменья болтать.
Ныне приготовлена великолепнейшая иллюминация, какой никогда еще не бывало в Петербурге; даже та, которую устраивали во время коронации, далеко не так была блистательна, как нынешняя. Наши все собираются итти посмотреть, что такое будет на Невском проспекте, который от нас в двух шагах. У них много кавалеров, потому поход безопасен для Олиньки и Полиньки.
Говорят, что в манифесте, кроме обычных милостей, будет находиться распоряжение о значительном сокращении солдатской службы.
Здесь много говорят о взятом в плен Шамиле. Для него приготовлено помещение в Таврическом дворце, и вообще он будет принят с большим почетом. Насмотревшись на него, предложат ему избрать для жительства Казань или Киев. Слава богу, теперь Кавказ не будет поглощать ежегодно по 25 000 русских солдат; одна из тех язв, которые истощали Россию, закрывается.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую Вас, милая тетенька, тебя, милая Евгеньичка, и вас, Петя, Миша и Сашурка.
381
302
И. А. ПАНАЕВУ
Пятница, 2 окт[ября 1859 г.]
Я был у Вас ныне, Ипполит Александрович, чтобы попросить денег. Не застав дома Вас, посылаю это письмо с тою же просьбою. Я просил бы Вас, если можно, прислать мне 250 р.
Кроме того, я попросил бы Вас послать за 6-й том «Истор. библ.», который скоро выйдет, 100 р. сер.
в Саратов,
Евгению Александровичу
Белову,
в Саратовской гимназии.
Кроме этих денег, за 6-й том придется заплатить не более 75 р., — остальные деньги уже уплачены.
Ваш преданнейший
Н. Чернышевский.
303
И. А. ПАНАЕВУ
Ипполит Александрович,
В нынешней (октябрьской) книжке «Современника» помещена статья Пыпина «Из Флоренции»; завтра поутру я посылаю ему деньги и потому просил бы Вас кстати прислать мне и деньги за эту статью. В ней 1½ листа, потому приходилось бы рублей 75.
Ваш преданнейший
Н. Чернышевский.
21 окт., среда [1859.]
304
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
[Октябрь 1859 г.]
Николай Александрович,
Есть большая статья «Schamyl und der heilige Krieg im Caucasus» в Gegenwart, том 1, — этого тома у меня нет, его можете взять у Карла Ивановича. Есть также сочинение Боденштедта с заглавием «Кавказ» или что-то подобное, — не Transcaucasien, то есть Грузия, которое было переведено, а собственно о горцах и Шамиле.
Ваш Н. Ч.
P. S. Надеюсь, что, выздоровев телесно, Вы выздоровели и нравственно, то есть соглашаетесь быть благодетелем вдов и сирот литераторов и ученых.
382
305
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
[Октябрь 1859 г.]
Николай Александрович,
Не получаете ли Вы «Журнала для акционеров»? Если есть, он у Вас, пришлите, потому что нужно бы написать несколько слов об акционерных компаниях, Кавелине и т. д.
Ваш Н. Чернышевский.
306
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
[Октябрь 1859 г.]
Николай Александрович,
«Соврем.» за 1856 Вы у меня не найдете. Долинского статью о полиции печатать не стоит, потому что пришлось бы слишком много переделывать в ней; я отдал ее Ив. Ивановичу. Об акционерных обществах в нынешнем месяце я не успею написать, — нужно еще кончить «Политику». К Костомарову сделаю выноску о Соловьеве.
Ваш Н. Ч.
307
Е. П. КОВАЛЕВСКОМУ
Его превосходительству
Егору Петровичу Ковалевскому.
От Чернышевского.
Изъявили желание быть членами-учредителями Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым:
Т. Г. Шевченко
И. И. Панаев
В. А. Ламанский
А. Н. Пыпин
Е. П. Карнович.
Н. Чернышевский.
24 октября 1859.
308
Д. В. СТАСОВУ
Дмитрий Васильевич,
Если вы намерены не отказывать в просьбах нуждающимся, то будьте добры: посетите меня в воскресенье вечером, тем более, что это день святителя Николая чудотворца мирликийского, которому мы помолимся вместе.
Ваш Н. Чернышевский.
5 декабря [1859 г.], суббота.
383
309
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
[1860 г.]
Что ж Вы давно не написали мне, что нездоровы, Николай Александрович? Я усладил бы Ваши страдания полезными увещаниями: «Сами виноваты!.. Я говорил Вам... Вот то-то и есть, вы, молодые люди» и т. д.
Вечером к Вам зайду, а теперь буду ждать к себе Вульфа. Если он не зайдет ко мне из конторы, я проеду к нему часов в пять и привезу Вам деньги.
Ваш Н. Чернышевский.
P. S. На-днях видел я два раза Бабста, отличный человек. Характером отчасти похож на Вас.
310
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
[Октябрь 1858 — май 1860 г.]
Николай Александрович,
Я боюсь и посылать Вам эту книгу, опасаясь, что Вы обратите на нее жолчь, которой преисполнены. Это убьет меня. Пощадите мою жизнь — она нужна для того, чтобы я написал ту повесть, в которой хочу изобразить Вас. Притом же у меня трое детей.
Мы с Кавелиным на следующей неделе собираемся к Обручеву. Когда соберемся, будьте и Вы нашим компаньоном.
Писать я кончаю тоже ныне.
Ваш преданнейший Н. Черныш[евский].
311
И. А. ПАНАЕВУ
Милостивейший Государь
Ипполит Александрович,
Прошу Вас выдать г. Маркову 100 р. сер. в счет перевода «Исторической библиотеки» за 7-й том.
Ваш преданнейший
Н. Чернышевский.
11 января 1860.
312
РОДНЫМ
9 февраля 1860 г.
Милый папенька, мы теперь все, слава богу, здоровы. Олинька поправилась после своей небольшой немощи.
Предметом всеобщих толков служит смерть Ростовцева, вле-
384
кушая за собою неизвестность о том, каким способом поведется теперь дело об освобождении крепостных крестьян и кто будет назначен на место Ростовцева председателем комиссии. Некоторые ожидают, что дело будет поручено Муравьеву (министру госуд. имущ.), другие полагают, что назначен будет Ланской.
Болезнь, от которой умер Ростовцев, медики, лечившие его, называют карбункулом. Он, быть может, перенес бы ее, если бы силы его не были изнурены предшествовавшею долгою болезнью другого рода, чем-то вроде чахотки. Государь чрезвычайно дорожил Ростовцевым. В последнее время подавались Государственному совету ежедневные отчеты о состоянии его здоровья. Государь несколько часов сидел при постели умирающего до самой его смерти и много плакал.
Кроме этих разговоров о назначении преемника Ростовцеву, других занимательных слухов нет в городе.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые тетенька и сестрица Евгеньичка, и тебя, дружок Сашурка.
313
РОДНЫМ
16 февраля 1860 г..
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы. Письмо Ваше от 6 февраля дошло до нас своевременно.
Сереженька, наконец, получает место, — прямо штатное, что ныне удается довольно редко. Он обязан этим Ивану Григорьевичу, который сохраняет к нам всем истинно родственные чувства. Сашенька, повидимому, остается здесь: Петербургский университет, кажется, успеет отбить его у Московского. Он с Сереженькою устраивается теперь своим особенным хозяйством: вчера они с Ольгою Сократовною ездили покупать мебель.
На место Ростовцева назначен Панин (министр юстиции). Надобно полагать, что труды, исполненные при Ростовцеве, подвергнутся теперь переделке. Говорят, что Панин удаляет из редакционной комиссии важнейших сотрудников Ростовцева. Это в порядке вещей. Посмотрим, что будет.
Главноуправляющим военно-учебных заведений назначен великий князь Михаил, которого хвалят люди, имевшие случай работать с ним. Рассказывают, что он думает переделать прежнюю систему, которая стоила государству огромных денег и давала мало хороших офицеров. Говорят, будто великий князь полагает полезным оставить в военных училищах только высшие классы для взрослых юношей, уже получивших гимназическое образование в училищах гражданского ведомства, так что военные училища из нынешних школ сделаются, так сказать, военными ака-
25 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
385
демиями. Если действительно будет устроено так, то надобно ожидать, по мнению людей знающих, хороших результатов.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые тетенька и сестрица Евгеньичка, и тебя, милый дружок Сашурка.
314
РОДНЫМ
23 февраля 1860 г.
Милый папенька, я был очень обрадован известием о переселении дяденьки в Саратов; теперь и Вам будет несколько менее скучно, и для всех наших несколько спокойнее и легче. А я было начинал уже думать, что все обещания останутся неисполненными.
У нас теперь стоит саратовская зима. Оттепелей не было с самого рождества — случай редкий в Петербурге. По этой суровости погоды детские болезни в Петербурге ныне очень сильны. Наднях одна из них забрела и к нам: у Виктора была жаба, болезнь довольно опасная, но, слава богу, теперь она уже прошла или почти прошла. Мы были встревожены, но с нынешнего утра уже спокойны.
Что будет делать Панин, назначенный на место Ростовцева, до сих пор еще неизвестно хорошенько. Говорят, что государь велел продолжать ему дело в прежнем духе и не изменять ничего в основаниях, принятых при Ростовцеве. Но говорят также, что все-таки начнутся новые совещания о том, что было уже решено, и следствием нового пересмотра будут некоторые переделки в прежнем уставе. Посмотрим, который из двух слухов окажется более справедливым.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Поздравляю вас, милые дяденька и тетенька, с перемещением в Саратов дяденьки. Я ныне отправляю к Жеребцову письмо об этом. Уверьте его, что я с удовольствием сам постараюсь сделать, что могу, если у него будет какое-нибудь дело в Петербурге.
Целую вас, тебя, милая Варенька, и тебя, Евгеньичка. Целую тебя, дружок Сашурка.
315
H. Н. ОБРУЧЕВУ
В четверг я свободен и с радостью воспользуюсь случаем несколько освежить в себе возвышенные стремления, сильно пострадавшие от того, что долго я не виделся с Вами, Николай Николаевич. Пыпиным и Костомарову скажу. Добролюбов должен быть также свободен.
Ваш Н. Чернышевский
23 февр. [1860 г.]
386
316
РОДНЫМ
1 марта 1860 г.
Милый папенька, письмо Ваше от 20 февраля мы получили своевременно. Слава богу, хранящему нас.
Дети у нас почти совершенно поправились. В прошлый раз я писал Вам, что у Виктора была жаба (воспаление в горле), и в то утро, когда я писал, начала уже проходить. Но после него тем же занемог Миша. Теперь и Миша почти здоров. Но за детьми пришла очередь Олиньки: она утомилась, няньчась с больными, и ей самой привелось пролежать дня два-три. Впрочем, ее нездоровье не представляет совершенно ничего важного. Ныне вечером, я полагаю, она снова будет на ногах. Видно только, что вообще не мешает ей на лето отправиться в Саратов, чтобы укрепиться силами.
В Петербурге нет ничего нового. Панин, назначенный председателем редакционной комиссии по крестьянскому делу на место Ростовцева, объявил членам комиссии, что государь приказал ему не делать в прежних работах никаких перемен и докончить составление проекта устава в скорейшем времени.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы Евгеньичка и Варенька.
Целую тебя, дружок Сашурка.
317
РОДНЫМ
8 марта 1860 г.
Милый папенька, вот уже вторник, а мы до сих пор еще не получали от Вас письма, которое должно было бы притти еще в субботу. Это меня несколько беспокоит. Или почта начала уже так сильно замедляться? Кажется, еще рано портиться дорогам.
Наши детишки теперь окончательно поправились; болезнь их (жаба) продолжалась недели полторы. Олинька тоже оправилась от утомления беспокойством о них, которое заставило ее пролежать несколько дней (больше, впрочем, только для отдыха), когда детишки стали поправляться.
У нас погода переменяется к весне: по временам ветер имеет уже теплоту. Зима нынешняя была довольно тяжела для малолетних жителей и жительниц Петербурга: только бывало и слышишь, что болеют дети в том или другом знакомом семействе.
Переходя от детей к господам более взрослым, можно теперь сказать, что дела Сашенькины и Сереженькины довольно подвинулись вперед. Сереженька уже берет дела из Синода и со следующей недели будет ходить туда. Ему прямо или почти прямо
25*
387
дают штатное место, что ныне получается не очень легко. Сашенька уже выбран в Москве в профессоры, и у него просят присылки бумаг. Но здесь также ведется дело о назначении его на кафедру, и он не торопится посылать бумаги в Москву, ожидая, чем кончатся хлопоты здешнего университета. Вероятно, кончится тем, что определят его здесь.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, вас, милые сестрицы Варенька и Евгеньичка, и всю остальную компанию.
318
РОДНЫМ
15 марта 1860 г.
Милый папенька, теперь мы, наконец, все уже действительно и вполне здоровы. Какое множество раз по[не]множку или и серьезно должен поболеть человек, пока вырастет и несколько окрепнет! Зубы одни раз пять или шесть делают беспокойство тем, кому дорог малютка. Наши детишки еще гораздо лучше в этом отношении, чем многие другие дети, особенно петербургские, но и с ними много раз приходилось беспокоить[ся] матери. Теперь они здоровы.
Письмо Ваше от 27 февраля мы получили во вторник через несколько часов после отправления нашего прошлого письма. Письмо 5 марта, напротив, пришло к нам своевременно.
Сашенька, повидимому, остается профессором здесь: Делянов, здешний попечитель, уведомил его о согласии министра на представление, сделанное советом здешнего университета. На-днях должна быть получена бумага об этом из министерства.
Ныне день рождения Олиньки. Кажется, кроме своих, у нас никого не будет. По крайней мере, мы никого не звали и не хотим звать.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, вас, милые сестрицы, и тебя, дружок Сашурка. Грамоте ты знаешь, как видно, еще плоховато, — да и не учись, пока не будешь ростом хотя аршина в полтора.
319
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
[Март 1860 г.]
Николай Александрович!
2-ой книжки «Нар. чт.» за 60 г. у меня не отыскалось. Когда придут Пыпины, я спрошу их еще, не существует ли она. Рецензия Жуковского, судя по 1-ой странице, годится. Я просмотрю ныне и думаю, что пошлю в типографию. Зачем Вам нужно, чтобы я
388
писал рецензии ныне? Их и так довольно, листов должно быть 6. Я хотел было писать, но думаю теперь (Пыпин написал три рецензии), что лучше уж не задерживать книжку, — пусть выйдет, а на следующую напишу. Да не пишите сами, не горячитесь из-за общественного блага, как Соловьевич, а лучше отдохните.
Ваш Н. Ч..
P. S. Три. билета на костомар. диспут для Вас взяты.
320
РОДНЫМ
22 марта 1860 г.
Милый папенька, Ваше письмо от 12 марта мы получили своевременно. Слава богу, хранящему нас. Мы здесь также все здоровы.
Сашенькино дело кончилось так, как я предполагал и писал Вам. Он сделан экстраординарным профессором по новой, для него учреждаемой кафедре сравнительной истории европейских литератур. Это большой почет для него, что он назначен прямо экстраординарным профессором, а не адъюнктом. Это, да и вообще все обстоятельства его дела, хлопоты всех хороших профессоров и Делянова (здешнего попечителя) служат доказательством, что в ученом кругу очень уважают его. Собственно, я очень доволен тем, что он остается здесь — это полезно по многим разным обстоятельствам.
В субботу был в большой университетской зале ученый диспут между Ник. Ив. Костомаровым и Погодиным, нарочно приехавшим для этого из Москвы. Сбор за билеты (в пользу бедных студентов) простирался до 2 000 р. сер. Публики было более 1 500 человек. Каждое слово Костомарова покрывалось продолжительными знаками сочувствия со стороны публики. По окончании диспута Николая Ивановича вынесли на руках. Предмет спора был очень сухой (норманны или литвины были Рюрик и его варяго-руссы?, и публика сошлась, конечно, только по любви и уважению к Костомарову. Он пользуется здесь такою славою, какой не имел еще никто из здешних профессоров от основания университета.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, вас, Варенька и Евгеньичка, и тебя Сашурка.
301
РОДНЫМ
5 апреля 1860 г.
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы теперь. Олинька Поправилась совершенно. Праздник мы встретили очень тихо в своем семейном кругу.
389
Олинька собирается довольно скоро переехать на дачу по Московской железной дороге, верстах в 100 от Петербурга — по железной дороге это составляет только 3½ часа. Ha-днях она ездила на Чудовскую станцию, где представляются нам особенные удобства для сообщений с Петербургом, потому что там живет знакомый нам помещик, поставляющий дрова для паровозов и готовый выписывать из Петербурга все, что нам понадобилось бы, за самую ничтожную плату. Олинька думает взять дом, стоящий в полуверсте от Чудовской станции, имеющий при себе сад и окруженный лесом. По всей вероятности, мы туда и переселимся. Мои дела располагаются на лето так, что довольно мне бывать в городе раз в неделю, на одни сутки, так что я почти все время буду проводить на даче.
Сашенька окончательно определен профессором в здешний университет: на-днях уже вышел и приказ об этом. Лекции он будет читать с нового академического года, с сентября или с конца августа, но жалованье будет итти ему с половины марта, когда подписана министром бумага о его назначении. Сереженька поступил в Синод, где служит Иван Григорьевич.
Погода у нас стоит на праздниках прекрасная. Солнце светит вот уже три дня — случай не очень частый в это время года. На улицах сухо.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы Варенька и Евгеньичка. Целую тебя, милый дружок Сашурка.
322
РОДНЫМ
12 апреля 1860 г.
Милый папенька, Ваше письмо от 1 апреля мы получили вчера, в понедельник. Почта все еще приходит позже обыкновенного, но уже только двумя днями, а неделю тому назад приходила четырьмя днями позже, чем следует.
Мы все теперь, слава богу, здоровы. Олинька совершенно поправилась. Много содействовала этому стоявшая на пасху хорошая погода: Олинька очень сильно чувствует всякое улучшение погоды; два дня с ясным солнцем для нее важнее всяких лекарств.
Она все ищет для себя дачи; вероятно, выбор ее остановится на даче у Чудовской станции железной Московской дороги в 3½ часах езды от Петербурга. Кажется, в прошлом письме я говорил об этом.
Сашенька собирается на лето съездить в Саратов. Олинька хочет просить Вас принять вместо Сашурки Викториньку, который теперь имеет одну ножку такую же, какую прежде имел Са-
390
шурка, а Сашурку хочет просить у Вас назад себе, потому что сильно соскучилась о нем.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Милая тетенька, честь имею поздравить Вас с днем Вашего ангела и пожелать Вам встретить его в добром здоровье.
Вас, милый дяденька, и милые сестрицы, поздравляю с дорогою именинницею.
Целую тебя, дружок Сашурка.
Вчера Олинька виделась с Николаем Ивановичем Костомаровым, который сказал, что Татьяна Петровна собирается в Петербург. Олинька сказала ему, что надобно просить Татьяну Петровну взять с собою Евгеньичку и Сашурку сюда. Он полагает, что Татьяна Петровна не откажется, что, напротив, Татьяне Петровне будет веселее ехать вместе с ними. Поэтому мы просим Вас, милая тетенька, отпустить Евгеньичку к нам с Татьяною Петровною, а Вас, милый папенька, отпустить с нею Сашурку, не дожидаясь приезда Сашеньки — профессора, который может из Саратова ехать не на пароходе, путем неудобным для Евгеньички и Сашурки, которым гораздо спокойнее будет ехать с Татьяною Петровною. Мы об этом просим Вас непременно. Вы, милая тетенька, пожалуйста, не колеблетесь отпустить Евгеньичку. Полинька, если не устроится иначе, может возвратиться к Вам с Шарлоттою Федоровною.
Пожалуйста, приезжай, Евгеньичка, — мы все об этом тебя просим. С Татьяною Петровною мы разочтемся здесь, а если Вы, милый папенька, захотите отдать ей деньги вперед, то напишите об этом — мы пришлем.
323
РОДНЫМ
19 апреля 1860 г.
Милый папенька, мы вчера получили Ваше письмо от 8 апреля. Слава и благодарение богу, хранящему нас.
Благодарим Вас, милый папенька, за Ваше согласие принять Виктора. Он страдает таким же искривлением ноги, каким страдал Сашурка, когда приехал к Вам: пожить у Вас будет так же полезно для него, как было для Сашурки. Его возьмет с собою Сашенька, собирающийся в Саратов, и мы попросим Вас отпустить с Сашенькою старшего его племянника, если Вы еще не отправите его до той поры с Евгеньичкою и Татьяною Петровною. С следующего года нам всем будет можно приезжать в Саратов аккуратно каждое лето или даже и два раза в год, потому что будет готова железная дорога до Нижнего. Я думал было, что приеду с Олинькою и нынешним летом, но этот план расстроился серьезною болезнью одного моего приятеля, который разделяет со мною журнальные хлопоты: он едет лечиться или, лучше ска-
391
зать, отдохнуть, за границу, и мне надобно оставаться в Петербурге. К новому году он вернется, и тогда я могу опять свободнее располагать своим временем.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы. Целую и тебя, дружок Сашурка.
324
РОДНЫМ
26 апреля 1860 г.
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы. Письмо Ваше от 15 апреля мы получили в воскресенье.
Милый папенька, приезжайте в самом деле к нам на лето. Вы так обрадуете нас этим посещением, что я и сказать не умею. Олинька была бы, кажется, едва ли не еще больше рада, чем я. Это стоило бы не дорого, и деньги у нас на это найдутся. А самый путь совершенно спокоен. Только надобно выбрать путь до Твери на пароходе, а не на почтовых: на пароходе в тысячу раз спокойнее. Но непременно должно взять первые места, а не вторые, потому что во вторых бывает тесно. Приезжайте непременно, милый папенька. Если Вы решитесь, мы тотчас же пришлем деньги. Вы нас очень обрадуете этим.
Сейчас мы отправляемся с Олинькою в Любань смотреть дачу, отдаваемую внаймы Вашим хорошим знакомым А. Я. Стобеусом; если она окажется удобна, немедленно возьмем ее; если нет, будем продолжать поиски. До Любани от Петербурга около 90 верст. 2½ часа езды по железной дороге; отправившись в 12 часов, мы вернемся в Петербург в 8.
Целую Вас, милый папенька, и Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
Целую Вас, милые дяденька и тетенька, вас, милые сестрицы, и тебя, дружок Сашурка.
325
РОДНЫМ
17 мая 1860 г.
Отправляясь сегодня в город с дачи, я встретил на станции Татьяну Петровну Костомарову и проводил ее на квартиру сына. Она говорит, что доехала на пароходе очень хорошо и спокойно. Жаль, что Евгеньичка и Сашурка не ехали с нею: это было бы для них спокойнее, чем ехать с Сашенькою. Сашенька думает отправиться дня через три; мы посылаем с ним Виктора к Вам, милый папенька, и к Вам, милая тетенька. Не знаю, будет ли он
292
так занимателен для Вас, как Сашурка: он растет умом гораздо медленнее его, зато, впрочем, и не такой шалун.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, вас, милые сестрицы, и тебя, дружок Сашурка.
326
РОДНЫМ
1860 г. мая 24. Любань.
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы. Я пишу Вам опять один, потому что Олинька уехала кататься, не приготовив письма.
В пятницу, 20 мая, мы проводили Сашеньку, который взял с собою Виктора к Вам, на замену Сашурки, с которым очень хочется повидаться Олиньке, уже два года бывшей в разлуке. Она ожидает увидеть [его] чрезвычайно умным, хотя и безграмотным, — посмотрим, оправдает ли он ее надежды. Когда Вы получите это письмо, наши гости, вероятно, будут уже у Вас. Они отправились на пароходе из Твери. С Виктором послали мы его здешнюю няньку, потому что Сашенька сам не управился бы с таким спутником, как его племянничек.
Вы не любите присутствия петербургских нянек, потому отправьте эту няньку назад к нам с первым пароходом, — Сашенька устроит все это, как Вы ему скажете.
Мы слишком много обязаны Вам, милый папенька, и милой тетеньке за Ваши хлопоты о Сашурке. Просим также позаботиться и о Викторе, — впрочем, просить напрасно, потому что Вы без просьбы также заботились бы о нем. На следующее лето, если бог даст, будем здоровы, приедем к Вам все вместе.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы.
327
РОДНЫМ
31 мая 1860 г. Любань.
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы. Погода теперь установилась, наконец, хорошая, и мы много гуляем. В городе бываем раз в неделю: я по своим делам, Олинька за тем, чтобы искать квартиру, на которой было бы удобно жить нам вместе с Сашенькою: для этого надобны комнаты две лишних против тех, сколько есть на нынешней нашей квартире.
Теперь Сашенька давно уже у Вас, вместе с Виктором. Мы боимся, что Викторинька не так понравится Вам, как Сашурка. Несмотря на свой почтенный возраст — три с половиною года, —
393
он говорит еще плохо, гораздо хуже, чем говорил Сашурка в эти годы. Но он добрый мальчик и менее капризен, чем оба его братца. У Виктора характер довольно тихий, а Миша еще вертлявее Сашурки — ни на минуту не усидит на месте.
В Петербурге новостей мало, как всегда бывает летом.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы. Полинька третьего дня уехала с Иваном Григорьевичем — на Валаам или в Шлиссельбург, не знаю хорошенько. Ныне к обеду она должна вернуться домой. Наверное, будет в восторге от своей прогулки.
328
Н. А. НЕКРАСОВУ
Николай Алексеевич,
Попросите Ипполита Александровича прислать Пекарскому 100 рубл. Адрес Пек[арского]6 у Казанского собора, по канаве, дом Вельша, кварт[ира] № 3.
Ваш Н. Чернышевский.
2 июня 1860.
329
РОДНЫМ
7 июня 1860 г. Любань.
В прошедший раз мы сделали неисправность, которая могла потревожить Вас, милый папенька: мы пропустили почтовый поезд, с которым надобно было отправить письмо в прошлый вторник, так что оно было послано уже тремя днями позже, в пятницу. Это произошло просто оттого, что мы двумя минутами опоздали притти на станцию с прогулки, на которой были.
После холодной весны теперь начался очень сильный зной, так что в нашей маленькой речке (имени которой мы не знаем) вода стала так тепла, как бывает в Волге у нас в Саратове. Поэтому даже я. ни разу не купавшийся в Петербурге, по нелюбви к холоду воды, здесь купаюсь по нескольку раз в день. У нас есть своя купальня, очень удобная.
В город мы ездим не часто. Мои дела теперь таковы, что довольно мне бывать в Петербурге раз в неделю. Олинька познакомилась с семействами соседних помещиков, так что ей здесь не скучно.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька. Полинька отправилась на два дня к Ивану Григорьевичу, который также живет на даче, только в самых окрестностях Петербурга. Она воротится домой завтра.
Целую вас, милые сестрицы, и тебя, Сашурка.
Нового в Петербурге нет ничего, милый друг, Сашенька.
394
330
РОДНЫМ
14 июня 1860 г. Петербург.
Милый папенька, пишу это письмо один, потому что не успел написать до отъезда с дачи в город. Олинька, оставшаяся на даче, вероятно, также напишет, если не уехала на прогулку по окрестностям. Она и Миша совершенно здоровы.
Мы проводим время на даче довольно приятно и страдаем только от комаров, которых повсюду и около Петербурга, и, верятно, до самой Москвы необыкновенное множество нынешним летом.
Когда дойдет до Вас это письмо, Сашенька и Сашурка, вероятно, будут уже собираться вместе с Евгеньичкою. Желаю им хорошего пути.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы.
Если ты, милый друг Сашенька, еще не решил, каким способом ехать, послушайся «мудрого совета», даваемого тебе старцем, изведавшим эти вещи, то есть мною: поезжай на пароходе; это менее утомительно и скучно, хотя бы даже целую неделю больше длилось, чего, вероятно, не будет. Езда на почтовых ужасна. Бери место на пароходе.
331
РОДНЫМ
20 июня 1860 г. Петербург.
Милый папенька, мы наняли себе квартиру, в которой будет помещение и для Сашеньки, не находившего себе комнаты в нашей прежней квартире. Новый наш адрес: на Васильевском острове, во 2-й линии, на углу Большого проспекта, дом Громова. Сашенька, вероятно, знает этот дом — в нем помещается между прочим почтовое отделение. Для Сашеньки положение места очень удобно: ближе к университету невозможно жить. Впрочем, близость эта принимается по здешнему масштабу, а по-саратовски это будет, как от нас до Троицы. Но университет со всех сторон окружен огромными казенными зданиями, так что ближе такого расстояния от него нет частных домов.
Теперь Олинька отправилась смотреть за перевозкой мебели с прежней квартиры на новую, — собралась она приняться за это очень рано поутру, чтобы кончить ныне же; потому и не успела написать письма. А я пишу, сидя на квартире у Сереженьки.
Олинька и Миша совершенно здоровы теперь. Полинька, вероятно, пошлет с дачи свое письмо особо. На дачу мы вернемся, вероятно, завтра.
395
Я очень рад, что Анна Сократовна выходит замуж, если жених сколько-нибудь порядочный человек: жить в ее родном доме было ей очень не удобно. Она девушка с очень добрым сердцем, но еще очень молода по мыслям, — совершенная девочка. С хорошим мужем она может сделаться прекрасною женщиною.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы, и вас, друзья мои, Сашурка и Викторинька.
332
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
23 июня [1860 г.]
Сейчас получил я письмо от Терезы Карловны. Она просит прислать Ваш адрес: тот, который был написан в Вашем письме, она не могла разобрать. В Дерпт она думает переехать в августе и продолжать учиться. Об остальном она, вероятно, напишет Вам сама, когда получит от меня Ваш адрес. Находясь в немилости у вас за Серно-Соловьевича (статью которого об уставе банков безобразовском, вероятно, напечатаем в «Совр.», пользуясь Вашим отсутствием), не хотел я писать вам ничего о своих делах, но все-таки должен сообщить одну новость: Анна Сократовна выходит замуж за телеграфного офицера саратовской станции: фамилия его, если не ошибаюсь, Малиновский. Он человек с состоянием. Я от души рад, если жених человек сколько-нибудь порядочный.
Будьте здоровы, милый друг.
Ваш Н. Чернышевский.
P. S. Пишу собственно потому, что представилась оказия — Ник. Алексеевич сказал, что собирается писать Вам о каких-то нужных вещах.
333
РОДНЫМ
28 июня 1860 г. Любань.
Милый папенька, не знаю, соберется ли Олинька послать Вам письмо из Петербурга, куда вчера уехала устраивать новую квартиру, или будет так занята хлопотами, что не успеет написать.
С переездом на новую квартиру соединено такое множество хлопот, что если бы мне самому приходилось ими заниматься, я не управился бы, кажется, в целый месяц. Но Олинька занимается всеми этими делами с удовольствием, и они идут у нее скорее, чем пошли бы у меня. Теперь она уже приводит их к концу и, если не вечером ныне, то завтра утром вернется опять на дачу, и тогда
396
уже не будет ей надобности часто ездить в город. По своим делам я должен бывать в городе раз в неделю, не больше.
Теперь мы с нетерпением ждем приезда переселенцев, отправленных Вами. Особенно Олинька чрезвычайно соскучилась по Сашурке: она воображает его уже молодцом, каков он, впрочем, и на самом деле стал из хилого мальчика, благодаря Вашей любви, милый папенька, и любви тетеньки и сестер.
Лето у нас до сих пор почти постоянно было ненастное, и большие жары продолжались всего не больше недели.
Мы все, слава богу, здоровы.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы. Целую тебя, дружок Викторинька.
334
РОДНЫМ
5 июля 1860 г.
Милый папенька, честь имею поздравить Вас с наступающим днем Вашего ангела и пожелать Вам встретить и провести его в добром здоровье.
Мы третьего дня встретили едущих от Вас гостей. Они добрались очень хорошо; даже не стояли на мелях, чего я никак не надеялся. Они говорят, что с Сашуркою на пароходе было очень много хлопот, потому что он ни на одну минуту не сидел на месте. Олинька так обрадовалась его приезду, что я Вам и передать не умею. Очень много мы должны быть благодарны Вам за него, — теперь его здоровье, кажется, совершенно поправилось.
Все мы приехали дня на два с дачи в Петербург, показать его Евгеньичке и сделать некоторые покупки. Олинька с сестрами остались ночевать на квартире Сашеньки, а мы все отправились на новую нашу квартиру. Потому я пишу особое письмо, не зная, успеет ли написать Олинька и сестры, уставшие от вчерашних хлопот, — быть может, они все проспят почту. Сашенька тоже спит.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, тебя, милая сестрица Варенька, и тебя, дружок Виктор.
P. S. Запечатываю чужою печатью, потому что моя осталась на даче.
335
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
8/20 июля 1860 г.
Получив письмо Ваше, Николай Александрович, я хотел было писать к Некрасову, но через полчаса передумал. Вы писали, еще
397
не получив его письма, при котором и я послал Вам несколько строк. Надобно прежде узнать мне, что говорил он в этом письме, — вероятно, ничего удовлетворительного, а впрочем, ведь могло случиться и наоборот. Он говорил мне, что надобно Вам остаться за границею на год, что в денежном отношении это не будет обременительно для Вас. Но как именно полагает он условиться с Вами о деньгах, он не говорил. Я тогда не почел нужным продолжать этого разговора; теперь вижу, что не мешало бы спросить у него; тогда не нужно было бы спрашивать у Вас, что именно писал он.
Что Вам необходимо остаться за границею, это Вы и сами видите. Некрасов не меньше Вас понимает это и лучше Вас знает, что для собственной выгоды должен устраивать дела с Вами совершенно так, как Вы сами захотите. Он с Вами спорить не может; что Вы скажете, на то он должен согласиться. Я думаю, Вы сами это понимаете. Потому напишите ему или мне, как вздумаете, чего Вы хотите — на всякие Ваши условия он может отвечать только одно: «я сам хотел предложить Вам это».
Теперь скажу, что я сам сделаю по своим делам. Когда он вернется в Петербург (вероятно, в августе, я скажу, что мне надобно получать часть дохода с «Совр.», кроме платы за статьи. Он скажет: ваша правда. Ведь он ждет этого уже несколько лет и, конечно, дивится, что давно этого не сделано мною.
Точно то же он думает и о Вас.
Вам, пожалуй, не нужно и вмешиваться в эти разговоры. Все равно, те условия, которые должен я устроить для себя, применяются и к Вам, это он сам скажет без всякого вызова на то с Вашей стороны, и хотя бы я не стал говорить о Вас.
Таким образом, Вы с нового года будете иметь 3 или 4 тысячи рубл., а если подписка будет хороша, то и больше, сверх того, что получаете за статьи. Эта перемена будет произведена не Вашими, а моими надобностями, и Вам тут не за чем вмешиваться, если не хотите.
А я решился так поступить по своим семейным обстоятельствам.
Прибавлю еще вот что: если Вы вернетесь раньше следующего лета, Вы очень огорчите меня. Скажу даже больше: если Вы вернетесь раньше, чем следует, я буду принужден прекратить всякие сношения с Некрасовым и с «Современником»; вероятно, прекращу и с Вами, потому что видеть Вас изнуренного и слушать Ваш кашель не доставит мне ни малейшего удовольствия. Прежде выздоровьте, а потом уж приезжайте. Без того и не показывайтесь в Петербург.
Сделать издание Ваших статей — это мне кажется недурною мыслью. Я поговорю с книгопродавцами, — если они скажут, что книга разойдется, то напечатаем ее. Будьте здоровы.
Ваш Н. Ч.
398
Когда будете писать мне, пожалуйста, напишите несколько слов моей жене. Она очень искренно расположена к Вам, и записка от Вас доставит ей большое удовольствие.
Адрес Некрасова теперь я не могу определить Вам: он разъезжает между Москвою и Ярославлем. В следующем письме сообщу, узнав от его брата.
336
РОДНЫМ
12 июля 1860 г. Петербург.
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы. Олинька летом очень поправилась. А в прошлую зиму она, бедняжка, часто бывала больна. Наши все живут на даче и в город приезжает почти только одна Олинька, когда случатся дела. Теперь, например, она приезжала сделать кое-какие заказы для сестры, выходящей замуж. Ныне же и возвращается на дачу. Я половину лета, пока были здесь мои сотоварищи по работе, большую часть времени проводил на даче. Теперь, напротив, надобно мне почти все время жить здесь в городе, потому что некому смотреть за типографской работой. Через несколько времени этим займется Сашенька, и мне можно будет опять переселиться на дачу.
В последние дни зной был и у нас очень большой; даже по ночам было душно, так что работать было почти невозможно. Теперь дожди стали освежать воздух. Новостей любопытных нет никаких, о том, что на место Григория назначен здешним митрополитом Исидор Киевский, Вы, конечно, уже знаете.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милый дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы, и тебя, дружок Викторинька.
Еще раз поздравляю Вас, милый папенька, с днем Вашего ангела.
337
РОДНЫМ
18 июля 1860 г.
Милый папенька, почти проспал я время почты, так что должен ограничиться несколькими словами — иначе не успею отправить письмо.
Мы все, слава богу, здоровы. Олинька и сестры на даче, также и оба Александра; мы с Сереженькою в городе. Ныне ждем сестер, которые собрались съездить посмотреть окрестности Петербурга.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милый дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы, я тебя, дружок Викторинька.
399
338
РОДНЫМ
26 июля [1860 г.] Петербург.
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы. Письмо Ваше от 16 июля получили мы своевременно.
Женская половина у нас живет на даче, а мы, мужчины, все трое в городе. Сашенька (старший), впрочем, скоро отправится на дачу на несколько дней.
Сашурка уже изменил образ своих мыслей: он находит, что в Петербурге лучше, чем в Саратове; а если бы очутился [в Саратове], то нашел бы, что там лучше, нежели в Петербурге.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую Вас, милые дяденька и тетенька, и Вас, милая сестрица Варенька, и тебя, дружок Викторинька.
339
РОДНЫМ
2 августа 1860 г.
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы. Олинька с сестрами и детьми попрежнему живут на даче, а я с братьями живем в городе.
Не знаю, скоро ли удастся мне найти для Алексея Осиповича Студенского уроки: быть может, и не скоро, потому что у меня самого этих случаев не бывает, и надобно просить об этом других; но, во всяком случае, терпеть нужды здесь он не будет, в этом я могу Вас успокоить, милый папенька. Так или иначе, я устрою его дела сносным образом. Он, должно быть, еще не приехал сюда, по крайней мере, у меня еще не был. Я несколько смешиваю в памяти старину и не знаю, тот ли наш родственник его отец, которого я помню больным с сохнущею рукою, и у которого был сын, также подвергнувшийся гонению семинарского начальства и умерший от чахотки перед окончанием или скоро по окончании курса, — кажется, я не ошибаюсь, что это именно то самое семейство.
Теперь, вероятно, уже приехал в Саратов и был у Вас Ростислав Сократович, отправляющийся служить, бог знает, куда, на край света, в какой-то городок Кокбеты, который и отыскать можно не на всякой карте; лежит это местечко или укрепление в семипалатинской области, на границах киргизской степи. Я не имел особенного расположения к Ростиславу Сократовичу, который, если не теперь, то прежде, делал много вреда в семействе своем, но все-таки мне стало жаль его, когда он отправился в такую глушь.
Не знаю, будет ли случай приехать в Саратов другому моло-
400
дому доктору, который казался мне здесь хорошим и умным человеком; это Каллистов, успевший получить место на родине, в Николаеве, — село, где его отец священником, лежит верстах в 30 от Николаева. Отец этот человек с состоянием, но оставлял здесь сына почти без всякой помощи. Теперь, вероятно, помирится с ним, хотя и прежде не имел основательных причин смотреть на сына дурно. Я здесь знаком был с Каллистовым потому, что он при мне был в гимназии.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, тебя, милая сестрица Варенька, и всех.
340
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
2/14 августа 1860 г.
Ваша просьба о продолжении отпуска еще не получена здесь; я, между прочим, и ныне справлялся о ней во 2 корпусе и в главном штабе в. у. зав., не зная, куда Вы ее пошлете. Отсрочку Вашего паспорта Вы можете, вероятно, получить в посольстве, так что можете спокойно жить во Франции. Разрешение на продолжение отпуска дается самим великим князем; впрочем, в штабе говорили мне, что эта история не длинная.
Денег Терезе Карловне я послал и просил ее написать, по сколько высылать ей постоянно, — мне помнится, Вы говорили, что она расходовала в Дерпте рублей по 50, или больше? Она убеждает меня, чтобы я советовал Вам провести зиму за границею, и рассуждает о необходимости этого очень хорошо.
В вашей статье о Плещееве Рахманинов с Медемом выпустили одно довольно большое место. Статья о Марке Вовчке, вероятно, пройдет, но в таком ли виде, чтобы можно было ее печатать, я не знаю. Надобно сказать Вам, что о крепостном праве решительно запрещено писать. Как идут цензурные дела, можете судить из одного факта: Рахманинов в четыре дня (около 20 июля) получил пять выговоров за вещи самые невиннейшие и вздорнейшие.
Вы все советуетесь со мною о каких-то книгах — я не читал ни одной из них, и какой совет могу я вообще дать Вам? Полагаю, что Вы сами не хуже меня можете рассуждать о том, что интересно или неинтересно. Совет я дал бы Вам один: думать больше о своем здоровье и писать как можно меньше, чтобы не вредить. Отдохните, пожалуйста, а там пишите, сколько хотите.
Некрасов на-днях приезжал сюда, может быть, и теперь еще здесь, но каждый день собирается уехать. Он отчасти расстроен разными полусемейными делами, и хотя виноват скорее он, нежели кто другой, но все-таки отчасти жаль и его. Впрочем, бывают минуты, когда он производит и не такое впечатление; думаешь:
26 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
401
прилично ли человеку в его лета возбуждать в женщине, которая была ему некогда дорога, чувство ревности шалостями и связишками, приличными какому-нибудь конно-гвардейскому корнету? Если он уедет, то вернется сюда в начале сентября.
Василий Иванович взял денег, сколько ему было нужно, и будет брать. Я говорил ему об этом.
Жена была очень рада письму от Вас; когда она будет в городе (теперь она постоянно живет на даче), мы вместе с нею отправим к Вам еще письмо.
Деньги Завалишину уже высланы или на-днях будут высланы. Статью Грыцко о «Р. правде» я не нашел у Некрасова; зайду на-днях к Василию Ивановичу, чтобы поискать в Ваших бумагах. Будьте здоровы. Когда кончите курс лечения, то поезжайте на время зимних холодов в Англию: это единственная страна, в которой топление комнат порядочное, и люди не мерзнут; а во Франции или в Италии шутя простудитесь.
Ваш Н. Чернышевский.
341
РОДНЫМ
9 августа 1860 г.
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы. Олинька теперь в Петербурге; завтра или послезавтра отправится опять на дачу, чтобы провести там с неделю, и потом все уже переедут в город. Сестры постоянно живут на даче, братья ездят туда каждую неделю, а я вот уже с месяц не был там.
Студенский все еще не был у меня, — неужели он еще не доехал до Петербурга? А я жду его с нетерпением.
Новостей в Петербурге нет. Все сильные мира сего живут еще рассеянно, по дачам; дела, как обыкновенно, отлагаются до осени и зимы.
На-днях будет открыта железная дорога до Коврова, лежащего на половине пути между Владимиром и Нижним; на следующее лето будет готова она до самого Нижнего: через это путь от Петербурга до Саратова очень облегчится и сократится. Как только дорога откроется до Нижнего, мы уже решительно будем просить вас, милый папенька, навестить нас в Петербурге. Очень может быть, что мне самому удастся приехать за Вами.
Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, сестрицы и братцы, и тебя, дружок Викторинька.
342
РОДНЫМ
16 августа 1860 г.
Милый папенька, наши перебрались с дачи в город: погода стала холодна и дождлива, так что гулять стало уже нельзя.
402
Ha-днях я буду ждать молодого родственника, который отправился искать счастья в Петербург; я уже нашел для него занятие, которое не допустит его нуждаться, пока он будет учиться. Теперь, когда Вы написали его имя и отчество, я вижу, что он действительно сын того больного священника, которого фамилию я плохо помнил, но имя знаю хорошо.
Как теперь живет братец Иван Фотиевич? Устроился ли он, наконец, так, что не нуждается? Каково здоровье тетушки Прасковьи Устиновны? Вероятно, летом они приезжали в Саратов.
О саратовских пожарах мы прочли в газетах несколькими днями раньше, чем услышали от Вас; но газеты не сообщали, какие кварталы подверглись этому несчастию. У нас в начале августа также были многочисленные пожары, тем более странные, что погода в это время стояла уже дождливая.
Сашенька по своей новой должности присутствует на приемных экзаменах для проверки действий гимназических учителей, которые экзаменуют поступающих. В прошлом году экзамены были до нелепости строги; за это университетское начальство было всеми строго порицаемо, и в нынешний раз сделалось благоразумнее: экзамены идут, как следует, без слабости, но и без чрезмерной строгости.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы. Целую также тебя, дружок Викторинька.
343
РОДНЫМ
23 августа 1860 г.
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы. Письмо Ваше от 12 августа получено нами.
Через несколько часов по его получении приехал сюда Ал. Ос. Студенский. Он въехал прямо к нам и прожил у нас два дня. Мы нашли ему квартиру неподалеку от нашей, и вчера вечером он переселился на нее. Он, сколько я видел до сих пор, человек, от природы неглупый, он имеет любознательность и трудолюбие. Но он чрезвычайно мало приготовлен к слушанию университетских лекций и в особенности к приемному экзамену. Кроме нескольких (да и то немногих) богословских книг, он ничего не читал; об истории, физике, математике и проч. не имеет никакого понятия; ни по-французски, ни по-немецки читать не умеет. Книги я ему доставлю; найду кого-нибудь, чтобы заняться с ним новыми языками, словом сказать, сделаю все возможное, чтобы он имел средства вознаградить потерянное время. Но как пойдет его приготовление в университет, этого еще нельзя решить теперь. Посмотрим, месяца полтора, чего можно надеяться, и, сообразно
26*
403
тому, устроим его судьбу. Он совершенный дикарь. Семинария, как видно по нем, стала теперь еще хуже, чем была в мое время. Ничему там не учат, ни к чему не приготовляют молодых людей. Какими священниками, какими пастырями душ могут быть люди, в 22 года имеющие о жизни такое понятие, как десятилетние дети? Какие наставления могут они давать своей пастве? Они только и знают (судя по Алексею Осиповичу), что писать ученические задачи и вспоминать, как у них делается в «корпусе» или бурсе, за стенами которой они ничего и не видали.
Я надеюсь, впрочем, что Ал. Осипович успеет поступить в университет через год.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, милые сестрицы и братцы, и тебя, дружок Викторинька.
344
РОДНЫМ
29 августа 1860 г.
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы. Собираемся праздновать именины Сашеньки и Сашурки, — празднование, впрочем, будет, по всей вероятности, мало отличаться от обыкновенного нашего порядка проводить время.
О назначении нового преосвященного в Саратове уже напечатано в газетах; оно состоялось так быстро, что Сереженька едва ли имел время уведомить Вас о нем раньше.
Алексей Осипович устроился на квартире и усердно занимается. Много нужно ему, чтобы приготовиться, но бог даст, он успеет. Трудолюбия и любознательности у него много. Характер у него, сколько я мог познакомиться, хороший, и надобно думать, что из него скоро выйдет дельный человек.
Спешим отправить это письмо на почту, чтобы оно не запоздало, как наши прежние.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы. Целую и тебя, дружок Викторинька.
345
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
29 августа 1860 г.
Добрый друг,
Долго не писал я Вам, так что не знаю теперь, куда писать, в адресую эту записку на имя Ник. Николаевича.
Великий князь отказал Вам в продолжении отпуска, решив, что Вы должны выйти в отставку. Тем лучше, Данилович хотел
404
написать Вам, как устроить эту штуку. По приезде Вы легко найдете себе службу вроде прежней, а может быть, и вовсе не станут заставлять Вас служить. Стало быть, это вздор. На-днях я увижусь с Даниловичем и Василием Ивановичем. Если услышу, что они не сообщили Вам рецепта для получения отставки, то спрошу его у Даниловича и перешлю Вам.
Терезе Карловне я сначала посылал слишком мало денег, — два раза по 60 р.; она по излишней деликатности не требовала больше, а я по глупости воображал, что этого будет довольно ей до Дерпта. Но из письма, полученного от нее около 10 августа, я увидел, что ей нужно побольше денег, и послал тогда же 190 р., — судя по всему, этого будет достаточно ей для переезда. Жду от нее письма из Дерпта. Если с первого раза я оставлял ее с недостаточными средствами, предполагая в ней не больше деликатности, чем бывает в обыкновенных хороших людях, то теперь уже не повторю этой ошибки: я вижу, что ей надобно посылать денег больше, чем она сама станет требовать, потому что она слишком стесняется в этих вещах. Потому, мой друг, не беспокойтесь о ней с денежной стороны. При всей неаккуратности моей в других случаях с нею я не буду неаккуратен и забывчив.
Когда она писала мне в последний раз (от 8/20 авг.), она была здорова и даже начала акушерскую практику во Пскове: ее пригласили принимать у какой-то госпожи.
О деньгах (190 р.), посланных ей, я сказал Василию Ивановичу, что послал их Вам, а не к ней, чтобы он не стал писать ей о бережливости, в напоминаниях о которой она едва ли нуждается.
О Вашей статье, по поводу Вовчка, мы толкуем с Рахманиновым. Если не столкуем, то отложу ее до октябрьской книжки, — в начале сентября воротится Бекетов, уезжавший в деревню, и мы его будем просить читать «Соврем». Рахманинов справедливо доказывает, что гонение на «Совр.» произошло отчасти из личной ненависти к нему (Рахман.) в главном правлении цензуры, и что там нужно сменить его на Бекетова для пользы самого журнала.
Последние книжки «Совр.» из рук вон плохи. Это от цензурной невзгоды, которая, конечно, минуется через несколько времени, и тогда мы поправимся.
Соковнин ничего не сделал для издания и сам пропал — я пишу об этом Обручеву. Он вам сообщит.
Свадьба Анны Сократовны была 17/29 августа. Об этом, вероятно, пишет Вам Ольга Сократовна. Я очень рад, что Вы избежали этой комбинации.
Ваш младший брат, Ваня, молодцеватее Володи.
Некрасов приезжал сюда на несколько дней в начале августа. Он был расстроен неприятностями, в которых сам был виноват. Возвратится около половины сентября.
Корректуры у нас читает Михайлов. Славутинский, вернув-
405
шись из-за границы, опять стал писать внутр. обозрение. Елисеев пробует писать журнальные заметки (с октября) и рецензии (с сентябрьской книжки), посмотрим, что из этого выйдет. Статью его о «Р. правде» я не мог отыскать ни у Вас, ни у Некрасова. Когда приедет Некр., пусть сам найдет.
По временам я бывал у Авдотьи Яковлевны. Она здорова. Очень мила с Вашими братьями.
Жму Вашу руку, мой добрый Николай Александрович.
Ваш Н. Ч.
Мой адрес ныне: на углу 2 линии и Большого проспекта, в доме Громова.
346
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
[Конец августа — начало сентября 1860.]
Вчера был я у Даниловича. Он ездил в штаб толковать о Вашем деле, Николай Александрович. Штабные сами сказали ему, что Вы должны подать в отставку, и что Вам дадут ее, по сношению с мин. нар. просв., с обязанностью снова вступить в службу по миновании болезни. Просьбу подаст Вашим именем Василий Иванович, потому Вы уже не присылайте ее, чтобы не вышла путаница. По мнению штабных, докторское свидетельство о болезни будет достаточно то, которое приложено к прежней Вашей просьбе. Данилович следил за Вашим делом очень любезно и будет следить снова, когда пойдет история по новой просьбе.
Вы, пожалуйста, не беспокойтесь: эта развязка даже лучше и спокойнее, чем простое продление отпуска. В нем отказал великий князь (Михаил) потому, что считает репетиторов вообще званием бесполезным и хочет вытеснять их из службы.
Если бы просрочка прежнего паспорта поставила Вас в неприятности с франц. полициею, то отсрочку даст Вам парижское наше посольство на основании ведущегося здесь дела о продлении отпуска или отставке.
Статья Ваша о Марке Вовчке пропущена, разумеется, с урезками: здесь очень боятся говорить о крепостном праве.
Ваш, преданнейший Н. Ч.
Да, Вы все претендуете, что я не отвечаю на Ваши вопросы о темах, которые Вы думали бы избрать для Ваших статей. Пожалуйста, пишите как можно меньше, пока совсем поправитесь. Это моя серьезная просьба.
Третьего дня получил я Ваше письмо, и в тот же день Иппол. Панаев должен был послать Вам деньги, — 1 000 фр. на Париж, потому что едва ли есть здесь сношения с Женевой или Ниццею.
406
347
РОДНЫМ
5 сентября 1860 г.
Милый папенька, я, кажется, ошибся, написав, что о назначении нового епископа в Саратов уже напечатано, — кажется, что меня ввели в ошибку те, кого я спрашивал об этом. Потому сообщу теперь об этом назначении, которое может быть еще неизвестно Вам.
Преосвященным в Саратов назначен Евфимий, викарный епископ здешней митрополии, управляющий Новгородскою епархиею. Иван Григорьевич ничего не знает о нем. Но, перед отъездом в Саратов, Евфимий, без сомнения, заедет в Петербург проститься с митрополитом, помощником которого был. Иван Григорьевич заедет к нему, чтобы познакомиться с ним и познакомить его с Саратовом.
Алексей Осипович Студенский начинает понемногу осматриваться в Петербурге, привыкать к новому порядку и новому роду занятий. Он подал просьбу о принятии его в число вольнослушающих.
Мы все, слава богу, здоровы. Письмо Ваше получили своевременно, — почта ходит еще исправно.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, тебя, милая сестрица Варенька, и тебя, дружок Сашурка.
348
РОДНЫМ
11 сентября 1860 г.
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы. Олинька не успела написать, спешив отправиться по каким-то хозяйственным надобностям в лавки.
Ha-днях Сашенька начинает свои лекции. Конечно, сестры и Олинька отправятся слушать его и, вероятно, будут посещать довольно часто. Студенты ждут, что он сделается одним из лучших профессоров, и, конечно, не ошибутся в этом.
Алексей Осипович подал просьбу о принятии его в число вольнослушающих. Он занимается усердно. Начал учиться по-французски и довольно успешно разбирает евангелие во французском переводе, — это самый скорый метод научиться читать книги на каком-нибудь языке, чтобы прямо приниматься на этом языке читать книгу, которую почти наизусть знаешь на своем. Вместе с французским языком он занимается и другими предметами, в которых отстал от университетских требований. Теперь я окончательно увидел, что он имеет способности и трудолюбие.
407
так что выйдет из него, по всей вероятности, хороший человек. Характера он очень кроткого и скромного.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, тебя, милая сестрица Варенька, и тебя, дружок Викторинька.
349
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
12/24 сентября [1860 г.]
Порадовали Вы меня последним письмом, добрый друг мой, Николай Александрович: видно, что в самом деле Вы выздоравливаете. Вы веселы, чего с Вами слишком давно не бывало. Ну, смотрите же, становитесь молодцом и не показывайтесь в Петербург, пока не поровняетесь здоровьем с Собакевичем.
Тереза Карловна еще не писала мне из Дерпта. Я все собирался писать ей туда, да не собрался до сих пор. Мне бы не хотелось, чтобы Ваше письмо пропало, потому отправляю его к ней застрахованное или с деньгами, адресуя в акушерскую клинику при университете — тогда не может пропасть оно, а то я еще не знаю ее настоящего адреса. Это я сделаю ныне же.
Отправляю к Николаю Николаевичу в этом же конверте письмо очень странного содержания. Прочтите вместе и подивитесь. С просьбою обращаюсь к нему, а не к Вам, потому что Вы уезжаете в захолустье, а он остается в Париже. Но если бы Вам представилось что-нибудь вроде того, о чем я прошу его, Вы очень обязали бы двух чрезвычайно достойных людей. Я знаю только брата, но по нем сужу и о сестре.
Некрасов еще не возвратился в Петербург.
Авдотья Яковлевна няньчится с Вашими братьями так, как могла бы заботиться разве очень добрая сестра.
Ныне был у меня Василий Иванович, по дороге из штаба. Там сказали ему, что отставку дадут, вероятно, очень скоро и в увольнительном аттестате быть может не упомянут об обязанности дослуживать казенные годы, потому [что] официально не знают они этой обязанности Вашей. Вы знаете, что просьба об отставке давно уже подана за Вас от Василия Ивановича.
Да, об деньгах для Ваших. Василий Иванович говорил мне. Будьте уверены, что все сделается по Вашему желанию. Об «Современнике» Вы заботитесь так, что я проливаю слезы умиления. Я подожду дня три Вашего «Свистка». Сентябрьская книжка совсем готова, но подождать можно.
Кстати, я очень жалею, что «Внутр[еннее] обозрение» уже было обещано Славутинскому, когда мне пришлось узнать, что
408
Елисеев был бы непрочь заняться им. Но теперь пусть уж пишет Славутинский.
Возвратился Анненков с Тургеневским проектом всенародного распространения грамотности, вроде того, что думал сделать Николай Николаевич, а быть может, и не вроде того. На вопрос о проекте Ник. Ник. я сказал, что это дело уснуло; это, кажется, правда; или нет? Сообщите это Ник. Ник-у, которому я забыл написать столь близкую его сердцу новость.
Кавелин возвратился из деревни с рассказами о помещичьих злодействах. Некоторые штуки действительно курьезны, особенно проделки некоего молодого человека Дашкова (сына покойного приятеля Жуковского и К°). Этот юноша, основатель воскресных школ в Петербурге, устроил для своих крестьян эшафот и попал даже под суд за жестокость. Вообще Кав. благодушествует по-прежнему.
Олинька здорова и Вам кланяется.
Пыпин на-днях начинает лекции. Он определен здесь профессором еще, кажется, при Вас.
Ваша статья о М. Вовчке, вероятно, понравится молодежи вроде «Темного царства», хотя и урезана нами с Рахманиновым. Только вот что: не надрывайте себя письмом. Еще успеете просвещать отечество — время терпит, оно и через десять [лет] будет еще таково же, как теперь.
Будьте здоровы и веселы, мой друг.
Ваш Н. Чернышевский.
350
РОДНЫМ
20 сентября 1860 г.
Милый папенька, письмо Ваше от 10 сентября мы получили своевременно.
На этой неделе начинаются лекции Сашеньки. Он много готовился к ним и, по всей вероятности, приобретет к себе уважение как профессор. Студенты ждут от него многого.
Алексей Осипович начал посещать университетские лекции, — он понимает их, и пока довольно этого. Он стал усердно заниматься французским языком и делает в нем порядочные успехи; через полгода в состоянии будет читать французские книги. Тогда примется и за немецкий язык. Читает исторические книги и вообще занимается очень усердно. Мне кажется теперь, что он станет дельным человеком.
Погода у нас теперь стоит довольно ясная, и наши дамы каждый день ходят гулять. Все мы здоровы. Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, вас, милые сестрицы и братцы, и тебя, дружок Викторинька.
409
351
РОДНЫМ
26 сентября 1860 г.
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы и благополучны. Письмо Ваше от 12 сентября мы получили.
Ваш новый преосвященный еще не приезжал сюда, а он, конечно, будет здесь перед отъездом в Саратов.
Сашенька начал свои лекции в университете в прошлый понедельник. Ему не хотелось, чтобы мы были на первой лекции, потому я и не говорил Олиньке и сестрам о назначенном для нее времени, не был и сам.
Теперь отправимся послушать Сашеньку, потому что он уже перестал конфузиться.
Алексей Осипович продолжает посещать лекции и усердно заниматься.
У нас началась осень в полном своем совершенстве: идет дождь пополам со снегом; не хочется выходить из комнаты, несмотря на то, что было бы надобно постранствовать по городу: поневоле отлагаешь до другого дня даже нужные дела.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы. Целую тебя, милый дружок Викторинька.
352
В. И. ЛАМАНСКОМУ
27 сентября 1860.
Вы желали познакомиться. Владимир Иванович, с Егором Дмитриевичем Южаковым. Я просил его побывать у Вас. Вы услышите от него очень много любопытного о Болгарии. Если бы у вас нашлись для него уроки или какие-нибудь другие занятия, это было бы отлично.
Ваш Н. Чернышевский.
338
РОДНЫМ
4 октября 1860 г.
Милый папенька, мы все теперь, слава богу, здоровы и благополучны. Письмо Ваше от 24 сентября мы получили только третьего дня в воскресенье: почта стала опаздывать.
Вашему новому преосвященному Евфимию послан уже указ, и в Синоде полагают, что он едва ли уже не отправился из Старой Руссы прямо в Саратов, не заезжая в Петербург. Каким путем он отправится или отправился, — сухим или по воде, здесь также не
410
знают. Поэтому я и не посылал Вам, милый папенька, телеграфической депеши, которая не сообщила бы Вам ничего точного.
Алексей Осипович приготовил к этой почте письмо Вам, милый папенька. Он занимается очень прилежно и с заметным успехом. Начал он помогать мне в работе, — писать под мою диктовку. Я уже года три или четыре принял эту привычку, при которой дело идет почти вдвое скорее и легче. Года два помогал мне в этом Михаил Алексеевич Воронов (второй сын Алексея Ивановича), теперь пора ему отдохнуть и заняться исключительно своим делом — приготовлением к университетскому экзамену, который он будет держать в этом году в мае. С Алексеем Осиповичем я думаю заниматься диктовкою лишь несколько месяцев, а потом уволить и его. Не стал бы обременять его и теперь, но есть у меня для этого особые причины; из них главная — желание, чтобы он ежедневно бывал в нашем семействе и присмотрелся к здешнему обществу. Когда поприсмотрится, тогда пусть сидит дома и занимается исключительно своим делом. А теперь бывать у нас почаще полезно для него самого.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и тебя, милая сестрица Варенька. Целую тебя, милый дружок Викторинька.
354
РОДНЫМ
10 октября 1860 г.
Милый папенька, мы все, слава богу, здоровы и благополучны. Новостей у нас никаких особенных нет.
Сашенькины лекции, по огзывам, доходящим до меня, становятся все лучше и лучше. Он читает совершенно просто, без всяких фраз и вычурностей, будучи чужд желания блистать, которым страдают многие профессора. Он хочет только быть профессором дельным, что лучше всего. За это все умные люди чувствуют к нему уважение. Я пишу не по своему впечатлению, а по чужим отзывам, оттого что до сих пор не был еще сам на его лекциях, отчасти по недосугу, а еще больше по нежеланию конфузить его своим присутствием, — отправлюсь к нему тогда, когда он вполне попривыкнет к своей аудитории. С первого же раза он приобрел честь считаться одним из лучших профессоров целого университета.
Алексей Осипович сначала посещал очень многих профессоров по разным факультетам, чтобы сообразить, на чем ему лучше будет остановиться. Осмотревшись, он выбрал юридический факультет как самый легкий: ему уже 22 года, стало быть, надобно итти по такой дороге, которая скорее может привести к цели, к получению кандидатского диплома.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
411
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и тебя, милая сестрица Варенька. Целую тебя, дружок Викторинька.
355
РОДНЫМ
17 октября 1860 г.
Милый папенька, письмо Ваше от 7 октября мы получили вчера, 16-го. Теперь, конечно, Ваш новый преосвященный уже приехал. Долго пришлось Вам ждать его в Широком, много переносить от неудобств там.
У нас, повидимому, хочет установиться зима: вот уже несколько дней стоит мороз. Но петербургский климат не имеет обыкновения сдерживать своих обещаний, — не завтра, после завтра он опять начнет угощать нас дождем.
В нашей жизни нет никаких перемен: дни проходят за днями, один, как другой. Когда мы все здоровы, как теперь, то и хорошо, и слава богу.
Алексей Осипович наполовину привык уже к здешним порядкам и, повидимому, не раскаивается в том, что приехал в Петербург. Надобно думать, что из него выйдет дельный человек. Характера он очень кроткого и скромного.
От взноса денег за слушание лекций его освободили. Он выбрал себе административный факультет как самый легкий, потому что, имея уже 22 года, должен скорее держать экзамен на степень, — терять времени ему уже некогда. Я полагаю, что через два года он может стать кандидатом. Кроме лекций по своему факультету, он слушает лекции Костомарова и Сашеньки.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы и братцы. Целую тебя, дружок Викторинька.
356
РОДНЫМ
24 октября 1860 г.
Милый папенька, письмо Ваше от 14 октября мы получили вчера. Как долго пришлось Вам жить в Широком, ожидая приезда нового преосвященного! Почему бы не уведомить ему саратовское епархиальное начальство о том, когда он думает приехать? Это избавило бы Вас от продолжительных неудобств. Я воображаю, как скучно было для Вас столь долго оставаться в Широком. А по приезде нового преосвященного будут, вероятно, утомительные церемонии, потом надобно будет ему свыкаться с новым городом, а Вам свыкаться с новым человеком. Все это должно быть нелегко...
412
Мы все, слава богу, здоровы. Олинька отправилась делать кое-какие закупки по хозяйству, не писав письма. Быть может, еще успеет вернуться к тому времени, когда надобно будет отправлять письмо на почту.
Сашурка понемногу учится читать, но еще очень далек от совершенства в этом искусстве. Зато он ужасно любит делать расспросы о разных вещах из естественной истории, механики и т. п.; по нескольку часов сряду готов он слушать рассказы о зверях, птицах и т. д., о машинах, инструментах, фабриках. К фантастическому, к сказкам он мало расположен, — мне кажется, отчасти потому, что еще слишком мало у него соображения для того, чтобы связать в уме разные происшествия, и сказка остается не совсем понятна для него.
Миша чрезвычайно забавный мальчик, по своей неугомонной вертлявости и бойкости.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы. Целую тебя, дружок Викторинька.
357
РОДНЫМ
31 октября 1860.
Милый папенька, никак не полагал я, чтобы Вам пришлось так долго оставаться в Широком в ожидании Вашего нового преосвященного. Мне кажется большою недогадливостью или небрежностью с его стороны то, что он не прислал в Саратов никакого известия о времени, около которого располагает приехать в свою новую епархию. Я полагаю, можно было бы ему сообразить, что это будет нужно знать епархиальному управлению.
Мы все здесь, слава богу, здоровы и благополучны.
За разными делами, а больше по лени, до сих пор не собрался Я побывать на лекции у Сашеньки, который начинает пользоваться большим уважением и в кругу профессоров, и между студентами. Слушателей у него всегда бывает очень много; в числе их находятся даже дамы, все равно, как и у Костомарова.
Особенных новостей в Петербурге нет. Говорят только, что дело по освобождению крепостных крестьян приближается к концу, — манифеста и указа об этом ждут к новому году.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и тебя, милая сестрица Варенька. Целую тебя, дружок Викторинька.
413
358
РОДНЫМ
7 ноября 1860 г.
Милый папенька! Наконец-то Вы возвратились в Саратов. Как утомительно и тяжело должно было быть трехнедельное житье в Широком! А тут подходит новый год, время составления отчетов, усиленной работы...
Ваш новый преосвященный не заезжал в Петербург, потому и не виделся с Иваном Григорьевичем. Это очень жаль.
У нас теперь осень в полном совершенстве. По улицам грязь, морозов нет, не хочется выглянуть на улицу.
Здесь радуются тому, что удачно для России кончилось варшавское свидание. Австрийский император приезжал за тем, чтобы втянуть нас в войну для своих, а не наших выгод. Но он, по общему отзыву, не умел держать себя и произвел неприятное впечатление в государе, так что результатом свидания была холодность государя к нему и его предложениям. Это очень хорошо, потому что Россия избавилась от больших пожертвований людьми и деньгами, которых стоила бы война.
Мы все здоровы; когда погода хотя несколько улучшается. Олинька и сестры тотчас отправляются гулять.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, тебя, милая сестрица Варенька, и тебя, дружок Викторинька.
359
РОДНЫМ
14 ноября 1860 г.
Милый папенька, мы все здоровы и благополучны. Письмо Ваше от 4 ноября мы получили вчера, в воскресенье.
Железная дорога, ведущая из Москвы к Нижнему, теперь уже готова до Владимира и почти готова до Нижнего; обещают, что к ярмарке будущего лета откроются поезды по всей линии. Если так, сообщение с Саратовом будет очень быстро: около 5 дней будет достаточно, чтобы доехать отсюда в Саратов по железной дороге и потом из Нижнего по Волге. Во всяком случае, я рассчитываю, что летом будет можно мне приехать в Саратов на время, более продолжительное, чем приезжал я в прошлом году. Олинька также думает съездить в Саратов.
Дети растут хорошо. Саша несколько получше прежнего читает, но все еще не очень преуспел в этом искусстве. Зато очень любит он толковать по естественной истории, — по целым часам готов он слушать такие рассказы; жаль, что у меня не всегда бы-
414
вает время болтать с ним. Но через несколько времени я буду иметь больше досуга.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, тебя, милая сестрица Варенька, и вас, Петя, Миша и Катя.
Целую тебя, дружок Викторинька.
360
РОДНЫМ
22 ноября 1860 г.
Милый папенька, это письмо будет состоять лишь из нескольких слов, потому что Ольга Сократовна едет в Саратов, надеясь еще повидаться с Сократом Евгеньичем. О ней я не прошу Вас, потому что это не нужно. Но прошу Вашей ласки для Михаила Алексеевича Воронова, который провожает ее: он уже два года домашний человек у нас; я работал с ним. Характер у него добрейший и очень мягкий, так что мы его все любим.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Милая тетенька, поручаю Вашему доброму вниманию Олиньку, — больше ничего не пишу, потому что и эти слова — лишние. Целую Вас. Прошу и тебя, милая сестрица Варенька, о том же, о чем тетеньку, и целую тебя.
361
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
28 ноября/10 декабря [1860 г.]
Порадуйтесь, видя знакомый почерк. Впрочем, только этому и порадуетесь. Содержание письма — объяснение, что цензура испакостила Вашу статью о Неаполе и не пропустила «Свистка». Хлопотал я, хлопотал Некрасов, — успех оказался незавидный. Думаем переменить цензора. Рахманинов воображает себя порядочным человеком, но он глупая скотина. Напрасно Вы с Некрасовым защищали его прежде. Впрочем, я с ним теперь приятель, но это не помогает. Я выпил у него по крайней мере 25 стаканов кофе и чаю, а пользы все-таки не было никогда. Ну их к чорту всех, от Ковалевского до Рахманинова, проходя через Делянова и уже не говоря о Медеме — все до одного скоты. Толкуют, что Медема хотят сменить, потому что уж сами видят чрезмерность его глупости. Посмотрим, сменят ли, а кем бы ни заменили, хуже не будет.
Из неаполитанской статья пропустили (исказив) только первую половину, до воспитания; об остальной отложили речь до
415
следующего нумера. Вы не претендуйте, что книжки наполняются Пекарским, Утиным и т. д. — поверьте, что не было возможности печатать ничего, более живого. Словом сказать, подлость и мерзость. Ну, и успокойтесь.
Теперь о другом, более интересном. Тереза Карловна теперь здорова. Посылаю Вам ее письмо ко мне. Вы увидите, что она, бедняжка, была больна. Вероятно, причиною был все я же, послав ей денег меньше, чем было бы нужно. Вы увидите, что ей понадобится к рождеству еще 300 р. Для соображения, скажу, что после Вашего отъезда всего переслал я ей 510 р. Пишу на всякий случай, ожидая разумеется, что Вам не жаль будет, когда я пошлю ей еще 300 [р.], которые нужны ей. Едва ли успею получить Ваш ответ к 18/30 декабря, когда нужно будет послать деньги; если не получу, то пошлю, сколько она пишет; если получу, посмотрю, что Вы скажете.
Ваня был сильно нездоров; теперь поправился. Володя ничего себе, хорош.
Да, вот еще новость. Кажется, дело Панаевой и Шаншиева с Сатиным (Огаревым) кончилось примирением. По крайней мере, подписаны мировые условия, оставалось подать мировое прошение в Московский надворный суд. Сатин уже уехал в Москву, Шаншиев и Авдотья Яковлевна собирались ехать, когда я видел их, дня четыре тому назад. Некрасов должен был иметь свирепую сцену с Шаншиевым, чтобы принудить его к возвращению поместья (то есть к возвращению одного поместья вместо другого, — огаревское поместье не хотел брать Сатин, потому что на нем Шаншиев прибавил 25 тысяч нового долгу, сверх прежнего, а Шаншиев не хотел возвращать по своей крайней глупости. Сатин согласился взять взамен казанское, поместье Шаншиева, которое стоит больше огаревского, но, по глупому мнению Шаншиева, скорее могло быть отдано, чем огаревское). Чтобы уломать этого дурака Шаншиева, Некрасов принужден был попросить всех уйти из комнаты, оставив его наедине с Шаншиевым, запер дверь на замок и — что там кричал на Шаншиева, известно богу да им двоим, только между прочим чуть не побил его. Шаншиев струсил, и подписал мировую.
Ольга Сократовна уехала в Саратов в прошлый вторник (22 коября/4 дек.). Ее отец умирает. Она хотела проститься с ним, а главное, взять к себе его побочную дочь, девочку лет 12, которая пропала бы без него. С Ольгою Сократовною отправился Воронов — я очень благодарен ему за такую доброту. Думаю, что они возвратятся к новому году (нашему).
Здоровье жены в нынешнюю зиму довольно хорошо. Поездка еще укрепит его, если она, торопясь доехать до Саратова, не простудится в дороге; но надеюсь, что нет.
Что дальше? Брат Александр читает лекции, сестры его отчасти скучают; по изданию книг для Лаврецова еще ничего не
416
сделано, затем что у меня и Некрасова хлопот было слишком много; на-днях займемся изданием.
Жму Вашу руку, добрый друг. Не писал долго я потому, что все мерзость, о которой тошно писать.
Ваш Н. Ч.
362
РОДНЫМ
6 декабря 1860 г.
Милый папенька, жаль нашего милого Витеньку, так жаль, что я не умею Вам и выразить... Если кого из детей своих особенно я любил, то именно его больше всех. Моим любимейшим сыном был именно он. Но, конечно, было сделано у Вас в Саратове все, что могло сохранить его для нас. Я знаю, как Вы, милый папенька, и тетенька и сестры заботились о нем. Благодарю Вас, милый папенька, за нежную любовь к нему.
Тетенька пишет, что Вы, милый папенька, были очень расстроены этим несчастьем. Нет, умоляю Вас, заботьтесь о Вашем драгоценном для всех нас здоровье. Летом, — вероятно, ранним летом, — я приеду к Вам довольно надолго, и Вы увидите во мне лучшего сына, чем видели до сих пор.
Еще одно тревожит меня: как подействовала на друга моего Олиньку эта неожиданная печаль. Нынешнею зимою здоровье Олиньки было лучше, чем в прошлые две зимы. Но теперь я снова беспокоюсь о нем.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Добрый папенька, берегите себя для Ваших детей, которые оба одинаково любят Вас.
Ваш сын Николай.
Милая тетенька, благодарю Вас за Ваши заботы о бедном моем сыне. Будьте здоровы сами. Целую Вас и милого дяденьку.
Целую тебя и благодарю за все, добрая сестрица Варенька.
363
И. А. ПАНАЕВУ
9 декабря 1860 г.
Милостивейший Государь Ипполит Александрович.
Я получил от Добролюбова письмо, в котором он просит выслать ему теперь же во Флоренцию вексель в 500 р. сер. Я говорил об этом Николаю Алексеевичу. Сделайте одолжение, исполните эту просьбу.
Ваш преданнейший Н. Чернышевский.
Адрес Добролюбова: Флоренция, Poste restante.
27 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
417
364
РОДНЫМ
12 декабря 1860 г.
Милый папенька. Мы все, слава богу, здоровы и благополучны. Письмо Ваше от 3 декабря получили третьего дня.
Простите мою неаккуратность, милый папенька: я запоздал отправить с нынешнею почтою бумагу от ревматизма. Здесь посылки надобно отдавать на почту днем раньше писем. С следующею почтою бумага будет послана в достаточном количестве.
Алексей Осипович занимается с прежним уссрдием. Кроме лекций по избранному им факультету (так называемому административному, заменившему прежний камеральный) он посещает лекции некоторых других профессоров, в том числе Сашеньки. Кстати о Сашеньке. Студенты очень довольны им. Он один из лучших профессоров своего факультета, а через несколько времени, бог даст, будет считаться и самым лучшим. — Возвращаюсь к Алексею Осиповичу. Он приготовляется к экзамену очень успешно. Теперь уже порядочно понимает по-французски, через два-три месяца, управившись с французским языком, примется за немецкий. Он очень хороший человек, очень кроткого и скромного характера и весьма неглупый. У меня нет сомнения в том, что из него выйдет дельный человек.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую Вас, милые дяденька и тетенька, и тебя, милая сестрица Варенька.
365
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
14/26 декабря [1860 г.]
Вчера должны были послать вам деньги. За промедление в несколько дней вините меня: я несколько дней по получении Вашего письма не успевал застать дома Некрасова, чтобы потолковать с ним. Вчера он должен был написать Вам, не знаю, написал ли: быть может, лень помешала. Но если написал и наговорил чего-нибудь не так, как напишу я, то не смущайтесь разноречием, — это значило бы только, что он захотел поторговаться с Вами, не успев со мною. Разговор был такого рода, что я дал ему прочесть некоторые отрывки из Вашего письма и спросил, что он об этом думает. Он отвечал, что напрасно Вы беспокоитесь относительно денег, что деньги для Вас всегда найдутся, и лег спать. Хорошо. Я отправился к нему через день. Он возобновил разговор сам. «Что же написать Д.? Пусть он сам определит условия». — «Это бесполезно, он не такой человек, чтобы опре-
418
делять». — «Хорошо; он может получать 3 000 р. сверх того, что придется ему за работу». — «Не лучше ли было бы делить доход?» — «Я так и сам давно думал, что надобно, что делить на 4 части между нами и Вами с Д » — Хорошо, сказал я. Некрасов, выторговал, что тысяч по 8 из дохода надобно употреблять на уплату долга, я уступил в этом. Из этого я вывожу вот что: при нынешней подписке положим 6 500 экз. по 14 р., это составит 95 тысяч; весь расход, считая все, что получали мы с Вами, составит тысяч 70 (это я считаю с натяжками, собственно меньше). Остается 25 т.; вычтем 8 т.. остается 17; приходится каждому по 4 т. Да за работу получите Вы хотя 2 т. — больше я не желал бы, чтобы Вы писали, пока укрепитесь в здоровье. Но я говорю, что останется по 4 т. дохода, считая расход слишком большим, на самом деле он меньше. Вот приблизительный счет: 400 листов; за печать и бумагу и брошюровку положим по 70 р. (выйдет меньше) — 28 000; за оригинал кругом по 70 р. (это много) — 28 т. Плетневу и конторские расходы 6 т., итого 64. положим 65, остается 30 Т., за уплатою долга 22, каждому 5½. Так следовало бы; может быть, Некрасов учтет несколько, но все же останется 5 т.
Надобно передать Вам две черты этого рассуждения, одну о себе, другую о Некр[асове]. Я говорил только о Вас, себя не упоминая ни одним словом — какое благородство! Между тем, ведь ясно, что я говорил о себе, а не о Вас собственно. Что прикажете делать с подловатостью характера. Все прикрываю благовидными предлогами, да и кончено, и находятся люди, которые так и на самом деле думают, что вот бескорыстный человек. Тем лучше для меня: vulgus vult decipi, ergo decipiatur*.
О Некрасове надобно сказать противное. Он очень умный человек, и главное, видит все насквозь, так что сейчас знает, чем кончится дело, и прямо говорит, что нужно, чтобы не вести напрасного разговора. Вас он действительно любит и вполне ценит. Мы говорили с ним самым ласковым тоном, как будто он очень доволен, — да и в самом деле, он не претендует, потому, что сам понимает вещи отлично.
Кстати, до сих пор, кроме посланного вчера векселя, не считая все взятое для Т. К. и для Василия Ив. после Вашего отъезда, за Вами считается 3 750 руб., с вчерашним векселем 4 250 руб., так что долгу на Вас вовсе не следовало бы считать. Это, впрочем, кроме 1 500 руб., взятых Вами из личных денег Некр.. но в них можно будет сосчитаться, переведя их на «Соврем.» и обратив в счет вознаграждения за прежнюю работу. Я так полагал бы, но, впрочем, едва ли устрою это. Однако посмотрим, когда будем сводить счеты за 1860 год.
Посылку Вашу к Т. К. я еще не получал. Жалею о том, что послал к Вам тогда ее письмо — оно должно было огорчить Вас; но она там хвалит меня, я собственно поэтому и послал.
Жена моя все еще в Саратове. Пока здорова. Здесь мы все живем так себе, хорошо.
Да, из прежнего «Свистка» «Неаполитанские стихотворения» таки пропустили, «Двух графов» тоже, так что при № XII будет «Свисток». Цензор переменяется с нового года — будет читать нас Веселаго, бывший помощником попечителя в Казани. Посмотрим, что выйдет. Хуже, конечно, не будет, потому [что] свинство Рахманинова можно было бы изобразить только пером Державина.
Жму Вашу руку.
Ваш Н. Ч.
P. S. Подписка идет пока не хуже прошлогоднего; когда в прошлом году было 500 подписчиков, ныне было 520. Надобно будет печатать 7 000. Если бы не испакостилась цензура с мая месяца, если бы следующие книжки не были крайне плохи, шутя хватило бы до 8 т. Но что же делать?
Если Некр. писал Вам и если Вы будете отвечать ему, напишите мне о содержании Вашего ответа.
366
РОДНЫМ
20 декабря 1860 г.
Милый папенька, мы все здесь, слава богу, здоровы. Ваше письмо от 10 декабря мы получили своевременно.
Я полагаю, что если Олинька чувствует себя хорошо, то это письмо уже не застанет ее в Саратове. Она писала, что соскучилась о нас и желала бы приехать поскорее. Потому я и пишу ей лишь несколько слов на всякий случай.
У нас нового ничего нет. Сестры очень часто посещают университет; некоторые курсы они слушают постоянно, не пропуская ни одной лекции. Этот обычай посещать университет дамы и девицы приняли в последние два года: до того времени ни одной нельзя было сидеть в аудиториях. Но теперь каждый день бывает на разных лекциях до 30 дам и девушек, из которых многие слушают лучшие курсы правильно, подобно сестрам. Все к этому уже привыкли, так что видеть дам на университетских лекциях теперь стало делом таким же обыкновенным, как видеть их в концертах.
Иван Григорьевич в последнее время занимался правилами о сокращении переписки в Синоде и по синодальному ведомству. Сереженька помогал ему в этой работе.
Алексей Осипович продолжает работать с прежним усердием.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
420
P. S. Бумагу от ревматизма я отправил с прошлою почтою в четверг. Перед тем временем, когда она будет подходить к концу, известите меня, чтобы выслать еще. Она здесь почти ничего не стоит, и беречь ее не нужно — Вы видите, что посланная дюжина свертков куплена за 2 р.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и тебя, милая сестрица Варенька.
367
И. А. ПАНАЕВУ
Милостивейший Государь
Ипполит Александрович,
Прошу Вас заплатить по прилагаемому счету г. Шмицдорфа.
Ваш покорнейший слуга
Н. Чернышевский.
31 декабря 1860.
368
И. А. ПАНАЕВУ
Милостивейший Государь
Ипполит Александрович,
Сделайте одолжение, выдайте М. А. Воронову сорок р. в мой счет; я просил бы Вас ежемесячно выдавать ему такую же пенсию, в уплату за его прежние работы со мною, — разумеется, также на мой счет записывая и будущие выдачи.
С истинным уважением
имею честь быть
Вашим покорнейшим слугою
Н. Чернышевский.
9 января 1861.
369
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
9 января 1861 г.
Милый друг, Николай Александрович,
Я так давно не получаю от Вас писем, что тревожусь за Вас. Получили ль Вы мое письмо, посланное не через Обручева, а прямо во Флоренцию? Я писал там, на чем порешили мы с Некрасовым: Делить доход с «Совр.» на 4 части — Вам, мне, Некр., Пан. Доход составляет (с вычетом по 8 т. на уплату долгов) все-таки тысяч 16, — итак, тысячи 4 Вам придется, хотя бы Вы не написали ни строки. Я предупреждал Вас, что Некр. будет писать Вам не совсем так, чтобы еще поторговаться, и просил Вас уведомить меня, что Вы будете отвечать ему. Вы, пожалуйста, сделайте так.
Цензором у нас с Нового года опять Бекетов. Потому для нас гораздо легче прежнего. Но вообще цензурное положение — прежнее.
421
От Терезы Карловны я получил письмо дня 4 тому назад. Она очень обрадовалась часам, как знаку Вашего расположения.
Ныне у нас выходит книжка. Подписка будет прежняя или немного повыше прошлогодней.
Ваш Н. Ч.
370
И. А. ПАНАЕВУ
[Начало 1861 г.]
За вычетом 8 т. на уплату долга и 2 т. на резерв, из общей прибыли, составляющей около 31 — 35 тысяч,
остается около 21 — 25 т.,
положим 21:
делится на 4 части,
приходится каждому по 5 250 р.
Чернышевскому считается за лист по 50 р. —
2 000 800
1 900 500
2 700 200
——— ———
1 500
371
И. А. ПАНАЕВУ
Милостивейший Государь
Ипполит Александрович,
Я не помню, остановились ли мы на чем [либо] определенном, когда говорили об уступке книгопродавцам при продаже «Историч. библиотеки». Теперь, еще подумав об этом, я решительно убедился, что не надобно жалеть лишних 10% уступки, сверх прежней уступки в 10%. Потому я прошу Вас: делать по «Историч. библиотеке» книгопродавцам уступку в 20%, с тем чтобы за один раз книгопродавец брал не менее 5 экземпляров. Эту уступку в 20% я прошу Вас делать не одному Кожанчикову, а всем книгопродавцам одинаково.
С истинным уважением
имею честь быть
Вашим покорнейшим слугою
Н. Чернышевский.
3 февраля 1861.
372
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
7/19 февраля 1861 г.
Что это как упорно Вы молчите, милейший друг, Николай Александрович? Больны ли Вы, или просто хандрите, или сер-
422
дитесь на нас, или уехали на Капреру какую-нибудь? Да получали ль Вы наши письма? Они были отправляемы во Флоренцию, по Вашему же маршруту, — если Вы забыли, то напишите во Флоренцию, чтобы Вам их прислали.
Ha-днях Авдотья Яковлевна перевела Ваших братьев жить к Павлу Садоковичу, — я тоже находил, что это будет удобнее и для них и для самого Василья Ивановича, который, бедняжка, очень хандрит и по временам бывает нездоров от хандры, происходящей от неудач по всем его проектам и отыскиваньям службы. Он был скучен для детей, дети скучны своей болтовнею для него. Особенного тут, впрочем, ничего не было, и об этом перемещении не стоит Вам думать.
Мы с Бекетовым начали несколько поправляться после гнуснейшего тупоумия, до которого доводил нас Рахманинов. Порадуйтесь: я в закадычной дружбе с Ник. Серно-Соловьевичем, и в нынешнем нумере «Современника» будет (назло Вам) его статья о новых правилах акцизной продажи вина, доказывающая, что правила эти — никуда не годятся. Ах, если бы человек имел волю над своим сердцем, Вы сделали бы мне великую радость — полюбили бы Серно-Соловьевича! Увы, не смею надеяться этого!
Жена моя и все наши здоровы. Да, скажите, что Вы засели так долго в Ницце? Или Вы вообразили [себя] покойною вдовствовавшею императрицею? Ведь я полагаю, в Ницце скука страшная. Лучше бы съездили для меня в Сицилию, в Алжирию — ах, как мне хотелось бы полюбоваться на тропическую природу! Так бы сейчас и отправился в Ост-Индию, в Бразилию посмотреть на эти дивные леса! Стар стал я, батюшка, начинаю любить природу, — оно и лучше, спокойнее, чем привязываться к людям.
Ну, целую Вас, милый друг.
Ваш Н. Ч.
В следующий раз буду писать во Флоренцию, если Вы не укажете другого адреса.
373
И. А. ПАНАЕВУ
Милостивейший Государь
Ипполит Александрович,
Сделайте одолжение, пришлите мне (собственно) 100 р. сер., и тоже через меня, для уплаты авторам, сколько придется по расчету за статьи:
О памятной книжке священника (во 2 книжке) — по 40 р. лист.
О книге Гильдебранда (в 3 кн.) тоже.
423
Об Американских Штатах (в 3 кн.) Обручева по расчету, какой был с ним за статью о Китае (которая была в 1 или 2 кн.).
С истинным уважением
имею честь быть
Вашим покорнейшим слугою
Н. Чернышевский.
10 апреля 1861.
374
И. А. ПАНАЕВУ
[Апрель 1861 г.]
Милостивейший Государь
Ипполит Александрович,
Прошу Вас прислать мне: с запискою на имя Добролюбова 50 р. с. и с запискою на имя г. Пиотровского (за статью, которая уже напечатана в 4-ой книжке «Совр.», теперь выходящей), — не знаю, сколько ему придется, но все-таки, вероятно, р. 60, так из них рублей хотя 50. (Об этом мы говорили с Ник. Алексеевичем; кстати, если Вы увидите его раньше, чем я, Вы потрудитесь передать ему, что этот Пиотровский — не тот, которому он недавно послал 15 р., это для того, чтобы он не послал, по смешению двух лиц, деньги не тому, кому они следуют.)
Ваш покорнейший слуга
Н. Чернышевский.
375
В. Д. КОСТОМАРОВУ
20 апреля 1861 г.
Вчера моя жена видела, Всеволод Дмитриевич, одного юношу, который, отправляясь за границу, нуждается в спутнике-руководителе его неопытного ума. Этот юноша показался жене порядочным человеком, и она выразила ему предположение, что спутником ему быть может согласитесь быть Вы. Он очень обрадовался и дал нам адрес своего брата, живущего в Москве, с которым Вы можете переговорить относительно условий и т. д.
Он напишет к брату, а [меня] просил написать Вам. Вот адрес юношина брата: В Москве, на Моховой, в доме Скворцова, Григорий Григорьевич Устинов. Пожалуйста, повидайтесь с этим Г. Г. Устиновым, — быть может, Вы и сойдетесь. Ваш Н. Черннышевский.
376
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
27 апр./9 мая 1861 г.
То, что Вы слишком редко пишете, добрый друг Николай Александрович, было бы превосходно во всех отношениях без одного обстоятельства: теперь не знаешь, куда адресовать Вам
424
свои письма. Посылаю наудачу во Флоренцию, а бог знает, где Вы на самом деле.
А писать к Вам давно у меня чесалась рука, чтобы изобразить Вам свои подвиги, которые хорошо оцениваются здесь Некрасовым, Антоновичем (с ним мы стали приятелями и постоянно пишем) и другими господами с подобными холодными душами, не знающими благородных увлечений. Но они только на словах выражали свое мнение, а Вы, быть может, увековечили бы мои похождения циклом стихотворений, как прославили пассажный пассаж и геройство Франческо II. Слушайте же.
14 марта, во вторник в 11½ ч. утра, устремляюсь я из своей квартиры в Моховую улицу, в дом Быченской, в квартиру И. В. Вернадского. Его нет дома. Я оставляю свой билетик и устремляюсь обратно домой. В четверг, возвратившись домой из похождения в типографию, я вижу на своем столе билетик Вернадского. Мгновенно пишу к нему записку: «Мил. г., чтобы опять нам не разминуться, будьте дома в субботу, в 11 часов утра». Являюсь к нему в субботу, в 11 часов. Распростертые объятия и пр. О минувших распрях ни слова. Садимся и беседуем, как близкие друзья. Что и как было потом, скромная Клио закрывает своим занавесом. Явный для толпы результат тот, что я уподобляюсь Забою, о котором краледворская песня говорит:
Spechaŝe bystro ot mûža k mûžu
Kratka slova ke vŠem skrytno reče*
и точно так же, minu den pervy, i minu den drugi, i gdy в четверг 23 марта luna v noci beše snecluse muči, только не в les cern, a в ту же Моховую улицу, в дом Быченской; к nim (совершенно, как в песне), zdě Zaboj (т. е. я), otvede ich, — в кабинет Вернадского. После этого, — разница от песни, — не Забой, т. е. не я, a Slavoi, т. е. Вернадский, vzevarytó zvuřno, иначе говоря, ораторствует и рецитирует. Скромная Клио опять опускает на все это завесу. Явный для толпы результат тот, что в воскресенье, 26 марта, я сажусь в вагон 2 класса и несусь в первопрестольный град. 27 марта в 11 часов утра входит в переднюю М. Н. Каткова человек среднего роста и средних лет, — этот человек Я. (NB. На тот случай, если Вы станете писать стихи, Катк[ов] живет уже не в Армянском переулке, воспетом Вами, а у Николы Явленного, что на Арбате, в Кривоникольском переулке, дом Щелиной.) Опять распростертые объятия и т. д. Опять созываются (московские) мужи (в квартиру Каткова, 28 марта). Опять падает занавес скромной Клио. Я по два раза в день бываю у Каткова. 30 марта сажусь опять в вагон 2 класса и возвращаюсь в Петербург.
Вы догадываетесь, дело вдет о цензурных вещах. Пишутся проекты, пишутся записки, дело кипит, — впрочем, на точке замерзания, — потому что записку (которую поручили составить Каткову), я еще не получил. А когда получу, снова обращаюсь в Забоя, буду спешить от мужа к мужу по вшицкей власти, т. е. по всему Петербургу и снова snimutse muži и т. д. Словом сказать, Некрасов и Антонович полагают, что Забой, т. е. я, несколько рехнулся. Само собою, они правы были бы, если б не было тут другого, тайного побуждения, — оно состоит — положим хотя в том, чтобы дать материал для героической поэмы, герой которой — Я.
Вы думаете только? Нет, я совершил еще несколько таких же подвигов. О всех рассказывать было бы длинно; передам на словах, когда возвратитесь, о самых курьезных, а тут упомяну еще только об одном, далеко не самом интересном. Вы понимаете, что лавры Мильтиадовы (т. е. Серно-Соловьевичевы), стяжанные в Пассаже, не дают спать Фемистоклюсу (см. «Мертвые души» Н. В. Гоголя, изд. Кулеша, том... стр…), т. е. мне. Итак, в понедельник, 3 апреля, я устремляюсь на Певческий мост, в квартиру Е. П. Ковалевского, председателя фонда литер., и объявляю желание читать лекции в Пассаже; он согласен. 4 апр. я пишу программу. 5 апр. программа отправляется от Ковал. к Делянову за разрешением, от Делянова к Горлову на рассмотрение. 6-го я устремляюсь к Делянову за справкою и за тем же устремляю Пыпина к Горлову. Дел. говорит, что не будет препятствий; Горлов в восторге от экономической ортодоксальности программы и выражает живейшее сочувствие к ее автору, т. е. Забою-Чернышевскому. Итак, в разрешении нет сомнений и по всем законам вероятности надобно [думать] на фоминой неделе буду занимать я в пассажной зале место, которое с такою славою занимали С. Соловьевич, Пинто и другие. Да, Некрасов и Антонович говорят, что это мало того, что глупо, хуже нежели глупо. О, грубый скептицизм! Я презираю его. Если у Вас есть искра человеческого чувства, Вы снизойдете на мою слезную просьбу — восхвалите мои подвиги стихообразно.
Вы не думаете ли, что я прикрашиваю? Ни на одну йоту.
Но к делу от этого вздора. Тереза Карловна пишет, что ей советуют взять какой-то курс вод где-то близ Дерпта и требуют за этот курс деньги вперед — 725 р. Я не понял бы этого, если бы Вы не писали мне однажды, что ее часто обирают добрые люди под разными предлогами. Я напишу ей, что спросил Вашего мнения об этом. Но если (как я полагаю) Вы найдете это просто уловкою какого-нибудь мошенника, обирающего ее, Вы напишите мне, а ей не пишите, чтобы не огорчать ее, — тогда я напишу ей, что Вам не писал, потому что денег у нас не было в таком количестве, и что хотя бы Вы согласились, мы не могли бы исполнить этого.
Ваш Н. Ч.
426
377
И. А. ПАНАЕВУ
Милостивейший Государь
Ипполит Александрович,
Будьте так добр, отдайте следующие мне деньги моему родственнику Алексею Осиповичу Студенскому.
Кроме того, я просил бы Вас прислать мне для передачи Мею деньги за стихотворение его в № 3 (если деньги еще не отданы ему).
Ваш преданнейший
Н. Чернышевский.
1 мая 1861.
378
И. А. ПАНАЕВУ
2 мая 1861 г.
Милостивый Государь Ипполит Александрович! Я получил от Добролюбова письма, в котором он просит о высылке денег; переговорив с Николаем Алексеевичем, обращаюсь теперь к Вам с покорнейшей просьбой: взять на имя Добролюбова два векселя, каждый по тысяче франков. Если бы можно было сделать это в среду часов до 12 и приказать Звонареву принести векселя ко мне, это было бы очень хорошо, — я буду писать Добролюбову и стану поджидать векселей, чтобы вложить их в письмо.
Ваш истинно преданный Н. Чернышевский.
379
РОДНЫМ
2 мая 1861 г.
Милый папенька, мы теперь все почти что здоровы, — то есть здоровы совершенно мы все, только один Миша все кашляет по ночам (кашель, впрочем, нимало не опасный, так что мы его и не лечим): днем ничего, а ночью раза три принимается, бедняжка, кашлять. Это теперь в моде в Петербурге (в Петербурге почти беспрерывно сменяется одна такая мода другою: то грипп, то простой кашель, то лихорадка, то какая-нибудь боль в глазах, то зубная боль и т. д., словом разнообразие порядочное). Но эти модные любезности нашего климата служат обыкновенно лишь развлечением для жителей, а важности никакой не имеют. Есть, впрочем, люди, которым петербургский климат здоров, к числу их принадлежу я. В Саратове я несколько раз был нездоров, в Петербурге в двенадцать лет ни разу.
Я показывал присланную Вами старинную бумажку солдата-сторожа помощнику управляющего государственным банком, Ламанскому, с которым встречаюсь в обществе: он, разумеется,
427
говорит, что банк ничего не может дать за нее. Но для утешения владельца этой ассигнации можно сказать ему, что за нее успел я получить рублей 5 серебром, а я при случае пришлю 5 р. для передачи ему.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милый дяденька, и поздравляю с днем Вашего ангела, а Вас, милая тетенька, поздравляю с именинником.
Олинька, утомившись хлопотами с Мишей, еще спит.
380
И. А. ПАНАЕВУ
3/15 мая [1861 г.]
Три письма к Вам, Николай Александрович, разорвал я одно за другим, разорвал бы, вероятно, и это, если б не пора было отправлять на почту. Ваше письмо из Рима от 17/29 апреля как будто внушено какою-то досадою, то ли на меня, то ли на кого другого, — не умею разобрать. Вот начнешь отвечать и тоже собьешься на досадный тон и, заметив это, изорвешь. Вы пишете, что возвратитесь в половине июля, — прекрасно, тогда и разъяснятся недоразумения, если они по Вашему мнению существуют между Вами и мною или Некрасовым, или там кем хотите. А по всей вероятности, Вы увидите, что и сердиться не стоило.
Вы спрашиваете, на какую сумму Вы можете рассчитывать в нынешнем году? Когда мы писали о 6 тысячах, я не разумел тут вовсе, что надобно вычесть из них долг, который Вы считаете за собою. Вероятно, этого не думал писать и Некр., а если писал, то это вздор, который Вы не поставите ему в сильную вину, зная беспорядочность его во всех делах.
Вы помните, что я писал Вам о наших условиях: прибыль делить на 4 части; это, вероятно, составит на Вашу долю, как и на мою, и на доли других двух, от 4½ до 5½ т. в нынешнем году. Эта сумма чистой прибыли остается за вычетом 8 т. на погашение долга, след., по 2 т. долгов каждого из нас погашаются ежегодно. Вы говорите, что у Вас до 4 т. долга, — я не считал хорошенько, вероятно, окажется меньше. Но положим, что 4 т. Это погашается само собою в 2 года (1861 и 1862), в течение которых Вы все-таки будете получать из чистой прибыли, остающейся за этим вычетом, от 4½ до 5½ т. в год. Кроме того, Вы и я и Панаев получаем по счету написанных нами листов по 50 р. за лист. Думая, что в нынешнем году Вы не успеете написать много, я и говорил, что всего Вам в нынешнем году будет приходиться тысяч шесть, — больше или меньше, смотря по тому, сколько получения за статьи Ваши прибавится к Вашей доле из прибыли.
Это и остается единственным действительным основанием Ваших расчетов. Если Вы вздумаете видеть в моих прежних словах другой смысл, Вы ошиблись; если Некрасов писал что-нибудь
428
иначе, он писал вздор, на котором Вы не должны были останавливаться, зная странную смесь вздорных и серьезных сторон в его отношениях к людям. Да я и предупреждал Вас, чтобы Вы не придавали важности его словам, если они будут различны от моих.
Я не сводил счетов, сколько здесь употреблено Ваших денег в нынешнем году на Ваших братьев и проч. Если хотите, сведу. Но ведь это не стоит хлопот, — разница будет небольшая от приблизительного моего предположения об этом, — вероятно, всего около 1 000 р. (500 р. посланы в Нижний). Вы взяли, как Вы пишете, 1 000 р. Следовательно, со включением денег, посылаемых теперь, остается во всяком случае у Вас на расходы в нынешнем году более 3 000 р. Но ведь это опять, если не понадобится Вам больше, — если же понадобится, то лишняя 1 000 р. не бог знает как испортит Ваши счеты.
Но Вы пишете, что не хотите жить в России, не хотите ни заниматься редакци...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...смеешься, бранишься, а втягиваешься в него. И знаете ли что? — Иной раз, чувствуешь себе как будто похожим на человека, а не на чорт знает что, чем был до сих пор.
Посылаю два векселя по 1 000 фр. вместо одного, которым Вы ограничивались, вероятно, из досады. Если нужны еще деньги за границею, пишите пожалуйста.
P. S. Надобно Вам знать для расчета времени, что письмо Ваше из Рима сюда шло две недели.
Во Флоренции еще лежат письма к Вам, между прочим от меня с одним отчасти нужным вопросом.
P. S. Если Вы возвратитесь в июле, это даст мне возможность съездить на полтора месяца в Саратов, повидаться с отцом. Некрасов на-днях уезжает в деревню до ноября, как говорит.
381
И. А. ПАНАЕВУ
22 мая 1861.
Милостивейший Государь Ипполит Александрович.
Я по обыкновению все прошу у Вас денег, — но сам я уже насытился ими, а теперь надобно мне их для пересылки Марку Вовчку, т. е. г-же Маркович, за повесть, которую отправляет она в «Совр[еменник]». Разумеется, я говорил с Ник[олаем] Алекс[еевичем] [Некрасовым] о том, полезно ли это; он просит Вас послать нужную ей сумму, — 1 500 ф., — это должно составить несколько больше 400 и несколько меньше 425 р. Прикажите, сделайте одолжение, Вашему Звонареву взять вексель на 1 500 фр. на имя Madame Marie Marcovitch. Вексель должен отправиться к ней во Флоренцию.
Ваш преданнейший Н. Чернышевский.
429
335
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
25 мая [1861 г.]
Наконец-то Вы написали цидулку точным образом (т. е. из Неаполя, о Маркович) без чрезмерной хандры. Вам 1 000 фр. я не посылаю теперь, потому что в прошлом письме уже отправлено 1 000 фр. больше, чем Вы писали, и я не знаю, нужны ли Вам еще деньги. Если нужны, то скажите, и пришлем, сколько надобно.
Г-же Маркович посылаются ныне же (через два дня по получении Вашего письма) деньги — Вы писали «тотчас», «тотчас же послать» — за просрочку двух дней я посылаю все 1 500 фр., без вычета курса, — а Вы говорили, чтобы его вычесть: тогда вышло бы всего 1 375 фр., вместо 1 500. Об ее издании говорил я Кожанчикову — он с удовольствием берется издавать, очень рад этому. Теперь я соберу повести ее, которые напечатаны после прошлого издания, и, сообразив величину книжки, поговорим с Кож. о цене. Если не сойдется она с ним, можно напечатать нам самим; но ведь тут она получит деньги, вероятно, не разом, хотя и больше, чем от Кож. А ей, конечно, главное — получить скорее. Напишите ей, чтобы она прислала мне список своих повестей, чтобы не пропустить чего-нибудь при расчете величины книжки.
Ей я об этом не пишу — лучше напишите Вы, потому что Вы сами так хотели, чтобы шло через Вас.
По обыкновению, Вы не сообщили мне главного — имени и отчества (т. е. отчества, имя-то я вижу из Вашей формы для векселя) — вот и надобно зайти к Кож. справиться — в прошлый раз забыл я спросить.
Некрасов прилагает свою записочку. В ней, как вижу, отказывается он от издания Волчка, — но это можно сделать и нам с Вами без него, если с Кож. Маркович не сойдется. Но, вероятно, сойдется. Я сказал Кож., чтобы он тут не впутывал хохлов и до времени не рассказывал о намерении г-жи Маркович сделать новое издание. О том, сколько разошлось прежнего издания, и можно ли теперь же перепечатать прежние повести с новыми, мы наводим справки. Ha-днях я напишу Вам об этом, когда Кож. сообразит величину книжки и расход прежнего издания.
Если для Вас все равно, Николай Александрович, то я просил бы Вас написать, когда Вы думаете вернуться — в половине ли июля, как писали прежде, или теперь уже думаете остаться за границею дольше. Это нужно мне для соображений о том, как расположить мне свое время.
Будьте здоровы.
Ваш Н. Чернышевский.
Цензура теперь по обыкновению плоховата; но особенных неприятностей в последние три месяца не было. Статья Ваша о Туринском парламенте напечатана.
430
Да, мы переменяем квартиру. Адресуйте?
у Владимирской, в Кабинетской улице, в дом Есауловой (если помните, там жили Пыпины).
311
И. А. ПАНАЕВУ
27 мая 1861 г.
Милостивый государь Ипполит Александрович, я просил бы вас выдать еще 100 р. г. Пиотровскому, который прежде взял ,100 р.
Статьи были:
в № IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 л. 9 стр.
в № V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 „ 13 „
3 л. 6 стр.
и остался от № V к № VI конец статьи, отправившийся на цензуру к принцу Ольденбургскому, составляющий 1 л. ¼ или 1½, так что, считая по 40 р., выйдет уже заработанных им денег 4 л. 10 стр. 160 + 20 р. Несколько побольше 180 р., следовательно, вперед пойдут всего 10 — 15.
Ваш преданнейший Н. Чернышевский.
384
И. А. ПАНАЕВУ
[Май — июнь 1861 г.]
Милостивейший Государь
Ипполит Александрович,
Я уже взял у Вас в этом месяце 100 р. лишних; теперь прошу еще 100 р., и, кроме того, будьте так добр, дайте мне теперь деньги за следующий месяц — 500 р. да лишних 100, всего 600 р. — мы сведем счет на настоящую норму в июле и августе. А теперь надобно платить за дачу и за квартиру вперед — впрочем, это все объяснит Вам жена моя.
С истинным уважением
имею честь быть
Вашим покорнейшим слугою Н. Чернышевский.
P. S. Николай Алексеевич уже вернулся, как я слышу. Надолго ли, не знаю.
385
В. А. ОБРУЧЕВУ
2 июня 1861.
Добрый друг, Владимир Александрович. Очень может быть, что недели через две Серно-Соловьевич будет иметь в руках большие деньги. В этом он положительно уверен. Но, разумеется,
431
лучше всего отложить полную уверенность до времени, когда это исполнится. А когда он будет иметь деньги, он с удовольствием отдаст Вам сумму, нужную для Зарембы.
Вы сам, пожалуйста, не хандрите, а лучше присылайте нам (хоть через Петра Ивановича или прямо адресуя в редакцию «Современника») перевод Шлоссера, по мере изготовления; об этом усердно прошу Вас.
Поцелуйте за меня ручку Марии Александровны и передайте глубокое мое уважение Вашей матушке.
Ваш Н. Чернышевский.
386
И. А. ПАНАЕВУ
[Первая половина июня 1861 г.]
Молодому юристу Репинскому числа около 15 июня 300 р. для пересылки Юрию Галактионовичу Жуковскому.
Пятьдесят рублей прошу для передачи Самоцветову. (Если можно во вторник.)
387
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
15/27 июня 1861 г.
В прошедшем письме, извещая Вас о посылке денег m-me Маркович, я говорил Вам, Николай Александрович, что переписку об издании ее повестей буду вести только с Вами. Но бог знает, где Вы теперь и скоро ли получите это письмо. Потому я посылаю также и прямо на имя m-me М — ч (во Флоренцию poste restante) те сведения, которые сообщаю Вам.
Кожанчиков берется за издание с удовольствием. Расчет его о количестве экземпляров, в каком напечатать новые повести, мне кажется правилен. Он говорит, что у него осталось прежней книжки около 1 000 экз., у Щепкина другой книжки, вероятно, около того же. Он полагает, что обе эти книжки разойдутся совсем в течение года, и новую надобно только в таком количестве, чтобы она разошлась тоже в год. По его мнению, для этого надобно печатать ее не более, как в 2 т. экз. Если напечатать больше, она большим количеством экземпляров задержит время, в какое можно было бы сделать полное издание ее сочинений по расходу первых двух книжек. Это мне кажется справедливо.
Теперь, его расчет о том, что он может дать за издание в 2 000 экз. (одних новых повестей).
Повестей этих мы с ним набрали 5: «Червонный король», «Ледащица», «Институтка», «Лихой человек» и, наконец, повесть, которая будет помещена в нынешней (июньской) книжке «Русского слова». Считая эту последнюю повесть около 2½ журнальных листов, Кожанчиков сосчитал, что всего выйдет около 13 печ. листов
432
в 12 долю. При такой величине книжки он полагает, что 1 р. 50 было бы дорого, надобно назначить не дороже 1 р. (прежняя книжка была 50 к.). Это также мне кажется верно.
Дальше считайте, как хотите, а вот его (Кожанч.) расчет:
Набор 13 л. по 17 р. 70 к. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 р. 10 к.
Глассирование бумаги по 2 р. 50 к. за стопу и сама бумага по 5 р. 50 к..
много по 6 р., около 54 стоп. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 р. 50 к.
Корректура, брошюровка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 р.
Обертка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 р.
—————————————————
Итого . . . . . . . 643 р. 60 к.
Вы видите, что цена за печатание несколько вздута, бумагу тоже едва ли купит он по 5 р. 50 к., словом сказать, я полагаю, что рублей 150 он тут присчитал.
Теперь выручка. По 20% скидки книгопродавцам, а по проданным в его магазине экз. приблизительно такой же вычет на расход по объявлениям, итого по 80 к. за экз., всего 1 600 р. Тут опять, как Вы видите, может 100 или 150 набежать лишнего вычета:
1 600 р. за вычетом
расхода на изд. 643 р. 60 к.
—————————————
Остается прибыли 956 р. 40 к.
То есть по его счету; а вероятнее — 1 100 или 1 200 р.
Он дает наличными деньгами тотчас же по получении письменного согласия г-жи Маркович 500 р. Вы знаете, что в платеже у него аккуратность данному слову.
Я думаю вот что: пусть г-жа Маркович уполномочит меня ли, другого ли кого, поторговавшись, не даст ли он больше, согласиться и на 500 р., если больше не даст он. У него по крайней мере не будет плутовства в числе экземпляров, да и сбыт пойдет быстрее, чем у Щепкина (который вовсе плох), или у Давыдова, или, тем больше, у нас. Да и деньги она может получить тотчас же. Разумеется, если цену книги поставить выше, другой будет расчет. Но едва ли удобно из-за лишних 200 р. замедлять высотою цены расход этой книги и время, когда можно будет сделать новое издание этой книжки вместе с двумя прежними.
Расчет, писанный рукою Кожанч., я посылаю г-же Маркович и не прибавляю ей никаких замечаний от себя, кроме тех самых, какие Вы находите здесь, так что мое письмо к ней дубликат письма к Вам*.
Мы здесь все здоровы и благополучны. Некрасов уехал в деревню, говорит, до ноября. Вероятно, вернется скорее, соскучится.
От Вас мы получили начало статьи о Гавацци, конца не получали. Ответов на свои письма я тоже еще не получал от Вас. Будьте здоровы и благополучны.
Куда и сколько денег Вам выслать?
Когда думаете вернуться?
Ваш Н. Чернышевский.
■ 388
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
28 июня 1861 г.
Николай Александрович,
Ваше письмо из Мессины от 12 июня получил я только вчера. Почта в Одессу идет дней 9. Денежное письмо берет еще дня два лишних. Потому это письмо придет в Одессу неделею позже, чем Вы рассчитывали; денежное письмо запоздало бы еще больше. Потому не знаю, застанет ли мой ответ Вас в Одессе, — ведь Вы ждете его около 1 июля и, не получив к сроку, можете уехать. Судя по всему этому, подумал я, что вернее будет послать деньги в Нижний, а в Москву послать в контору Базунова записку от конторы здешней, о выдаче Вам денег, на всякий случай, — таким образом, чтобы Вы могли получить деньги, где Вам будет удобнее, в Москве ли, в Нижнем ли.
Теперь о времени Вашего приезда. В половине ли июля, в начале ли августа мне ехать в Саратов это для меня все равно. Потому меня вовсе не стеснит, если Вы заедете в Нижний теперь, а для Вас это, вероятно, удобнее. Если Вы будете здесь около конца июля или хотя в первых числах августа, я все еще успею съездить в Саратов. Но поеду я, только дождавшись Вас здесь, потому что некому было бы иначе остаться при «Соврем.». Некрасов в деревне, где думает прожить долго. Антонович, быть может, еще не довольно ознакомился с типографскою и т. д. процедурою.
Итак, до свиданья здесь. Жму Вашу руку.
Пишу мало, потому что тороплюсь успеть на почту.
Ваш Н. Чернышевский.
P. S. Василий Иванович остается на прежней квартире (дом Юргенса, на Литейной). Я живу у Владимирской в доме Есауло[во]й, где жили Пыпины, если помните.
389
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
[29 июня 1861 г.]
Вчера написал я Вам, Николай Александрович, что, получив письмо Ваше слишком поздно (27 июня вечером), боюсь, что Вы не дождетесь ответа в Одессе и потому посылаю деньги уже в
434
Нижний. Теперь увидел, что это глупо — можно ведь уведомить Вас по телеграфу, чтобы ждали их в Одессе. Так и сделал.
Спешу на почту.
Будьте здоровы.
Ваш Н. Чернышевский.
390
И. А. ПАНАЕВУ
[Июнь 1861 г.]
Милостивейший Государь
Ипполит Александрович,
Вот для Вашего удостоверения пропущенная уже цензурою статья Жуковского, за которую приходится ему получить около 300 р. и которая будет напечатана в № VII (она была набрана для № V, но тогда задержала ее цензура). Расчет по 75 р. (так Жуковский условился с Ник. Алексеевич.). Недели через полторы он уезжает за границу, ему хотелось бы получить 300 р. эти теперь, потому что он имеет возможность разменять их на золото по нарицательной цене. Будьте так добр, уведомьте меня, можно ли будет ему получить деньги хотя около 25 числа?
Ваш преданнейший
Н. Чернышевский.
391
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
1 июля 1861 г.
В записочке, которую прислали Вы из Одессы, Николай Александрович, о деньгах Вы ничего не упоминали; потому я и не сделал распоряжения о высылке их в Москву, не взял и из здешней конторы тогда записки о выдаче из магазина Базунова.
Ваше письмо из Харькова получил я только вчера, уже по отходе московской почты. На обороте этой моей записки — письмо от Панаева в магазин Базунова. Другое, такого же содержания, посылает Панаев прямо в магазин. Но должно Вам сказать, что у Базунова наших денег уже не остается. Чорт знает этого скотину — быть может, он затруднится дать в кредит «Современнику» много (если Вам понадобится много) — я его тоже не знаю, кроме того, что он скотина. Если понадобится Вам больше, чем даст Базунов, я могу выслать. Только мы с Вами все ошибаемся насчет прихода почты — она вечно запаздывает против наших расчетов. Напр., я думал, что в Одессе Вы получите деньги 8 или много 9, а Вы получили только 13. — Вы, вероятно, думали, что Ваше письмо из Харькова я получу 25-го, а получил его только 27-го вечером. Имейте это в виду. Вот и сейчас — в 11 часов 28 числа принесли письмо Плещеева с московским штемпелем 26-го числа, — его следовало бы получить вчера.
Если получите от Базунова или захотите ждать от меня (с вероятностью ждать несколькими днями позже, чем рассчитываете)
28*
435
столько денег, сколько нужно на нижегородские расходы, то поезжайте туда, — подождать несколько дней для меня не важность. Пожалуйста, не стесняйтесь церемониями, — Вы как будто не хотите знать, что это совершенно лишнее.
Только напишите, что Вы решите.
Статью о Кавуре Вы, вероятно, уже можете увидеть в Москве. Прошла она (по-моему) сносно, — лишь выбросили строки петита в выносках с нумерами и названиями газет, сохранив самые выписки, да вместо «маццинисты» везде поставили «радикалы», да выбросили отрывок из оперы (совершенно безвинно), да еще, да еще кое-что повыбросили, всего страницы две. Но смысл сохранился порядочно. Ярость на нас за Кавура повсюду неописанная.
Будьте здоровы.
Ваш Н. Ч.
392
В. Д. КОСТОМАРОВУ
2 июля 1861 г.
Добрый друг, Всеволод Дмитриевич. Ваша пьеса «Мост вздохов» (или как это иначе называется? об утопленнице-то) печатается в VII книжке «Совр.» (за июль). О Вашей благотворительности в пользу дворовых пишу к Алексею Николаевичу. — Но что-то поделываете Вы в свою пользу? Я все возвращаюсь к мысли об уроках в одном из корпусов. У меня теперь там, кроме Котляревского, есть еще добрый знакомый Свириденко, человек вполне порядочный, подобно Котляревскому (хоть Алексей Николаевич их и недолюбливает, говоря по секрету, но ведь это только несходство темпераментов и приемов, а люди они очень хорошие). Мне хотелось бы познакомить Вас с ними, — конечно, в том случае, если Вы думали бы похлопотать при их содействии об уроках в одном из корпусов. Спешу, по обыкновению, и опять выходит от этого лапидарный слог.
Жму Вашу руку. Ваш, преданнейший Н. Чернышевский.
393
И. А. ПАНАЕВУ
Милостивый Государь
Ипполит Александрович,
Г. Елисеев, который, кажется не брал еще денег за свои статьи в прежних книжках, говорил мне, что ему теперь деньги нужны. Я просил бы Вас прислать мне, если можно, то в субботу, сколько ему следует.
Ваш преданнейший
Н. Чернышевский.
7 июля. Пятница [1861.]
436
394
И. А. ПАНАЕВУ
27 июля 1861.
Милостивейший Государь
Ипполит Александрович,
Я получил из Харькова от Добролюбова письмо, в котором он говорит, что завтра будет в Москве, и просит прислать записку о выдаче ему денег из конторы Базунова. Сколько ему понадобится денег, он не пишет. Потому я просил бы Вас написать к Базунову записку такого содержания:
Контора «Совр.» просит Базунова выдавать Добролюбову, сколько он почтет нужным взять.
Другую записочку подобного содержания просил бы я Вас написать для вложения в мое письмо к Добролюбову, которого Базунов не знает.
Ваш покорнейший слуга Н. Чернышевский.
P. S. Обе записки я отправлю завтра сам, чтобы не затруднять Вас без нужды.
395
РОДНЫМ
15 августа 1861 г.
Милый папенька, мы, слава богу, все здоровы. Письмо Ваше от 4 августа мы получили своевременно. Рецепты и советы для Вас от нашего доктора привезу я сам.
Теперь я почти покончил свои сборы к отъезду и надеюсь отправиться послезавтра, в четверг. По дороге мне надобно остановиться в Твери, в Москве, в Нижнем; не знаю, теперь ли я сделаю эти остановки или на возвратном пути. Лучше было бы останавливаться, когда поеду назад. Но ведь, вероятно, я возьму с собою сестру Олиньки, и она свяжет меня. Словом сказать, очень вероятно, что я пробуду в дороге дней 9 или 10. Теперь я отправляюсь один. На следующую весну думает ехать в Саратов и провести там лето Олинька с детьми, и я тоже приеду. Теперь я должен буду возвратиться числу к 28 сентября, то есть жить у Вас, милый папенька, могу я около четырех недель. На лето мы погостим подольше.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и вас, милые сестрицы.
396
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
[Конец августа — начало сентября 1861 г.]
Добрый друг Николай Александрович,
Посылаю Вам начало статьи (очерки полит. экон.) для сентябрьской книжки. Конец будете иметь дня через три. Не знаю,
437
успею ли написать для этой книжки еще какую-нибудь статью, — это скажу Вам, когда буду посылать конец очерков.
Когда будете читать эту статью, пожалуйста, вычеркивайте слишком резкие бессмыслицы. В выписках из Милля (в боргесе) вычеркивайте цитаты и выражения «как мы видим в следующем месте». — В абзаце, который говорит (у Милля) о переплавке звонкой монеты при выпусках бумажных денег, последние слова, вроде следующих: «а при заграничной торговле, зв. монета исчезает другим путем, еще быстрейшим» тут надобно сделать выноску в двух словах, — «то есть уходит за границу» или что-нибудь в этом роде.
Я поеду назад, как только получу деньги. Полагаю, что Вы горите желанием поскорее возобновить наслаждение сжимать меня в своих объятиях. Если так, поскорее высылайте деньги, — вижу, что письмо имеет характер известной цидулы: «душа моя, очень люблю тебя. Дай три целковых, а то не приду к тебе ночевать. Любящая тебя Матреха».
Так и закончу, что очень люблю Вас, только присылайте деньги.
Ваш Н. Ч.
Кланяйтесь Антоновичу.
Навещайте жену, которая действительно любит Вас, — об этом я Вас прошу.
А. Н. ПЫПИНУ
[Конец августа 1861 г.]
Малмыжский список Густинской летописи.
Спешу сообщить тебе хотя краткое сведение о находке, которая мне представляется довольно важной. Но я давно отстал от занятий нашей палеографией и древней письменностью; потому на свое мнение не слишком полагаюсь. Предоставляю окончательный суд тебе и другим специалистам. Прочти это письмо в Археографической комиссии, если она возобновила после летнего рассеяния свои заседания. Если же нет, отдай Н. А. Добролюбову, чтобы он напечатал его, где найдет удобным, — в «Известиях» II отделения Академии наук, если оно покажется ему слишком сухо для «Современника», или в «Записках» Археологического общества. А по-моему, можно бы напечатать и в «Современнике», — ведь была же помещена в нем твоя находка, «Слово о Горе-Злосчастии»; моя имеет не меньше важности, если не ошибаюсь.
Из Владимира до Нижнего ехал я, как ты знаешь, в ямщицком тарантасе; перепрягать лошадей мы останавливались на постоялых дворах, и процедура эта занимала довольно много времени, — часа по два, даже по три (и все таки мы опередили маль-
438
посты, выехавшие полутора часами раньше нас из Владимира). На постоялом дворе в Вязниках случилось мне встретить пожилого мещанина, занимающегося торговлей старопечатными книгами и рукописями. Разговорившись с ним, я узнал, что есть у него харатейная рукопись XIII века (по его словам), заключающая в себе «Минию цветную». Любопытного тут мало, но от нечего делать я полюбопытствовал взглянуть. Мещанин притащил из своего тарантаса толстейший пергаменный фолиант. Я стал пересматривать. На первых 56 листах было действительно начало цветной Минии, и на последних 120 листах конец ее. Но средняя часть рукописи оказалась — вообрази мой восторг! — какою-то летописью, без начала и без конца. — «Так это Миния цветная?» — спросил я торговца. — «Да». — «Давно она у Вас в руках?» — «Всего третьи сутки». — Этим объяснилось мне, что он еще не успел познакомиться с содержанием средины фолианта. — «Где вы достали ее?» — «Купил в Москве у государственного крестьянина Малмыжского уезда Офросимова, торгующего старыми книгами». — «Дорого вы надеетесь взять за нее в Нижнем?» — «Да по крайней мере рублей 100». Старик сказал такую цену только для эффекта, это было по глазам видно. — «100 рублей берите, если хотите, в Нижнем: там деньги бешеные, а я вам, пожалуй, дам 25 рублей». Мы начали торговаться и сошлись на 45 рублях. Да и того было бы много за Минию цветную, хотя бы XII, не только XIII века. За список летописи ХIII века — другое дело. Ведь это древнейший список, целым столетием древнее Лаврентьевского.
Ты упрекнешь меня в недобросовестности; как же я не сказал незнающему владельцу рукописи, какое сокровище продает он мне? Не торопись винить, я не обманул его, как увидишь. Но денег со мною было мало, а выпустить из рук находку мне не хотелось. Бог знает, кому во владение попалась бы она в Нижнем, — быть может, раскольникам, у которых пролежала бы в неизвестности еще несколько десятков лет. Но когда мне сказал ямщик, что тарантас мой готов, я, засмеявшись, обратился к торговцу: «Рукопись, которую вы мне продали, стоит не 45, а я не знаю сколько рублей: быть может, 500 и, быть может, 1 000, а шутя и больше. Но я устрою так, что вы не останетесь в накладе. За сколько я продам ее по возвращении своем в Петербург, все передам вам, только вычту свои 45 рублей». Я спросил имя продавца и дал ему свой петербургский адрес. Находку свою я передам Императорской Публичной библиотеке, — надеюсь, что просвещенный директор не обидит ковровского мещанина Ивана Антиповича Кувшинникоза (так зовут мещанина, продавшего мне рукопись).
Теперь опишу рукопись. Она, как я сказал, в лист. Переплет кожаный черный, с медными посеребренными застежками, одна из которых оторвана. Нижняя доска переплета исцарапана но-
439
жом. Переплет не очень давний: средины прошлого века, как мне кажется. Листы связаны тетрадями по 8 листов. Всех листов в книге 384 (т. е. 48 тетрадей). Тетради перенумерованы по нижнему полю арабскими цифрами, почерком начала XVIII века. Листы перенумерованы тем же почерком, каким писана сама рукопись. Почерк обеих составных частей рукописи совершенно одинаков, и по нумерации они сходятся, — вот и объяснение возможности ошибкою связать их в одну книгу: переплетчик просто перемешал тетради двух одинаковых по виду рукописей, над которыми работал одновременно. Первые 7 тетрадей (56 листов) и последние 15 тетрадей (120 листов) — начало и конец Минии цветной, как я уже говорил, а средние 21 тетрадь (208 листов) — средина летописи. Почерк — XIII века, очень хороший, имеющий большое сходство с почерком одного из апракосных евангелий этого века, в Румянцевском музее (того самого евангелия, из которого напечатана И. И. Срезневским притча о сеятеле. Нумер не припомню, а описания рукописей Румянц[евского] музея нет у меня здесь под рукой). Киноварных букв очень мало в тетрадях Минии, в тетрадях летописи вовсе нет. Правописание и в Минии и в летописи — то, которое называется русским, йотированное, без юсов и без сербского смешения буквы ҍ с малым юсом или заменяющей его буквою я (йотированным а). Вот пока и все, что могу сказать вам о внешности рукописи. Порядочного fac-similе сделать с них не мог я: отучилась от этого дела рука, не слушается, да и восковой бумаги нет у меня. Посылаю, за неимением лучшего, тот снимок, какой нацарапал на обыкновенной почтовой бумаге. Он все-таки недурен и очень точен, насколько может быть точность при такой неудобной бумаге. Покажи его в особенности г. Бычкову, — он знаток. Сколько я могу судить, принадлежность этого почерка XIII веку (и именно первой трети его) очевидна. Любопытно знать, подтвердит ли это г. Бычков.
Перехожу к содержанию рукописи. Тетради цветной Минии оставляю без внимания и занимаюсь только летописью. Вот начало 57 листа (первого листа 8 тетради), с которого начинается уцелевший текст летописи:
Хотя миритися. Симеон же повеле патриархоу изити, да с ним ся мирить. Патриарх же изиде к немоу с вельможи. Симеон же рече: с самим царем хочю глаголати. Царь же рад бысть и согласивъшеся сънидошяся к собе корабли на мори. И рече Роман, царь гречьскый, Симеону: Крестьянин ли еси, или ни? — Симеон же рече: крестьянин есмь. Роман же рече: аще еси крестьянин, почьто кръвь крестьянскую нещадьно пролеваеши? Не веси ли яко умрьти имаши и соуд прияти по делом твоим? Аче богатьства хочеши, наплъню тя нимь и оутолю жажю твою, тъкмо крестьян не гоуби и мир изъволи и живи прочее в мире. Оустиде же ся сих словес Симеон, ничьто же не могый отвечяти, но въсе еже о мире обечя сҍтворити. Роман же, царь гречьескый, посъла емоу
440
дары великыя. Симеон же, прием дары, помирися и възвратися в свояси.
В лето 6442. Придоша Оугри прьвое на Царьград и пляняхоу Тракыю. Роман же царь сътвори мир с Оугры.
398
Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ
5 сентября 1861 г.
Добрый друг Николай Александрович,
Как видите, я очень поздно окончил свою статью. Заниматься полезными для нации трудами здесь у меня решительно нет времени: утопаю в объятиях дружбы, если так можно выразиться. Потому не напишу ничего больше для сентябрьской книжки.
Но для октябрьской книжки привезу, вероятно, готовую статью, продолжение очерков из Милля (которых будет три статьи, чтобы кончились они в нынешнем году). На пароходе будет время для этого. Я полагаю, что деньги мне высланы 1 числа, — если так, получу их 10 или 11 и выеду 14 или 15, потому что дня два или три надобно будет употребить на разные экономические распоряжения перед отъездом.
В последней выписке из Милля (боргесе) в посылаемой статье вычеркните, когда будете читать корректуру, последние строк 8 или 10, с того места, которое начинается словами: «Читатель, желающий более подробного» и т. д.
Вы не можете себе вообразить, какая здесь скука, — делать ничего нельзя.
Жму Вашу руку.
Кланяйтесь Антоновичу и другим. Передайте вложенную записку Ольге Сократовне.
399
РОДНЫМ
3 октября 1861.
Милый папенька, мы все живы и здоровы. Письмо Ваше от 23 сентября получили своевременно.
По приезде своем сюда, нашел я Петербург встревоженным разными слухами, по поводу введения новых правил в университетах. Тут молва, по обыкновению щедрая на выдумки, приплетала множество имен, совершенно посторонних делу. Не осталось ни одного сколько-нибудь известного человека, о котором не рассказывалось бы множество нелепостей. Подобные вздорные толки могут доходить и до Саратова. Я не упоминал бы о них, если бы не считал нужным предупредить Вас, чтобы Вы не беспокоились понапрасну. С приездом государя, вероятно, все запутанности уладятся удовлетворительным образом. — Нет надобности прибавлять, что я держал и держу себя совершенно в стороне от вся-
441
ких столкновений, потому, между прочим, что у меня нет свободного времени для траты на пустяки. Словом сказать, не тревожьтесь слухами о здешних происшествиях, будьте уверены, что до меня они нимало не касаются.
Целую Ваши ручки. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и тебя, милая сестрица Варенька.
400
РОДНЫМ
17 октября 1861 г.
Милый папенька, все мы поживаем здесь живы и благополучны. Письмо Ваше от 7 октября получили мы своевременно.
В этот месяц Петербург был изобилен новостями по университетскому делу. Выражать свое мнение о нем я не стану, потому что это бесполезно. Довольно сказать, что я во всем согласен с Сашенькою, который держал себя тут едва ли не лучше всех своих товарищей. Жаль, что по недавности своего поступления в университет он не имел на других профессоров достаточно влияния. Если бы позаботились они с самого начала войти в прямые сношения с министром народного просвещения, то дело, быть может, уладилось бы как-нибудь. Но совет университета держал себя слишком бездейственно. Министр не имел понятия о настоящем положении дел; оттого и вышла безурядица. Но меня это нисколько не касается. Бог с ними, с этими делами, которые никому не принесут ничего полезного.
Целую Ваши ручки, милый папенька. Сын Ваш Николай.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и тебя, милая сестрица Варенька.
491
Ф. Ф. ВЕСЕЛАГО
[Сентября — октября 1861 г.]
Обращаюсь к Вам, Феодосий Федорович, в надежде на Вашу доброту, с просьбою вывесгь нас («Современник») из затруднения: г. Еленев, уезжая в отпуск, не успел, кроме других статей, которыми нет нужды спешить, прочесть одну статейку, которую неудобно было бы нам отлагать, и я прошу Вас об истинном одолжении: принять на себя труд просмотреть ее вместе с прилагаемыми статьями политического обозрения.
С истинным уважением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою Н. Чернышевский.
442
402
П. Н. или Е. Н. ПЫПИНЫМ
[Осень 1861]
Вам принесут читать 9 и 10 листы в 3-ей корректуре, уже в страницах. Читая их, Вы сличите прежде всего, все ли поправки исполнены, сделанные мною во 2-ой корректуре, которую и принесут вместе с ней для этого сличения.
Надобно будет также посмотреть хорошенько, нет ли ошибок в нумерации страниц.
Прочитав, надобно сделать на каждом листе, г. е. на листе, а не каждой осьмушке, надпись такую:
«Исправив, печатать» и подписать свою фамилию.
Но, главное, сличить внимательно со 2 (моею) корректурою.
403
РОДНЫМ
7 ноября 1861 г.
Милые дяденька и тетенька, благодарю вас, искренно благодарю вас, и тебя, милая сестрица Варенька, за вашу любовь к папеньке и заботливость о нем. Он мне сам говорил об этом с глубокою признательностью к вам.
Я не знаю, милые тетенька и дяденька, в каком порядке найдены денежные суммы, бывшие в его распоряжении. Если чего недостает, напишите мне, я немедленно пришлю вам для возвращения, куда следует. К рождеству и у Сашеньки и у меня будут сверх того свободные деньги, которые мы пришлем к вам, собственно для ваших дел.
Не знаю, надобно ли прибавлять, что, пока я буду жив и здоров, моему семейству не будет надобности в саратовском доме и что он будет оставаться в полном вашем распоряжении. Прошу вас считать себя хозяевами его. Если все пойдет, как я ожидаю, то это так останется
Саратовскими слухами обо мне не тревожьтесь. Они вздорны, могу вас уверить.
Благодарю вас за все, что вы делали для папеньки и для меня самого.
Целую вас. Ваш Н. Чернышевский.
Целую вас, милая Катя, Петя и Миша, и тебя, милый братец Егор Николаевич.
443
404
П. Л. ЛАВРОВУ
[Ноябрь 1861.]
Петр Лаврович,
Михаил Алексеевич Воронов, мой старинный приятель, покажет Вам телеграмму, полученную мною из Кронштадта. Мне кажется, что надобно было бы отправить в Кронштадт с кем-нибудь (например, Мих. Ал. Вор. или студентом Ламанским, или бы с другим поверенным) до 500 или 600 р. из фонда на переезд освобождаемых в Пет., а в Петерб. позаботиться о размещении их до устройства их дел по квартирам порядочных людей.
Ваш Н. Чернышевский.
405
И. А. ПАНАЕВУ
2 января 1862 г.
Милостивый Государь Ипполит Александрович, прошу Вас выдать на имя М. Е. Лебедева (в счет Добролюбовых) двести рублей сер. Их передаст Лебедеву Сергей Николаевич.
На обыкновенные расходы для Добролюбовых надобно получать М. Е. Лебедеву пятьдесят рублей в месяц, кроме платы за квартиру, за которую уплачено вперед за два месяца.
Ваш покорнейший слуга Н. Чернышевский.
406
И. А. ПАНАЕВУ
14 января 1862 г.
Милостивый Государь Ипполит Александрович.
...Я купил для издания сочинений Н. А. Добролюбова бумагу (в 12 долю) по 3 р. 15 к. у Заветного, сказав, что деньги будут платиться немедленно по доставке (за это, разумеется, он сделал уступку в цене — бумага стоит 3 руб. 40 к.). На следующей неделе, — то есть на начинающейся, — он поставил стоп 200. Печатается в типографии Огрызко, потому и уплата должна делаться по утверждениям Огрызко в получении бумаги.
Ваш преданнейший Н. Чернышевский.
407
А. В. ГОЛОВНИНУ
По желанию молодых людей, принявших на себя заведывание публичными курсами и предложивших мне чтение лекций по предмету политической экономии, имею честь всепокорнейше просить ваше превосходительство о разрешении мне читать означенные лекции на правах, принадлежащих моей ученой степени.
444
При этом не излишним считаю присовокупить, что на тех же правах уже разрешено мне чтение публичных лекций по тому же предмету в пользу Общества пособия нуждающимся литераторам.
Вместо программы имею честь приложить курс политической экономии Милля, которого буду держаться в своем чтении.
Магистр Н. Чернышевский.
23 января 1862 г.
408
Н. В. УСПЕНСКОМУ
[26 января 1862 г.]
Милостивый Государь,
Прежде чем могу я делать кому бы то ни было и какие бы то ни было предложения или требования от Вашего имени, я должен определить мои собственные отношения к Вам.
Вероятно, Вы помните грубые слова, которые сказали Вы мне. Находите ли Вы, что они сказаны были Вами напрасно?
Если находите, то Вам надобно прежде всего извиниться предо мною.
Если же думаете, что Вам не в чем извиняться передо мною, то, смею Вас уверить, что я не допущу никого иметь третейский суд с Вами или Вас иметь третейский суд с кем бы то ни было, прежде чем предложу Вам иметь третейский суд со мною.
Видите ли, Вы хотите, чтобы я был Вашим советником или посредником в деле, по Вашему мнению, нимало до меня не касавшемся, и сказали мне грубость, к которой не вызвал я Вас ни одним резким словом и на которую я даже не отвечал никаким резким словом.
Потому, прежде чем пойдет речь о деле Вашем с г. Некрасовым, должна итти речь о Вашем поступке со мною.
Вот Вам мой формальный ответ, и я имел бы право не прибавлять к нему ничего.
Но Вы были расстроены, когда сказали мне грубость. Поэтому я готов попрежнему быть Вашим посредником или советником, конечно, не в третейском суде, потому что тут мое мнение было бы против Вас, а в случае Вашего согласия иметь со мною частный разговор о деле, о котором Вы раньше хотели советоваться со мною. Я могу сказать Вам более: от меня зависит определить условия Вашего расчета с «Современником», потому что я такой же хозяин «Современника», как и г. Некрасов, и имею в распоряжении денежными делами «Современника» точно такой же голос, как и г. Некрасов.
Когда Вы были у меня, я именно это и хотел сказать Вам; хотел узнать Ваши желания и решительно сказать Вам, на какие из них я согласен. Смею Вас уверить, что если г. Некрасов не решился согласиться на некоторые из них, то единственно потому,
445
что не находил возможности без моего согласия изменить расчеты с Вами более, чем изменил их. А я могу сделать более, чем мог сделать он — почему так? По простой причине: во всех случаях несогласия мнений моего и г. Некрасова о каких бы то ни было предметах по журналу, он всегда считает нужным уступить моему мнению.
Вы не допустили меня сказать даже это, а ведь если бы я сказал это, вероятно, Вы нашли бы, что можно Вам избавиться от Вашего беспокойства и что незачем потом убегать от меня, отпуская мне грубости ни за что ни про что.
Н. Чернышевский.
После этого сделана приписка в таком смысле. В Вашем письме Вы выражаетесь, что мы с Вами имели крупный разговор. Я с Вами крупного разговора не имел, я говорил весьма тихо, мягко и деликатно, а просто Вы сказали мне грубость.
409
Н. В. УСПЕНСКОМУ
[27 января 1862 г.]
Милостивый государь Николай Васильевич,
Ведь вот что надобно мне формальным образом отвечать на Ваше второе письмо:
Вы хотите, чтобы я был посредником между Вами и г. Некрасовым по делу, которое должно иметь публичность; следовательно, публично должно быть известно и обстоятельство, дозволяющее мне говорить от Вашего имени с г. Некрасовым. Это обстоятельство — извинение Ваше; следовательно, извинению этому следует быть публичным.
Но я Вам повторяю, что когда Вы взглянете на дело хладнокровно, Вы, может быть, увидите, что не стоит нам с Вами забавлять публику публичными извинениями, что гораздо лучше просто потолковать нам с Вами не горячась. Если Вы еще не находите себя достаточно для этого успокоившимся, то попросите повидаться со мною Вашего брата или кого другого из Ваших знакомых, кому Вы доверяете.
Вам это будет гораздо легче, чем напрасный третейский суд, исход которого далеко не так верен для Вас.
Н. Чернышевский.
410
И. А. ПАНАЕВУ
Милостивейший Государь
Ипполит Александрович,
Прошу Вас прислать мне с Алексеем Осиповичем четыреста рублей.
Ваш Н. Чернышевский
1 февраля 1862.
446
411
И. А. ПАНАЕВУ
Милостивейший Государь
Ипполит Александрович,
Будьте так добр, пришлите мне для отправления в Москву записку на имя Базунова, чтобы по этой записке выдал двести рублей серебром г-же Ф. К. Ростовцовой. Мне хотелось бы ныне же послать письмо с этою запискою.
Ваш преданнейший
Н. Чернышевский.
2 февр[аля] 1862.
412
А. А. КРАЕВСКОМУ
[Первая половина февраля 1862 г.]
При свидании я перескажу Вам, Андрей Александрович, какие толки идут об участии Головнина в развязке дела Щапова, если Вы не услышите об этом раньше от других.
Лица, занимающиеся собиранием подписей, просят Вас сделать несколько списков с прилагаемой окончательной редакции записки, назначенной для передачи Головнину, и раздать эти списки тем, из Ваших знакомых, которые захотят также собирать подписи.
Подписи будут собираться на отдельных листах, которые все будут собраны и сшиты вместе. Кто и когда займется этим сшиваньем, будет сообщено дня через два-три. Время для собирания подписей назначено до четверга 12 часов утра. Ваш
Н. Чернышевский.
Лица, подписи которых находятся на прилагаемых листах, поручают Вам, милостивые государи, отправиться к г. министру народного просвещения и передать ему известный Вам взгляд их на дело г. Щапова. Для точнейшего руководства Вам при объяснении с г. министром, здесь излагаются главные черты этого взгляда.
Г. Щапов был перемещен с профессорской кафедры на гражданскую службу. Лишение кафедры было очень тяжелым наказанием для человека, думавшего посвятить себя ученой и преимущественно профессорской обязанности. Оно расстраивало всю его жизнь. Но, сравнительно с обыкновенными решениями дел подобного рода, такое решение дела г. Щапова было еще гуманно и потому произвело на общество впечатление, выгодное для правительства.
Теперь это впечатление разрушается решением послать г. Щапова в монастырь. Дело, считавшееся конченным, перевершается, одно высочайшее распоряжение уничтожается другим. Какое мнение после этого можно иметь о верности правительства самому
447
себе? Одно наказание усугубляется другим; какое понятие надобно теперь иметь о соблюдении правительством коренного принципа всего уголовного права, говорящего, что один проступок не может подвергаться двум наказаниям. Самый род второго наказания, — ссылка в монастырь, — показывает ли, что правительство чувствует различие между второю половиною XIX столетия и средними веками?
Это — соображения общие; переходя к особенным обстоятельствам наказываемого лица, надобно сказать, что правительство не приняло во внимание последствий, какие будет иметь для него судьба, которой подвергает оно г. Щапова. Он страдает болезнью, которая, по свидетельству врачей, неминуемо убьет его в назначаемом для него месте ссылки, где он будет лишен возможности лечиться надлежащим образом и соблюдать требуемые лечением гигиенические предосторожности. Выгодно ли будет для правительства, когда общество станет говорить: со Щаповым сделали то, что он должен был умереть?
Эти причины должны, по нашему мнению, заставлять г. министра народного просвещения, как министра, употребить все возможные настояния для избавления правительства от столь сильных нареканий.
Есть обстоятельство, обязывающее его, как человека, сильнейшим образом позаботиться о том же самом. Передайте г. министру то, что говорят в обществе об его, конечно, непреднамеренном участии в странной новой развязке дела г. Щапова.
Вы передадите, милостивые государи, г. министру эти мысли с надлежащими подробностями и оставьте у него эту данную нами Вам инструкцию с надлежащими к ней приложениями.
Замечания для гг. собирающих подписи:
Подписи надобно требовать у всех просвещенных людей. Каждый желающий приглашается собирать эти подписи на особом листе.
413
А. А. КРАЕВСКОМУ
[Первая половина февраля 1862 г.]
По поручению лиц, сочувствующих г. Щапову, я заходил к Вам, Андрей Александрович, просить Вас участвовать в депутации, которая должна отправиться к Головнину для представления прилагаемой мною записки. К записке этой собираются подписи.
Прошу Вас дать мне ответ. Адрес мой: у Владимирской, дом Есауловой.
P. S. В депутацию предполагается назначить Вас, г. Некрасова, г. Тиблена и меня.
Ваш Н. Чернышевский
448
414
Т. К. ГРИНВАЛЬД
10 февраля 1862.
Добрый друг Тереза Карловна.
Эти деньги — от Николая Александровича, но письма от него нет при них... да и не будет никогда...
Когда увидимся с Вами, поцелуемся и поплачем вместе о нашем друге... Вот уже редкий день проходит у меня без слез... Я тоже полезный человек, но лучше бы я умер, чем он... Лучшего своего защитника потерял в нем русский народ.
У Николая Александровича была чахотка. К ней прибавилась Брайтова болезнь, состоящая в упадке питания и столь же неизлечимая, как чахотка. Жизнь за границею не помогла ему. Он возвратился уже близкий к смерти. Он этого не замечал, он, приехав, считал себя почти здоровым, а когда слег в постель, все ждал выздоровления, ждал до последних дней, — ждал, когда уже началась агония; и когда стала уже меркнуть его светлая мысль в два-три последние дни, только разве в это время исчезла у него надежда на выздоровление.
Он скончался в ночь с 16 на 17 ноября.
415
И. А. ПАНАЕВУ
Милостивейший Государь
Ипполит Александрович,
Сделайте одолжение, передайте Алексею Осиповичу деньги, которые надобно мне получить от Вас.
Ваш
Н. Чернышевский.
28 февраля 1862.
416
И. Е. АНДРЕЕВСКОМУ
М. Г. И. Е. Отзывы большинства читающих лекции профессоров и рассказы депутатов не сходятся между собою. Некоторые пункты разногласия так важны, что не следует оставлять их без разъяснения.
Мне и некоторым моим литературным друзьям кажется, что легчайшим способом к разъяснению дела был бы следующий: профессоры, читающие лекции, и депутаты студентов собрались бы у кого-нибудь на квартире, та и другая сторона пригласила бы свидетелей в равном числе с каждой стороны (напр., от 5 до 10). Эти свидетели выслушали бы рассказы и объяснения как профессоров, так и студенческих депутатов и, вероятно, было бы лучше всего, если б по окончании прений признали свое мнение о характере спорных пунктов формальным образом. Те из сви-
29 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
449
детелей, которые не согласились бы с решением большинства, могли бы вписать в протокол свое отдельное мнение.
С истинным уважением имею честь быть Ваш покорн. слуг. Н. Ч.
15 марта 1862
P. S. Это письмо имеет характер формального заявления желаний некоторой части публики. Потому прошу Вас почтить меня ответом, во-1-х, соглашаетесь ли Вы быть посредником между этою частью публики и профессорами, читающими лекции, т. е. сообщить им мое письмо и спросить у них формального ответа на него; во-2-х, если Вы найдете это удобным для себя сделать это сообщение, то каков будет ответ профессоров. Мой адрес...
417
И. Е. АНДРЕЕВСКОМУ
18 марта 1862 г.
М. Г. Иван Ефимович. Из Вашего ответа на мое письмо от 17 марта я должен вывесть следующее заключение:
Разъяснение формальной стороны дела о прекращении лекций было бы невыгодно для профессоров, читавших лекции;
если бы Вы не находили этого, Вы, вероятно, не затруднились бы сообщить им желание, выраженное в моем письме.
Этот вывод так натурален, что я буду считать его верным, пока не будет доказано противное, и присваиваю себе формальное право публично выражать это мнение.
С истинным уважением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою Н. Чернышевский.
Посылая формальный ответ на Ваше письмо, И. Е., я собственно для Вас должен сказать, что Вы не принадлежите к числу того большинства профессоров, действиями и в особенности рассказами которых недовольны студенты. Писать на бумаге все подробности слишком долго, но Спасович, с которым имел я длинный разговор об этом письме, может объяснить Вам, в чем сущность дела. Она такова, что надобно было бы как-нибудь заставить профессоров прекратить рассказы положительно вредные. Я выбрал для этого — не знаю, удачно ли, способ, быть может, ставящий в некоторые неприятности с товарищами то лицо, к которому я обратился с своим письмом. Что ж делать? Лучше ж это, чем давать продолжаться рассказам, имеющим слишком опасный характер.
Не шутя и я буду говорить, что Вы единственный человек из профессоров, сохраняющий хорошие отношения к студентам, подали мне основание находить, что действия большинства профессоров были нелепы и что они клевещут на студентов собственно из досады на то, что осрамились сами, как мне формально и признался в этом Спасович.
450
418
И. А. ПАНАЕВУ
[Конец апреля — начало мая 1862 г.]
Милостивейший Государь
Ипполит Александрович,
Прошу у Вас еще восемьдесят рублей для Н. С. Преображенского (за комедию, которая помещается в IV книжке).
Ваш
Н. Чернышевский.
P. S. Пришлите с этим кучером.
419
И. А. ПАНАЕВУ
[1 мая 1862 г.]
Я просил бы Вас, Ип. Ал., прислать эти деньги, если можно.
Ваш Н. Чернышевский.
420
И. А. ПАНАЕВУ
[Май 1862 г.]
Милостивейший Государь
Ипполит Александрович,
Если есть деньги «Современника» за Базуновым, то я просил бы дать записку на выдачу ста рублей Василию Яковлевичу Слепцову, статья которого печатается теперь.
Ваш
Н. Чернышевский.
421
И. А. ПАНАЕВУ
[Май 1862 г.]
Выдать из конторы Базунова:
Василию Алексеевичу Слепцову 100 р.
Александру Александровичу Шаврюву 200 р.
(Статьи эти печатаются.)
Не помню, сообщал ли я, что Филиппов просит выслать ему «Современник» в счет следующих за статью денег, по адресу: Михаилу Абрамовичу Филиппову, в уездный город Киевской губернии Звенигородку, а оттуда в село Окнино.
422
Д. А. МИЛЮТИНУ
13 июня 1862 [г.]
Ваше высокопревосходительство,
Одним из подчиненных Вам лиц (офицером Образцового эсскадрона) нанесено мне оскорбление, за которое порядочные люди прежде вызывали на дуэль, а теперь просто бьют нахала
29*
451
палкою, как собаку. Но мне не прилично прибегать к самоуправству, потому что я должен служить примером в общественной и моей частной жизни. Я должен наказать обидчика судом общественного мнения. Самый мягкий и прямой способ к тому — отдать его поступок на суд его товарищей по службе. Я обращался с этою просьбою к г. командиру Образцового эскадрона. Он отвечал, что ее исполнение будет превышением его власти. Потому я обращаюсь к Вашему высокопревосходительству с вопросом: может ли быть исполнено мое желание, состоящее в том, чтобы мне сделать прежде всего другого попытку наказать обидевшее меня лицо публичным порицанием его поступка голосом его сослуживцев.
С истинным уважением имею честь быть Вашего высокопревосходительства покорнейшим слугою. Н. Чернышевский.
Мой адрес: у Владимирской, в Большой Московской, дом Есауловой.
423
Д. А. МИЛЮТИНУ
14 июня 1862. Четверг.
Ваше высокопревосходительство,
Я обращался к Вам не с просьбою о том, чтобы дать административный ход делу, о котором писал: если б я имел такое намерение, то написал бы не частное письмо, а просьбу по установленной форме, с изложением подробностей дела, с поименованием лица, на которое жалуюсь, и т. д. Я не сделал этого потому, что, как известно и Вашему высокопревосходительству, власть не компетентна в личных делах о так называемом оскорблении чести: эти дела, как вам известно, подлежат только или самоуправству, или общественному мнению. Желая пользоваться исключительно последним средством, я имел честь обращаться к Вашему высокопревосходительству только с вопросом, имеет ли г. командир Образцового эскадрона право оказать мне свое содействие в том, чтобы поступок одного из офицеров этого эскадрона был предложен мною на рассмотрение его сослуживцев.
Из Вашего ответа на мое письмо я вижу, что нужно тут объяснить Вашему высокопревосходительству два обстоятельства: во-первых, почему я хочу предложить это дело на рассмотрение гг. офицеров Образцового эскадрона; во-вторых, почему я сообщал об этом своем намерении сначала г. командиру Образцового эскадрона, потом Вашему высокопревосходительству.
Что касается первого обстоятельства, то я руковожусь тою мыслью, что ближайшие представители общественного мнения о каком-либо действии какого-либо лица — сослуживцы этого лица. Если я не обращусь прежде всего к гг. офицерам Образцового эскадрона, я нанесу им обиду: не пригласить их в судьи о
452
поступке их товарища значит показать, что я или не полагаюсь на их благородство и беспристрастие, или не дорожу их мнением.
Что же касается второго обстоятельства (заявления сначала г. командиру Образцового эскадрона, потом Вашему высокопревосходительству, что я намерен просить господ офицеров Образцового эскадрона быть судьями поступка одного из их сослуживцев), я почел необходимым сделать это заявление для предотвращения всяких недоразумений и ложных слухов, — осторожность, быть может, чрезмерная, но, быть может, и не излишняя.
Из письма Вашего высокопревосходительства я вижу, что не буду иметь содействия г. командира Образцового эскадрона в предполагаемом мною образе действий, но еще не считаю нужным отказываться от своего намерения. Смею думать, что Ваше высокопревосходительство не почтете нарушением законов или служебных правил, если я теперь лично и совершенно частным образом обращусь к каждому из гг. офицеров Образцового эскадрона с просьбою, чтобы он выразил мне свое мнение о том поступке своего сослуживца, который кажется мне недостойным честного человека. Мне кажется, что этим я не нарушу никаких законов и правил службы. Если же Я ошибаюсь, то прошу Ваше высокопревосходительство сказать мне, что это было бы с моей стороны непозволительно. Я не то что прошу Вашего разрешения или согласия, — в подобных вещах не следует искать разрешения или согласия, — я только заявляю Вашему высокопревосходительству о своем намерении, — заявляю по принятому мною правилу осторожности в поступках. Я не хочу делать ничего недозволительного.
До вечера завтрашнего дня я не буду предпринимать ничего. Запрещению я буду повиноваться. Но если не получу запрещения, то буду считать свои действия не законопреступными.
Прошу у Вашего высокопревосходительства извинения в том, что обременяю Вас письмами по личному моему, то есть для всех других, кроме меня, мелочному делу.
С истинным уважением имею честь быть Вашего высокопревосходительства покорнейшим слугою.
Н. Чернышевский.
424
Н. А. НЕКРАСОВУ
Вторник 19 июня 1862 г.
Еще при Вас, Николай Алексеевич, изданы были «Временные цензурные правила», в которых, между прочим, говорилось, что министр народн. просвещения, по соглашению с министром внутр. дел, могут «останавливать издание журнала на срок, не превышающий восьми месяцев». Теперь к «Соврем.» и к «Русскому слову» применено это правило. Применено оно к этим журналам
453
без всякого нового особенного повода с их стороны, вследствие общих соображений, что их направление нехорошо. Мера эта составляет часть того общего ряда действий, который начался после пожаров, когда овладела правительством мысль, что положение дел требует сильных репрессивных мер. Репрессивное направление теперь так сильно, что всякие хлопоты были бы пока совершенно бесполезны. Поэтому приезжать Вам теперь в Петербург по делу о «Совр.» совершенно напрасно.
Я был два раза у Головнина, между прочим, вчера, — я ждал этого свидания, чтобы писать Вам уже когда узнаю от Головнина, что-нибудь окончательное. Вот результат. «Надобно ли думать, что остановка издания «Совр.» продлится действительно на весь восьмимесячный срок или она может быть отменена раньше?»
— Нет, раньше отменена не будет, — говорит Головнин. — «По окончании восьмимесячного срока будет ли позволено продолжать издание, или надобно считать эту остановку равносильною решению уничтожить журнал?»
— Да, я советую Вам (говорит Головнин) считать издание конченным и ликвидировать это дело. — «В таком случае, можно ли рассчитаться с подписчиками изданием сборников?»
— Можно. (Все это слово в слово было повторено Головниным «Русскому слову».)
Вот Вам и все.
Теперь я делаю вот что.
Оставалось издать 7 книжек. По 30 листов, это составляло 210 листов. Итак, надобно издать сборники до 200 печатных листов или до 220, уж никак не больше. Надобно позаботиться, что[бы] они обошлись подешевле. Поэтому помещу в них все статьи, которые уже куплены, помещу побольше переводов. Чтобы не пропадали деньги, постараюсь поместить роман Помяловского (если не явится надежды на возобновление журнала).
Помещу то, что будут писать Елисеев и Антонович, потому что с ними мы более или менее тесно связаны и надобно дать им время для устройства их дел, а может быть, и поберечь связь с ними на случай возобновления журнала.
Словом сказать, задача, как видите, немудреная. Когда остановка издания будет объявлена официально (до нынешнего дня мы еще не получали бумаги об этом), объявлю, что редакция рассчитывается с подписчиками изданием сборников, а кому из подписчиков не угодно этого, пусть требует денег по расчету (за 7 книжек по 1 р. 25 [коп.] за книжку, 8 р. 75 коп.) — потребуют денег, конечно, очень немногие, так что эта нежность не сделает особенного убытка, а для чистоты дела она нужна. Сборники стану печатать в 6 000 или в 6 200 экз., чтобы осталось несколько сот лишних, которые можно будеть продать. Сборники будут, конечно, в том же формате, как журнал, так что могут быть поставлены в счет книжек, если издание журнала возобновится.
454
Через месяц напишу Вам, что будет дальше. Если Ваше присутствие здесь будет казаться хотя сколько-нибудь могущим содействовать возобновлению журнала, попрошу Вас приехать. Но теперь это бесполезно.
В августе будет видно, поможет ли возобновлению журнала то, если я совершенно прекращу всякие отношения к нему, — вероятно, нет, потому что этим уверениям не поверили бы. Но время еще терпит, и мы увидим, как и что надобно будет делать для пользы «Совр.», если будет казаться, что чем-нибудь можно будет поправить дело журнала.
Если будет что новое, то напишу тотчас же; но пока нового ничего не предвидится, потому и говорю, что напишу этак через месяц. Если тогда буду думать что-нибудь делать, напишу; но теперь пока ровно ничего о себе я не думаю.
Ваш Н. Чернышевский.
425
Н. Д. И А. Г. ПЫПИНЫМ
3 июля 1862 г.
Милые дяденька и тетенька,
Из писем Сережи вы, конечно, знаете, что Ольга Сократовна решилась переехать на некоторое время в Саратов. Ныне она отправилась в дорогу, через Тверь по Волге, и, вероятно, будет в Саратове дня через три после того, как Вы получите это письмо.
Мы решили, что она поселится в маленьком флигеле, где прежде жила и, быть может, теперь живет Устинья Васильевна. Как ни неприятно мне тревожить ее, но я прошу вас передать ей мою просьбу, чтобы она перешла на другую квартиру.
Целую вас, милые дяденька и тетенька, и тебя, милая сестрица Варенька. Целую вас, Евгеньичка и Полинька, — с вами мы скоро увидимся здесь в Петербурге. Жму руку Алексею Осиповичу.
Ваш Н. Чернышевский.
426
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
5 октября 1862 г.
Милый мой друг, моя золотая, несравненная Ляличка.
Целую тебя, мой ангел. Я получил твои письма от 19 и 22 сентября. Теперь я имею основание думать, что доверенность тебе вышлю на-днях. — тогда, моя милая, делай, как тебе угодно, нисколько не сомневаясь в том, что мне будет казаться наилучшим именно то, что ты сделаешь: если не станешь продавать дом и останешься дожидаться меня в Саратове, — значит, так было лучше; если продашь дом и приедешь в Петербург, — самое лучшее то, что для тебя лучше. Ведь ты знаешь, моя милая, что для меня самое лучшее то, что для тебя лучше. Ты умнее меня, мой друг, и потому я во всем с готовностью и радостью принимаю твое решение. Об одном только прошу тебя: будь спокойна и ве-
455
села, не унывай, не тоскуй; одно это важно, остальное все — вздор. У тебя больше характера, чем у меня, — а даже я ни на минуту не тужил ни о чем во все это время, — тем более следует быть твердой тебе, мой дружок. Скажу тебе одно: наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами. Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь. — В это время я имел досуг подумать о себе и составить план будущей жизни. Вот как пойдет она: до сих пор я работал только для того, чтобы жить. Теперь средства к жизни будут доставаться мне легче, потому что восьмилетняя деятельность доставила мне хорошее имя. Итак, у меня будет оставаться время для трудов, о которых я давно мечтал. Теперь планы этих трудов обдуманы окончательно. Я начну многотомною «Историею материальной и умственной жизни человечества», — историею, какой до сих пор не было, потому что работы Гизо, Бокля (и Вико даже) деланы по слишком узкому плану и плохи в исполнении. За этим пойдет «Критический словарь идей и фактов», основанный на этой истории. Тут будут перебраны и разобраны все мысли обо всех важных вещах, и при каждом случае будет указываться истинная точка зрения. Это будет тоже многотомная работа. Наконец на основании этих двух работ я составлю «Энциклопедию знания и жизни», — это будет уже экстракт, небольшого объема, два-три тома, написанный так, чтобы был понятен не одним ученым, как два предыдущие труда, а всей публике. Потом я ту же книгу переработаю в самом легком, популярном духе, в виде почти романа, с анекдотами, сценами, остротами, так чтобы ее читали все, кто не читает ничего, кроме романов. Конечно, все эти книги, назначенные не для одних русских, будут выходить не на русском языке, а на французском, как общем языке образованного мира. Чепуха в голове у людей, потому они и бедны и жалки, злы и несчастны; надобно разъяснить им, в чем истина и как следует им думать и жить. Со времени Аристотеля не было делано еще никем того, что я хочу сделать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель. — А впрочем, я заговорил о своих мыслях: они секрет, ты никому не говори о том, что я сообщаю тебе одной (тех, которые будут читать это письмо прежде тебя, я не считаю, потому что они этими вещами не занимаются). Но я рассказал тебе это для того, чтобы ты видела, как далек я от всякого уныния, — о, нет, мой друг, редко когда бывал я так спокоен и доволен, как в это время. Смотри же, будь и ты спокойна и бодра. Ты здорова — только это и нужно мне, чтобы я был в хорошем расположении духа.
Но что тебе сказать о положении вздорного дела, которое служит причиною твоего огорчения и лишь по этому одному не-
456
приятно мне? Решительно ничего не мог бы я тебе сказать об этом, если бы даже говорил с тобою наедине, потому что сам ровно ничего не знаю: до сих пор мне не сказано ни одного слова об этом деле, и оно остается для меня секретом, которого не разгадал бы я при всем своем уме, которым так горжусь, не разгадал бы, если бы и захотел думать о вздоре, о котором и не думаю, будучи уверен, что важного тут не может быть ничего. Когда это дело кончится? — тоже не знаю; но, вероятно, скоро — ведь не годы же оно будет тянуться. Ну, может быть, протянется еще месяц, другой, ведь три целых месяца уже прошло, — а может быть, и одного месяца не протянется, — я ровно ничего не знаю, мой дружочек. Можно только судить по здравому смыслу, что большая половина нашего времени разлуки уже прошла. Будь же умница, мой дружочек, будь весела и спокойна, — за это я поклонюсь тебе в ножки и расцелую их. — Быть может, мой милый ангел, ты вздумаешь, что лучше тебе дождаться в Саратове доверенности и выехать уже по продаже дома, — если так, то так; а впрочем, тебе виднее это; ведь тут все зависит от денег, — продав дом, ты будешь иметь их; а теперь имеешь ли? Напиши об этом. Когда мне скажут что-нибудь, я уведомлю тебя, а теперь ровно ничего не знаю и уж по этому одному должен все предоставлять единственно твоему рассуждению, моя золотая Ляличка, если бы не был всегда расположен во всем думать, что ты лучше меня можешь судить, как и что надобно сделать. Ведь ты у меня золотая умница, и за это я целую тебя.
Твой Н. Ч.
Чуть не забыл приписать, что я здоров. Целую детишек. Будь здорова и спокойна. Тысячи и миллионы раз целую твои ручки, моя несравненная умница и красавица Ляличка, — не тоскуй же смотри, будь... А какая отличная борода отросла у меня: просто загляденье.
427
О. С. ЧЕРНВШЕВСКОЙ
12 октября 1862 г.
Милый друг мой,
Вот посылается, наконец, и доверенность тебе, вместе с этим письмом. Теперь ты, мой милый ангел, вольный казак, — получишь деньги за дом и можешь распорядиться, как тебе угодно: в Саратове ли оставаться, ехать ли куда хочешь, — делай, моя золотая, как сама думаешь, и как тебе лучше, — я впредь во всем с тобою согласен, будь уверена.
Я, мой дружочек, занялся теперь работою, — перевожу, как писал тебе, XV и XVI томы Шлоссера. Кроме того, я могу теперь покупать книги по своему выбору, и некоторые уже купил. Поэтому, голубочка моя, я провожу время уже совершенно без
457
всякой скуки, и если б не забота о тебе, каково-то ты живешь без меня, — то мог бы сказать, что провожу время даже и приятно. Ведь сидел же я по пяти и шести суток безвыходно в своей комнате, ведь всегда был я дикарем, — вспомнив это, ты поверишь, моя милая голубочка Ляличка, что собственно для меня самого заключение ровно ничего не значит. Не тоскуй же, мой ангел, из напрасного участия ко мне.
Если ты собираешься ехать, мой друг, то умоляю тебя, дождись, пока установится сносная дорога и пожалуйста купи хороший экипаж.
Но во всяком случае, поедешь ли ты в Петербург или нет, полагаю, моя милая, что ты для меня будешь беречь себя и постараешься не грустить о вздоре, о котором не стоит думать и который ведь не бог же знает сколько еще времени будет тянуться. Будь же здорова и весела. Целую тебя, мой друг Ляличка.
Твой Н. Ч.
Я здоров, целую детишек и еще и еще тебя.
Вздумал я приписать еще вот что, мой ангел: пожалуйста, не подумай, что я сколько-нибудь утаиваю перед тобою свои желания, что, например, мне хотелось бы звать тебя в Петербург, только я не говорю, или наоборот, что я не одобрял бы твоего намерения ехать в Петербург, только я опять не говорю; нет, мой дружочек, поверь, что я говорю всю правду, когда говорю, что как тебе покажется лучше, так и мне понравится. Не вздумай также руководиться обыкновенными толками глупых людей, что жена обязана поступать вот как или вот как, — нечего обращать внимания на такие толки: никто не обязан делать ничего кроме того, что ему самому будет лучше.
Не подумай тоже, мой дружочек, что я обманываю тебя, когда говорю, что я провожу свое время без скуки, не чувствуя никакого обременения собственно по себе, — это правда, мой друг, мне стыдно было бы притворяться перед тобою, когда я знаю, что ты передо мною никогда ни в чем не притворялась и не будешь притворяться. Уверяю тебя, что мое состояние вовсе не таково, чтобы нужно тебе было жалеть или грустить обо мне; верь мне, мой друг, не обманываю.
И опять я думаю: как бы не показалось тебе, что мне не сильно хотелось бы поскорее увидеться с тобою, — да нет, как же это можно, тебе не должно это показаться, — ведь у меня только и радости на свете, что ты. А только мне бы хотелось, чтобы обо мне-то ты как можно меньше беспокоилась. Ну, жму твою ручку и целую тебя. Будь здорова и весела.
Вот видишь, как часто я писал тебе в эти дни. Смотри же, не тревожься, если теперь письма пойдут не так часто, а по прежним промежуткам. — Ничего, погоди, все уладится и будем мы с тобою жить и спокойнее, и лучше прежнего, — это, поверь, правда. Ну, развеселись же, мое милое сокровище.
458
428
И. А. ПЫПИНУ
1 ноября 1862 г.
Милый брат Сергей Николаевич,
Прошу тебя о следующих вещах:
1) Если у тебя есть какие-нибудь мои деньги, вырученные за вещи или за книги, то отошли их все Ольге Сократовне и вперед отсылай, если будут. Для меня не оставляй ничего, мне не нужно.
2) Постарайся, вместе с сестрами, уладить несколько натянутые, как мне кажется, отношения между нашими родными в Саратове и Ольгою Сократовною. В чем они, я не знаю хорошенько. Полагаю, что причиною, однако же, все-таки я, не успевший приготовить для жены и детей ничего и потому увидевший себя принужденным воспользоваться наследством после отца, чего не думал делать. Кажется, жене нельзя будет обойтись без того, чтобы продать или заложить дом. Но я еще буду иметь средства сделать то, что нужно для вознаграждения дяденьки и тетеньки за расстройство их дел, которое произошло от меня. (Впрочем, судя по последнему письму жены, их и ее отношения как будто стали лучше.)
3) Узнай хорошенько от докторов и скажи мне, что это такое за болезнь, бывшая с Сашею: «от застуженной кори сделалась у него водянка, и 3 раза ставили пиявки от воспаления в почках» — так пишет жена. Пожалуйста, узнай и напиши по правде, оставляет ли это по себе следы в ребенке 8 лет, или все изглаживается с ростом. Узнай тоже, до какой степени расстроилось здоровье жены от хлопот с детьми и страха за них во время болезни.
4) Если кто занимается теперь изданием «Всемирной истории» Шлоссера, то скажи ему, что я перевожу XV том, — перевел уже две трети его, — и на-днях примусь переводить XVI-й. При переводе XVI тома мне нужно будет иметь для справок «Историю XVIII века» Шлоссера, мое издание. Возьми новый, чистый экземпляр и пошли к свиты е[го] в[еличества] генерал-майору Потапову, для передачи мне.
5) Напиши, были ли посланы, после первой посылки твоей и Иван Григорьевичевой, какие-нибудь деньги жене.
О себе я скажу, что совершенно здоров и благополучен, особенно после того, как занялся работою.
Благодарю тебя за то, что ты уведомил меня о прежней посылке денег к жене. Пожалуй, еще не имел ли ты от нее упреков, что дешево продал вещи, — если да, прошу тебя, не сердись на нее, пожалуйста не сердись. Ведь она, разумеется, вообще теперь не в веселом расположении духа.
Обнимаю тебя и сестер.
Твой Н. Чернышевский.
459
429
АЛЕКСАНДРУ II
Всемилостивейший Государь.
Я был арестован 7-го июля. Меня призвали к допросу 30-го октября, почти через четыре месяца после моего ареста. Если бы можно было найти какое-нибудь обвинение против меня, достаточно было времени, чтобы найти его. О чем же меня спросили? О том, «в каких отношениях я нахожусь к русским изгнанникам, Огареву и Герцену». — Я отвечал: «в неприязненных, это всем известный факт; он должен быть известен и комиссии». — Ничего не нашли сказать мне, ни против этого, ни кроме этого. Допрос едва ли продолжался 10 минут. Я подождал еще две недели, не имеют ли о чем спросить меня, кроме этого; меня не призывали. Тогда я выразил сам желание, чтобы меня пригласили в следственную комиссию; ждал приглашения 4 дня; не получил его и обратился к его превосходительству г. коменданту С.-Петербургской крепости с запискою, по которой мне разрешено теперь писать к вашему величеству.
Государь, не из этого хода моего дела я заключил, что против меня нет обвинения, — я знал это и говорил это при самом арестовании моем. Но если бы я раньше настоящего времени стал уверять ваше величество, что обвинений против меня нет, вы, государь, не имели бы оснований верить моим словам. Теперь смею думать, что они не покажутся пустыми словами. Если бы против меня были какие-нибудь обвинения, кроме намека, заключающегося в вопросе о моих отношениях к Огареву и Герцену, мне предложили бы какие-нибудь вопросы, относящиеся к этим другим обвинениям. Таких вопросов не было предложено; следовательно, и других обвинений нет. Вот первое мое основание. Вот второе: когда я выразил желание, чтобы меня пригласили в комиссию, я хотел через нее просить разрешения писать к вашему величеству; но это не было известно комиссии, она не могла знать, зачем я желаю быть приглашен. В подобных случаях самое естественное предположение всякого следователя то, что арестованный желает сделать признание или показание, открывающее какую-нибудь тайну. Если бы комиссия имела это предположение, она поспешила бы пригласить меня. Но она не пригласила; следовательно, она не имела такого предположения. А не иметь его она могла потому только, что из самого дела ей было очевидно, что мне не в чем признаваться и нечего открывать.
Но, государь, самое главное доказательство, что не нашлось возможности оставить на мне какое-нибудь обвинение, заключается именно в том единственном вопросе, который был мне сделан. Спрашивать меня о моих отношениях к Огареву и Герцену значит показывать, что спрашивать меня решительно не о чем. Всему петербургскому обществу, интересующемуся литературою, известна
460
та неприязнь между мною и ими, о которой я говорил; известны также и причины ее. Их две. Первая заключается в денежной тяжбе, которую имел Огарев с одним из знакомых Мне лиц. Он выиграл ее; но в многочисленных разговорах, которые она возбуждала в обществе, я громко порицал действия Герцена и Огарева по этому делу. В моем положении не удобно мне говорить о другой причине неприязни между нами. Но ваше величество может увидеть эту причину из письма Огарева и Герцена, которое сохранилось у меня в бумагах. Неизвестное мне лицо, получившее это письмо, прислало его мне по городской почте в очевидном желании сделать мне неприятность, потому что в этом письме Огарев советует своему корреспонденту побить меня, а Герцен говорит, что я поступаю с ним à la baron Vidil (указание на известный английский процесс: Видиль был приговорен к смерти за покушение на убийство). Почему Герцен так отзывается, и почему Огарев желает, чтобы меня поколотили, пусть объяснит вашему величеству самое письмо их.
Государь, имею ли я теперь основание обращаться к вашему величеству, как человек, очищенный от обвинений, — если вы находите, что имею, то благоволите, прошу вас, оказать мне справедливость повелением об освобождении меня от ареста.
Вашего величества подданный Н. Чернышевский.
20 ноября 1862.
430
КН. А. А. СУВОРОВУ
20 ноября 1862.
Ваша светлость,
В письме к его величеству я не употребляю ни одного из принятых в обыкновенных письмах к государю выражений чувства; это оттого, что, по моему мнению, человек в моем положении, употребляющий подобные обороты речи, оскорбляет того, к кому обращается, — обнаруживает мысль, что лицу, с которым он говорит, приятна или нужна лесть.
Потому и к вашей светлости я пишу совершенно сухо. Когда я имел честь говорить с вами в прежнее время, я иногда употреблял теплые слова, которые можно было принимать как угодно: или за выражение действительного моего уважения и доверия к вашей светлости, или за лесть. Я не стеснялся возможностью последнего, потому что тогда не нуждался в помощи вашей светлости. Теперь другое дело.
Осмеливаюсь напомнить вашей светлости два случая. Однажды вы сказали мне, чтобы я постарался остановить подписывание адреса о Михайлове. Я сказал, что не слышал о таком адресе и что едва ли он существует, но что спрошу об этом. Я спрашивал и оказалось, что, действительно, никакого адреса не существовало. А ведь ясно было, что вашей светлости
461
говорили, что в числе хлопочущих о подписывании адреса нахожусь и я. — В другой раз вашей светлости было сказано, что я собираю у себя офицеров, — это было прошлой зимой. Вы были так добр, что передали мне это, предостерегая меня. А у меня во всю зиму не было никаких собраний.
Эти два обстоятельства могут свидетельствовать, что не все слухи обо мне, доходившие до вашей светлости и других правительственных лиц, были верны. Это были слухи политические; но было много слухов обо мне. Когда, год тому назад, умер мой отец, говорили, что я получил в наследство, по одним рассказам, 100 000 р., по другим — 400 000 р. Или другой слух — даже не слух, а печатное показание: есть повесть известного писателя Григоровича «Школа гостеприимства»; я в ней выведен под именем Черневского, которому даны мои ухватки и ужимки, мои поговорки, мой голос, все; это лицо, — то есть я, — выставлено гастрономом и кутилой, напрашивающимся на чужие богатые обеды. Я не напрашиваюсь на изящные обеды уже и по одному тому, что встаю из-за них голодный: я не ем почти ни одного блюда франц. кухни; а вина не люблю просто потому, что не люблю.
Этих сплетен обо мне было бесконечное множество. Обратили внимание на те, которые относились к политике; почему бы не обратить его и на те, которые относились к вещам и не-политическим, вроде моего наследства и гастрономичности? Степень основательности этих последних могла бы служить мерою основательности и первых.
Почему же обо мне ходило множество нелепых слухов? Я не очень скромен, потому скажу просто: я был человек, очень заметный в литературе. Как о всяком человеке, которым много занимаются, говорят много пустого, так говорили и обо мне.
Например, много кричали о моем образе мыслей. В моем положении излагать его — неудобно: да, по счастью, и не нужно: я уже излагал его вашей светлости, излагал без всякой надобности, просто потому, что не имел причин скрывать его, — излагал с такими оговорками, которые могли доказывать, что я не хотел лгать или утаивать что-нибудь из него. Это главное. А притом ваша светлость не раз говорили мне совершенно справедливо, что закону и правительству нет дела до образа мыслей, что закон судит, а правительство принимает в соображение только поступки и замыслы. Я смело утверждаю, что не существует и не может существовать никаких улик в поступках или замыслах, враждебных правительству.
Должен ли я доказать, что не только говорю я это, но что это и действительно так, что их не может существовать? Доказательство тому: я оставался в Петербурге последний год. С лета прошлого года носились слухи, что я ныне — завтра буду арестован. С начала нынешнего года я слышал это каждый день. Если
462
бы я мог чего-нибудь опасаться, разве мне трудно было уехать за границу, с чужим паспортом или без паспорта? Всем известно, что это дело легкое, не только у нас, но и везде. Да мне не было и надобности прибегать к такому средству: г. министр народного просвещения предлагал мне казенное поручение за границу, говоря, что устранить запрещение о выдаче мне паспорта он берет уже на себя. Почему же я не уехал? И почему, при всей мнительности моего характера, я не тревожился слухами о моем аресте? А что я не тревожился ими, известно всему литературному кругу, и доказывается состоянием, в каком были найдены мои бумаги при моем аресте: опытный следователь, разбирая их, может убедиться, что они не были пересматриваемы мною, по крайней мере, полтора года.
Или нужно доказывать, что я знал очень давно, что за мною следят? Теперь: правдоподобно ли, чтобы человек, уже не молодой (мне далеко за тридцать лет), заваленный работой, живущий в изобилии, с каждым годом имеющий больше дохода (в 1860 г. я получил до 10 000 рублей, в 1861 г. до 12 000 р. — это можно видеть из счетных книг журнала «Современник» — в нынешнем, если бы не арест, получил бы, по крайней мере, 15 000 р.; это можно видеть из расчетов, находящихся в моих бумагах; остановка изданий «Современника» расстраивала мои доходы месяц? на два, на три; когда я был арестован, я изготовил издания, которые дали бы мне больше дохода, чем давал журнал) — следовательно, человек, не имеющий личной надобности желать перемены вещей, — человек, имеющий на своих руках семейство, — человек, которого еще никто не считал дураком, — чтобы такой человек стал ввязываться в опасное дело, — правдоподобно ли это, ваша светлость? Правдоподобно, чтобы он стал это делать, зная, что за каждым его шагом следят?
Прося вашу светлость представить государю мое письмо к его величеству, я должен объяснить вам, что смягчил рассказ о моем допросе, отчасти для краткости, а больше потому, что считал неуместным говорить в этом письме о канцелярских промахах, вероятно, неумышленных. Выражение письменного допроса было не «объясните, в каких отношениях находились вы к Огареву и Герцену», — а «объясните ваши сношения, о которых имеются в комиссии сведения», но прежде, нежели дали мне эту бумагу для письменного ответа, один из членов комиссии делал мне изустный допрос (который и продолжался не более 10 минут). Это лицо не решилось сказать в глаза мне того, что было написано в бумаге, а употребило именно те слова, которые привожу я в письме к его величеству: «объясните, в каких отношениях» и проч., и не решилось заговорить о «сведениях, имеющихся» и проч. Итак, в письме к его величеству я говорю об изустном допросе. Что же касается письменного, то я, прочитав выражение об «имеющихся сведениях», вспыхнул и написал го-
463
рячие слова: «очень интересно было бы знать, какие могут быть сведения о том, чего не было. Я принужден выразить свое удивление тому, что подобные вопросы предлагаются мне». Через два дня меня призвали в комиссию, сказали, что по закону нельзя допустить таких резких выражений, попросили на другом листе повторить прежний ответ без этих выражений, — я согласился, потому что не люблю тягаться из пустяков. Но и тут мне не отважились ничего сказать о каких-то «имеющихся сведениях» о небывалых «сношениях». А тут ведь уже нельзя, кажется, было бы не сказать о них, если бы было, что сказать. Напротив, тут уже были со мною любезны, мы даже обменялись несколькими шутками, — почему же и не шутить? Я это люблю. Словом сказать, очевидно, что и «имеющиеся сведения» просто была канцелярская фраза, употребленная, вероятно, и не по злому умыслу, а только по машинальной привычке. Не стоило бы и говорить о ней, но на всякий случай говорю, сожалея о том, что утруждаю вашу светлость такими дрязгами.
В письме к его величеству упоминаю я о тяжбе Огарева с «одним из знакомых мне лиц»; это лицо — г-жа Панаева. Тяжба кончилась года два тому назад. Я не имею к ней никакого отношения.
Я упоминаю также о лицах, которым во время моего арестования выражал, что обвинений против меня быть не может и что все дело состоит, без сомнения, в недоразумении или ошибке. Эти лица, по порядку времени: г-н полицейский чиновник, находившийся при моем арестовании; чиновник, с которым я ехал из дома III Отделения собственной его величества канцелярии в С.-Петербургскую крепость, и, наконец, его превосходительство, господин комендант крепости.
Следовало бы мне благодарить вашу светлость за то, что вы приняли на себя ходатайство по моему делу; но не хочу теперь делать и этого, чтобы не могло быть ничего, могущего заставить вашу светлость думать, что в моих словах не все говорится для правды, а хотя что-нибудь и для одного вида. Отлагаю выражение моей правдивой благодарности к вашей светлости и за это ходатайство и прежнюю вашу благосклонность ко мне до того времени, когда опять буду вне прямой зависимости от вас.
С глубоким уважением и искреннейшею преданностью имею честь быть вашей светлости покорнейший слуга Н. Чернышевский.
431
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
[2 декабря 1862 г.]
Саратов. Чернышевской у Сергия свой дом.
Делай нужное здоровью не спрашиваясь тебе виднее приезжай сюда если нужно здоровью запасись деньгами здоров целую отвечай Чернышевский.
464
432
А. Ф. СОРОКИНУ
Ваше превосходительство,
Из телеграммы, переданной мне от Вас, Вы видели, что жена моя тяжело больна. Необходимо поддержать ее. А для этого нужно успокоить ее. Потому прошу Вас выхлопотать разрешение на посылку прилагаемой телеграммы. Я в ней говорю, что мое дело на-днях кончится, скоро ли оно кончится, и так или нет кончится, как я говорю в телеграмме, это для меня все равно, — я тут имею в виду только здоровье моей жены. Правительство, конечно, нисколько не свяжет свободы своих распоряжений моею личною судьбою через то, что не запретит мне говорить больной женщине те вещи, какие нужно теперь говорить ей для восстановления ее здоровья. Но сделайте одолжение, устройте, чтобы телеграмма была послана поскорее. Это я приму за очень большое личное одолжение себе.
2 декабря 1862 г.
Н. Чернышевский.
433
А. Ф. СОРОКИНУ
Это не письмо, а просьба.
Отрываю этот полулист от письма г. А. Пыпина, которое возвращается вместе с моим письмом к г. Пыпину.
Н. Чернышевский
Чернышевский покорнейше просит, если можно, не задерживать так долго писем, присылаемых к нему, и писем, отправляемых им. В этих письмах речь идет о семейных делах, в которых промедление очень неудобно. По мнению Чернышевского, можно было уже достаточно убедиться, что в его переписке не заключается ничего, требующего слишком долгого разбора, речь идет о семейных делах, и только. Кто не замечает того с первого же взгляда и кто думает над этими письмами, нет ли в них какого-нибудь тайного смысла, тот не мог бы назваться хорошим следователем. Потому Чернышевский покорнейше просит не держать его писем по 4 дня, по 6 дней, иногда и по 7 или 8 дней понапрасну. — Он не говорил ничего против этого, когда в письмах не было ничего, требующего скорой доставки. Но содержание писем настоящего времени заставляет Чернышевского выразить эту просьбу. Понятно, что когда дело идет о здоровье и болезни, то промедление не должно быть допускаемо лицами, которые не желают вредить людям без нужды в вещах, не относящихся ни к политике, ни к канцелярской тайне, а относящихся просто к физическому здоровью. Кстати, он может, например, уверить, что не для чего было бы наводить справки о лицах, фамилии которых упоминаются в настоящем письме, — Шепулинский, Эк и т. д. —
30 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
465
это известные петербургские медики, а Чебышев и Сомов — известные профессоры математики, и ни они к Чернышевскому, ни он к ним, не имели никогда ровно никаких отношений, — он смеет уверить в этом. Конечно, он должен был бы предполагать, что это известно и без объяснений с его стороны, но все-таки объясняет, чтобы не вышло задержки из-за этих фамилий. П. В. Анненков — брат петербургского полицеймейстера. — Н. Чернышевский. 3 декабря 1862.
P. S. Чернышевский просит не оскорбиться тем, что он написал это с некоторою желчью, — он просит обратить внимание на сущность дела, которая служит достаточным пояснением того, что он увлекся некоторою досадой. Например, письмо, в котором жена просит его прислать ей телеграмму о том, что ей делать, и в котором говорит о своей тяжелой болезни, — это письмо, отправленное из Саратова 16 ноября, доставлено Чернышевскому только 29 ноября, — а почта из Саратова идет только 6 дней, ныне, может быть, только уже 5 дней, если готова нижегородская дорога. Чернышевский не знает, от кого происходит такое промедление; но он полагает, что оно ни в каком случае не может быть одобрено правительством.
434
А. Ф. СОРОКИНУ
Ваше превосходительство,
Я написал два проекта телеграммы к моей жене. Конечно, я желал бы, чтобы был отправлен тот, который отмечен № 1, — но только в том случае, если его содержание справедливо. Я не буду спрашивать, отправлен ли он, — следовательно, как мне кажется, тайна того, долго ли еще протянется мое дело, не будет открыта мне отправлением этой телеграммы. Если же все-таки найдут невозможным послать ее, то я прошу послать проект, отмеченный № 2-м. — 7 декабря 1862. Н. Чернышевский.
P. S. Если справедливость потребует заменить в проекте телеграммы № 1-й слово месяц словами полтора месяца или другим сроком, то я прошу сделать это. Но только в том случае, если этот срок не больше двух месяцев. Если же справедливость потребовала бы поставить два месяца или срок более долгий, то лучше будет не посылать проекта № 1, а послать № 2. — 7 декабря 1862 г. Н. Чернышевский.
P. P. S. Если бы согласились послать № 1 и нашли соответствующим истине заменить слово месяц полтора месяца, то есть одно слово двумя, то надобно было бы слово «извести депешей» заменить одним словом «телеграфируй», — и число слов осталось бы, попрежнему, двадцать. 7 дек. Н. Чернышевский.
466
435
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
7 декабря 1862 г.
Имея привычку действовать прямо, я и пишу прямо. Но если это письмо не будет найдено удобным к отправлению, то я буду знать, что оно было найдено неудобным к отправлению, и только всего. Мне казалось, что здоровье моей жены возлагает на меня обязанность изложить ей мое дело. А излагать его иначе — нельзя, потому что лгать я не стану.
Милый друг, Ляличка,
Когда ты уезжала, я говорил тебе, по поводу слухов беспрестанно разносившихся, о моем арестовании: «Не полагаю, чтобы меня арестовали; но если арестуют, знай вперед, что из этого ничего не выйдет, кроме того, что напрасно компрометуют правительство опрометчивым арестом, в котором должны будут извиняться, потому что я не только не запутан ни в какое дело, но и нет возможности запутать меня в какое бы то ни было дело». Эти слова мои верны, и я тебе теперь поясню их результатами, какие вышли наружу, — вероятно, не для одного Петербурга, но и для европейской публики, — моя история, конечно, уже разгласилась, потому можешь и ты знать ее.
Почему я полагал, что меня не арестуют? Потому, что я знал, что за мною следили, и хвалились, что за мною следят очень хорошо. Я имел глупость положиться на эту похвальбу. Мой расчет был: если хорошо будут знать, как я живу и что я делаю, и чего не делаю, то подозрения против меня уничтожатся, — и кто подозревал, те убедятся, что напрасно смешивали меня с людьми, которые запутываются или могут быть запутаны в так называемые «политические преступления». Я сказал, что этот мой расчет на справедливость похвальбы хорошим наблюдением за мною, — был глуп. Он был глуп потому, что я знал, что у нас ничего не умеют делать как следует, — какое же право имел я делать свой случай исключением из правила, — верить, что за мною следят как следует? Мой арест показал мне, что вместо того, чтобы действительно следить за мною, просто без разбора собирали пустые слухи и верили всяким вздорам, — что у нас не редкость. Таким образом, неуменье наших агентов политической полиции исполнять свою обязанность разрушило первое из двух положений, из которых одно необходимо должно было быть верным, потому что не было никакой возможности для третьего случая, кроме двух единственно возможных, обнимаемых моими предположениями. Таким образом, осуществилось второе из этих предположений: моим арестованием компрометировали правительство. Арестовали — и подумали: «в чем же мы будем обвинять его?» — у нас это часто бывает: сперва сделают, а потом подумают, как разде-
30*
467
латься с тем, что сделали, — обвинений против меня не оказалось, когда вздумали, что ведь нужно же посмотреть, есть ли обвинения против меня. — Что тут было делать? Человек арестован, а обвинений против него нет, ведь это, что называется, казус. Вот над этим казусом думали четыре месяца. Я сидел арестованный, — читал, курил, спал, — потом: читал, переводил, курил и спал, — иногда скучал, а больше даже и не скучал, а покачивал головой и улыбался — а там все думали, думали, — пришли, наконец, к заключению: «скверный казус, обвинений нет как нет, да и только». — Теперь вот месяц думают над этим выводом, — как тут быть, как поправить этот скверный казус, что арестовали человека, против которого нельзя найти никаких обвинений, — я читаю, перевожу, курю, сплю, — а там думают, сколько ни думай, нельзя ничего другого придумать, как только то, что надобно извиниться перед этим человеком, — это бы, пожалуй, еще и не тяжело сделать, — но что если он не примет извинения, а скажет: «У вас против меня нет обвинений, а у меня против вас есть, и очень важное, обвинение: вы компрометировали правительство, и моя обязанность — объяснить правительству, что его интересы требуют, чтобы оно защищало себя от людей его компрометирующих, — ну, что если я скажу такие слова в ответ на извинение? — Согласись, что слышать такие слова неприятно тем, к кому они будут относиться. — Тебе известно, что всякий старается по возможности отдалить неприятность — вот поэтому теперь и медлят моим освобождением. Но это не может длиться много времени. — Правительство спрашивает по временам: ну, что же, какие обвинения найдены против Черн.? — нельзя же долго отмалчиваться от правительства, и надобно будет сказать: «Мы против него не нашли обвинений, а у него есть обвинение против нас». — Вот теперь я и жду, когда правительство добьется этого ответа, — единственного возможного ответа, — от тех, которые должны отвечать правительству за мой напрасный арест.
Вот и вся история. По всей вероятности, развязка ее уже очень недалека. — До свиданья же.
Твой Н. Чернышевский.
А. Ф. СОРОКИНУ
436
Надеясь, что дело его достаточно разъяснено теперь, Чернышевский имеет честь покорнейше просить ваше превосходительство представить с вашим ходатайством на рассмотрение, кому следует, его желания:
1. Чтобы ему немедленно было разрешено видеться с его женою, постоянно.
2. Чтобы комиссия пригласила его для сообщения ему тех сведений о положении его дела, которые могут быть сообщены
468
без всякого нарушения какой-либо следственной тайны, — именно, в какое, приблизительно, время дело Чернышевского может быть окончено производством. Чем оно окончится, этого он не спрашивает; это ему известно; но когда оно кончится, — это он желает знать.
Н. Чернышевский.
22 января 1863 г.
P. S. Если он не получит ответа до четверга вечера (24 ч. января), то он будет знать, что не нашли удобным или нужным обращать внимание на эти его желания. — 22 января 1863.
Н. Чернышевский.
437
А. Ф. СОРОКИНУ
Чернышевский имеет честь покорнейше просить его превосходительство г-на коменданта известить его, получен ли его превосходительством какой-либо ответ на записку Чернышевского от 22-го числа этого месяца. — Вечер 24-го января 1863 Г.
Н. Чернышевский.
438
А. Ф. СОРОКИНУ
Из первых двух строк 4-той страницы письма г-жи Чернышевской от 24 января к ее мужу видно, что г-жа Чернышевская встречала затруднения в получении вида на проживание в Петербурге. Но из того же письма ее от 24 января можно видеть, что жить ей в Петербурге нужно уж и для одного леченья, не говоря о других причинах. Чернышевский просит его пр-во г. коменданта сделать то, что от него зависит, чтобы избавить больную женщину от полицейских — для чести полиции Чернышевский предполагает только — недоразумений.
Н. Чернышевский.
27 января 1863 г.
439
А. Ф. СОРОКИНУ
Так как только через Ваше превосходительство я имею сношения с правительством надежным для меня образом и так как, без сомнения, будет спрошено Ваше мнение о случае, возбуждаемом мною, то я с Вашего согласия, изустно сообщенного мне г. смотрителем, письменно прошу вас прямо сказать мне, изустно или письменно: достаточно ли убеждены Вы в совершенной серьезности и твердости моей воли, которая была изустно объявлена мною вам. По неопытности в различении симптомов страдания, я слишком рано приостановил продолжение начатого мною. Но я держу свой организм в таком состоянии, что результаты, которых
469
я достиг в предыдущие 10 дней, нисколько не пропадают; и если ваше превосходительство еще недостаточно убеждены, я возобновлю свое начатое, без всякой потери времени, с прежним намерением итти, если нужно, до конца. Мне неприятен скандал, но не я причина его; вероятно, и Ваше превосходительство также нисколько не причина его, — по крайней мере, я в том убежден, что Вы — не причина его.
Прошу Вас отвечать мне — этого требует уж и обыкновенная учтивость. Но если Вы не будете отвечать ныне (в среду), это будет для меня значить, что Вы недостаточно убеждены в серьезности моего намерения. В таком случае прилагаемая (запечатанная) записка моя к его светлости г. генерал-губернатору не может иметь успеха, и для меня все равно, как Вы найдете нужным распорядиться ею.
Если же Вы достаточно убеждены в серьезности и твердости моей воли, я прошу Ваше превосходительство помочь мне испытать последнее средство избежать мне от развязки, гибельной для меня и невыгодной для правительства: я прошу Вас передать его светлости г. генерал-губернатору мою записку к нему. Она запечатана, — это требуется деликатностью относительно его светлости. Но копия записки остается у меня, и если Вам нужно или угодно, Вы можете взять у меня копию, которую я в таком случае пришлю Вам также запечатанною, как это письмо, — запечатанною потому, что я желаю избежать всякого скандала.
С истиным уважением имею честь быть Вашего превосходительства покорнейший слуга Н. Чернышевский.
P. S. Понятно, почему я приостанавливаю начатое, когда в последний раз пробую вступить в переговоры, — это для того, чтобы по возможности не иметь ненужного угрожающего вида.
Н. Чернышевский.
P. P. S. Прошу, Ваше превосходительство, не пренебрегайте моею просьбою. Дело нисколько не шуточное. С этой минуты, если еще эта попытка не удастся, я уже не буду тревожить никого ни одним словом.
440
КН. А. А. СУВОРОВУ
7 февраля 1863.
Ваша светлость, Я обращаюсь к Вам, как человеку, в котором соединяются два качества, очень редкие между нашими правительственными лицами: здравый смысл и знание правительственных интересов. Моя судьба имеет некоторую важность для репутации правительства. Она поручена людям (членам следственной комиссии), действия которых показывают — тупость ума
470
или всех их, или большинства их, — говорю прямо, потому что это мое письмо ведь не для печати. Для меня жизненный вопрос, а для репутации правительства не ничтожное дело, чтобы на мою судьбу обратил внимание человек, могущий здраво судить о правительственных интересах, каким я знаю вашу светлость.
Мои желания очень умеренны. Я могу указать средства, которыми правительство может исполнить их с честью для себя, нисколько не принимая вида, что делает мне уступку, — нет, вид будет только тот, что оно узнало ошибку некоторых мелких чиновников и, как скоро узнало, благородно исправило ее.
Это объяснение гораздо удобнее было бы сделать изустно, чем письменно: в разговоре всякие недоумения с той или другой стороны тотчас же могут быть устранены. Потому я прошу вашу светлость навестить меня. Но если Вы не имеете времени исполнить эту просьбу, я прошу у Вас разрешения писать к Вам, но лично к Вам и только к Вам, — потому что, как я сказал, я только в Вас вижу качества, какие нужны государственному человеку для здравого понимания государственных интересов и выгод правительства.
С истинным уважением имею честь быть вашей светлости покорнейшим слугою, Н. Г. Чернышевский.
441
А. Ф. СОРОКИНУ
Ответ Вашего превосходительства передан мне в неясном виде — это обыкновенное неудобство сношений через третье лицо. Я спрашивал Вас: совершенно ли Вы убеждены в твердости моего намерения, — прошу Вас прислать в ответ одно из двух слов: «да» или «нет», не прибавляя к этому одному слову ничего, чтобы опять не вышло путаницы. Итак — «да» или «нет».
Н. Чернышевский.
7 февраля 1863 г.
442
А. Ф. СОРОКИНУ
В этом конверте вложены для отправления к г. А. Пыпину 37 — 72 полулисты рукописи романа «Что делать», начало которого уже находится в руках г. Пыпина, и еще отдельный полулист заметок о том, какие справки прошу я сделать г. Пыпина для проверки собственных имен и чисел, встречающихся в этих местах романа. 12 февраля 1863 г. Н. Чернышевский.
471
443
А. Ф. СОРОКИНУ
Вот неделя проходит после моего свидания с Вами, и мне кажется, что ждать больше — было бы напрасною потерею времени, и что Вам пора принимать против меня меры строгости, о которых Вы говорили.
14 февраля 1863 г., утро.
Н. Чернышевский.
444
А. Ф. СОРОКИНУ
Чернышевский просил бы уведомить его, когда будет назначено новое свидание его жены с ним, и, если это не представляет неудобств, назначить его завтра, в четверг. — Среда, 27 февр. 1863.
Н. Чернышевский.
445
А. Ф. СОРОКИНУ
Чернышевский имеет честь напомнить о той просьбе, которую он выражал в своей записке от 27 февраля. — Марта 4 1863.
Н. Чернышевский.
446
А. Ф. СОРОКИНУ
Ваше превосходительство. Со мною опять начинают шалить. Задерживают письма моей жены; не обращают внимания на мои желания, о которых я знаю, что для исполнения их нет препятствий, даже не отвечают на мои желания, — что уже просто невежливо: наконец, я не вижу исполнения того, что мне было сказано в глаза 23 февраля о нескольких днях.
Сделайте одолжение, Ваше превосходительство, употребите Ваше влияние на то, чтобы убедить других в напрасности и неудобстве этих шуток. Я не знаю, кто это шутит; но, вероятно, лица, говорившие со мною 23 февр., поддержат Ваше мнение, что шутки эти пора прекратить.
Когда мое терпение истощится, я, по своему обещанию, предупрежу Ваше превосходительство. Теперь пока, я думаю, что его еще достанет на несколько времени. Но вернее было бы не испытывать его. Ныне восемь месяцев, как его испытывают, — кажется, этого довольно.
Боже мой, что у нас как все неловко и неуместно шалят над людьми. Пора бросить эту старую привычку, — ею наделано довольно уже много такого, чему вовсе не следовало быть и что, конечно, не приносит пользы правительству.
472
С истинным уважением имею честь быть Вашего превосходительства покорнейшим слугою, Н. Чернышевский.
7 марта 1863.
447
А. Ф. СОРОКИНУ
Я не постигаю, Ваше превосходительство, чего добиваются господа, упорствующие не отвечать мне. Чего они хотят? Прошу их бросить шалить — извольте взглянуть на подчеркнутые мною строки письма моей жены от 8-го марта, — Вы видите, что здоровье бедной женщины расстраивается с каждым днем от каприза каких-то шалунов. Прошу их отвечать мне, чтобы не отвечать перед правительством, которое раньше или позже поймет, какую плохую штуку играют над ним эти шалуны. Что это за мальчишество в людях, которым правительство поручает важные обязанности.
С истинным уважением имею честь быть Вашего превосходительства покорнейшим слугою. Н. Чернышевский.
10 марта [1863.]
P. S. Шутя, по своей обыкновенной догадливости, шалуны опять вздумают задерживать письма моей жены и мои, как столько раз принимались делать, — не советую им делать этого.
448
А. Ф. СОРОКИНУ
[12 марта 1863 г.]
Ваше превосходительство. Будучи очень благодарен Вам за Ваши прежние хлопоты обо мне, я теперь утруждаю Вас новыми, — извините, но что ж делать, когда шалуны доводят до этого?
Я думал написать раньше две записки, которые прошу Вас представить по начальству (не в комиссию, потому что этот бестолковый омут совершенно глуп, и иметь с ним дело значит только терять время, — нет, не в комиссию, которая ведь и не начальство Вам, — а прямо по начальству), но я в эти дни был несколько нездоров; болезнь была ничтожная, конечно, не имевшая влияния на настроение моих мыслей, но все-таки могли бы сказать: он писал это в болезненном раздражении. Я ничего не делаю иначе, как по зрелому расчету, и в особенности никогда ничего важного не делаю без расчета. Потому я отправляю только ныне записки, которые, если бы не было у меня редкого терпения, отправил бы еще в прошлый вторник. Вчера был у меня доктор и сказал, что моя болезнь совершенно прошла. Значит, можно и не говорить о болезненном раздражении.
473
Первая записка, где я говорю о себе в первом лице, имеет только полуофициальную форму; это потому, что иначе она вышла бы длинна. Если Вы найдете, что 6-й пункт ее имеет вид излишней угрозы, я предоставляю Вам право вычеркнуть его: Вам виднее, нужно ли повторять то, что я решительно не хочу оставаться долго и не останусь в настоящем моем положении — здоровье жены погибло бы все равно, а в таком случае мне неприятно было оставаться где бы то ни было, — так или иначе, я буду свободен очень скоро; но если напоминать об этом лишнее, если в этом достаточно убеждены, то, конечно, не к чему грозить лишний раз.
Во всяком случае смею уверить Вас в двух вещах: 1) я не буду ничего особенного делать, не предупредивши Вас, чтобы Вы могли заранее сложить с себя ответственность; 2) я не намерен повторять того, что делал однажды, потому что повторение скучно.
Правила, которые Вы обязаны соблюдать, так дики, что, кажется, нет средства избавить Вас от труда лично навестить меня, чтоб я мог узнать о ходе дела, — извините, что я обременяю Вас этим, но это — единственное средство отклонить недоразумения, конечно, неприятные для Вас, какие, было, произошли однажды. На то, чтобы Вам иметь случай для доклада и получения ответа, я полагаю, достаточно будет, если я подожду три-четыре дня. Но Вы согласитесь, что нужно же знать потом, что намерены делать и следует ли ждать дальше.
Я — человек очень мягкий, всегда любящий извиняться; потому прошу у Вас извинения в том, что обременяю Вас своими просьбами. Я очень ценю Вашу добрую волю и очень рад был бы жить смирно, как жил прежде, не делая Вам хлопот. Но обстоятельства принуждают меня, и потому не будьте в претензии на мою видимую беспокойность, — спросите прислугу, — я точно так же спокоен и отчасти весел, как всегда.
С истинным уважением имею честь быть Вашего превосходительства покорнейшим слугою. Н. Чернышевский.
P. S. Это мое письмо, конечно, уж совершенно неофициальное; оно имеет единственною целью только показать собственно Вам, что Вам я очень благодарен и на Вас нисколько не претендую, а, напротив, отчасти совещусь перед Вами, что надоедаю Вам вещами, которые могут казаться Вам странными, но в самом деле нисколько не странны.
449
А. Ф. СОРОКИНУ
Ваше превосходительство, я хотел писать его светлости длинную записку, но рассудил, что она именно своею длиннотою могла бы затянуть развязку. Потому я предпочитаю просить Вас,
474
при докладе его светлости прилагаемой моей записки к Вам, сообщить изустно его светлости те из сообщавшихся мною Вам моих мыслей, какие понадобятся по ходу Вашего разговора; из них я осмеливаюсь напомнить Вам те, которые, может быть, важнее других, и прибавить еще две-три заметки, которых я не сообщал Вам, потому что еще не виделся с Вами после того, как они сделаны мною 23 февраля.
1) С первого же раза я говорил Вам, что меня арестовали по каким-нибудь пустым сплетням; что тотчас по моем арестовании лица, виновные в нем, убедились, что слишком сильно промахнулись своими сплетнями, и просто боятся сказать правительству, что ввели его в ошибку; что поэтому они длят дело только с тою целью, чтобы самим выпутаться из него, заглушив его длиннотою времени. (Я писал это однажды, с тою целью, чтоб комиссия прочла и увидела, что не смеет потребовать у меня отказа от такого дурного для нее утверждения моего, и чтобы в моем деле остался документ об этом.)
2) Вообще я делал все возможное, чтобы возбудить комиссию вызвать меня для объяснения, для сделания мне замечаний, — с этою целью я несколько раз писал резкие дерзости — это вовсе не в моем характере, но это было нужно, чтобы доказать ей, что она боится или совестится взглянуть мне в лицо. И действительно, она уличила себя в этом. Вы сами были свидетель, что от одного воспоминания о моих резкостях, корчились и теряли хладнокровие, — значит, чувствовали их; а вызвать для требования ответа или для отречения от них, все-таки не посмели ни разу. Комиссия может объяснять такую ангельскую свою терпеливость какими ей угодно причинами, — пренебрежением, снисхождением, но, конечно, никто из людей с здравым смыслом не поверит возможности другого мотива, кроме того, который привожу я.
3) Верность этого моего объяснения терпеливости комиссии к обидам от меня совершенно подтвердилась тем, что я видел во время разговора моего 23 февраля с членами комиссии: я начал говорить, по своей привычке, мягко и шутя, любезно, и лица членов приняли и сохранили во все время разговора выражение, говорившее: «ну, слава богу, как легко мы от него отделываемся», они могут признаваться или не признаваться в этом, как им угодно, — но ведь я был в очках и потому видел выражение их лиц.
4) Я официально заявил в комиссии при первом (и единственном) моем допросе, что по окончании моего дела я подам жалобу на действия комиссии.
5) Прежде чем в эти последние дни я стал писать Вам записки с дерзкими выражениями о комиссии (Вы теперь знаете цель этих резкостей — заставить комиссию уличать себя саму в том, что совестится или трусит видеть меня) — я два раза писал мягкие, формально мирные просьбы о разрешении мне новых свиданий с моею женою.
475
6) Да вообще я всегда начинаю мягко и мирно, желая избежать скандала; только вынуждаемый крайностью, я прибегал к другим средствам; но в этих других средствах я с каждым новым разом шел дальше и дальше. Теперь у меня в запасе остается только одно из этих тяжелых для меня средств, — не то, которое было употреблено мною в конце января и начале февраля, — нет, повторение было бы скучно; — этого последнего моего средства я вовсе не желаю употреблять, — думаю, что мне и не придется употребить его; но Вы согласитесь, что я не стал бы писать так, как пишу, если бы не знал, что я ни от кого не в зависимости, если так понадобится. — Пожалуй, вычеркните эти строки, чтобы не было вида угрозы. Но неужели эти глупцы до сих пор все не поймут, что со мною шутить, — вещь рискованная? (NB. Обыска не стоит производить, — у меня нет ни ядов, ни кинжалов, никаких подобных штук, — я до них вообще не охотник). — Повторяю: я вовсе не угрожаю, — я только говорю, что я действую по расчету; если я горячусь, — я горячусь по расчету; если я терплю, я терплю до рассчитанного срока. Если кому кажется, что я действую по увлечению, то я на это замечу, что все называют меня человеком умным, следовательно, очень может быть, что я поступаю не без некоторого соображения…
7) Если бы стали говорить, что свидания мои с моею женою не допускались в видах соблюдения знаменитой нашей канцелярской тайны (которая у нас вовсе не соблюдается лицами, которыми должна охраняться, — например, за две недели до моего ареста мне сделан был очень ясный намек, — конечно, вовсе не замеченный лицом, делавшим его и думавшим, что дурачит меня, тогда как я издевался над ним, — намек вовсе не произвольный со стороны этого лица, но очень понятный для меня, — что меня хотят арестовать; я пренебрег этим, думая: нет, вы не посмеете так компрометировать правительство, — кто это лицо, вы можете догадаться, я Вам говорил о нем несколько раз как о болтуне), — если бы стали говорить, что моих свиданий с женою не допускали в видах соблюдения канцелярской тайны, — это пустяки: во-1-х, мне не о чем расспрашивать, потому что против меня нет обвинений; во-2-х, у меня нет нужды рассказывать что-нибудь для того, чтобы узнали это в городе, — разбалтывание делается (очень давно) лицами, которые были бы обязаны молчать по долгу службы. Я, например, был довольно приятно изумлен, когда прежде чем успел вымолвить хоть одно слово жене, услышал от нее вопрос: «Зачем тебя держат? Ведь против тебя нет никаких обвинений». — «Да ты почему ж это знаешь?» — спросил я ее. — «Да как же, — ведь это давно всем известно; об этом так давно говорили, что уж и говорить устали». Вот вам канцелярская тайна. Это курам смех.
8) Собственно для меня решительно все равно, сидеть ли в заключении, или в своем кабинете. Но мне необходимо скорое
476
9) освобождение потому, что здоровье моей жены требует этого.
10) В моем деле, кроме общей несправедливости, есть много частностей, очень неблаговидных. Назову две из них: во-1-х, пропажа золотого кольца во время второго обыска, делавшегося без меня. Кольцо лежало в запертой шкатулке; шкатулка стояла в комнате, запечатанной при первом обыске, — какова эта штука? А вот какова эта, во-2-х: моей жене долго не выдавали вида на проживание в Петербурге, чтобы вытеснить ее полицейскими придирками из Петербурга, — а ведь она не только для свиданий со мной приехала, — ей приказали ехать в Петербург медики, — это было необходимо для лечения. Однажды Вы сказали мне, что невыдавание вида ей могло быть следствием ошибки или недоразумения, — нет, у меня есть доказательство противного, доказательство того, что это было делано с умыслом. Таких милых вещей я могу подобрать не один десяток.
11) Вообще, каждое из моих слов я могу подтвердить фактами. Я не так глуп, чтобы говорить в подобной записке что-нибудь, кроме того, что могу доказать.
Само собою разумеется, что Ваше превосходительство, передавая эти мысли и замечания, нисколько не принимаете на себя ручательства за их верность, — я прошу Вас только передать их его светлости, как мои мысли.
С истинным уважением имею честь быть Вашего превосходительства покорнейшим слугою. Н. Чернышевский.
12 марта 1863.
450
А. Ф. СОРОКИНУ
Чернышевский имеет честь покорнейше просить его превосходительство г. коменданта С. П[етер]б. крепости доложить его светлости г. с.-петербургскому генерал-губернатору следующее:
1. Чернышевский приносит его светлости благодарность за то, что имел свидание со своею женою (23 февраля).
2. Перед этим свиданием Чернышевский имел разговор с некоторыми из гг. членов комиссии. Чернышевский говорил им. «Как же это комиссия могла поступать со мною таким образом, каким поступала?» Ему на это отвечали: «С вами поступали жестоко, но не кладите ответственности за то на комиссию; это действовала не она». Чернышевский говорил: «Если вы полагаете, что я когда-нибудь мог верить, что против меня существовали какие-нибудь обвинения, то вы ошибаетесь». — Ему отвечали: «Это такой случай, как против меня (члена комиссии, отвечавшего Чернышевскому) могли бы быть подозрения в убийстве» (Чернышевский уверен, что действительно против лица, говорившего с ним, могли бы быть только вздорные подозрения в убийстве, из
477
которых никак не могло бы произойти никакого обвинения, — ведь от подозрения до обвинения, по законам о следственном производстве, очень далеко, и от обвинения до ареста — тоже очень далеко: чтобы арестовать, нужно бы, по закону, хорошенько рассмотреть солидность обвинения; а чтобы составилось обвинение, нужно бы, по закону, рассмотреть основательность подозрений). Чернышевский говорил: «Да когда ж это кончится? Когда Вы освободите меня?» Ему отвечали: «Через несколько дней». — Вообще, весь характер разговора (дружелюбного и веселого, по привычке Чернышевского до последней крайности выдерживать такой тон и заставлять других понимать его) был таков, что Чернышевский винил и укорял, а перед ним извинялись и слагали с себя ответственность на других.
3. Если бы кто-нибудь, — по здравому смыслу, этого нельзя ждать, но с Чернышевским сделано довольно много такого, чего нельзя было ждать по здравому смыслу, — если бы кто-нибудь осмелился сказать, что Чернышевский не с совершенною точностью передает или хотя одно из приводимых им слов разговора*, или общий характер разговора, то Чернышевский бросает в лицо такому человеку название лжеца и требует очной ставки с ним, чтобы доказать, что справедливо клеймит его таким названием.
4. После этого Чернышевский, кажется, имеет право сказать, что то лицо (или те лица), которое внушило (или которые внушили) или его величеству, или его светлости сомнение в совершенной справедливости просьбы Чернышевского о его освобождении по недостатку обвинений против него, выраженной в письмах Чернышевского к его величеству и к его светлости от 20 — 22 ноября прошлого года, — что это лицо виновно (или эти лица виновны) перед правительством, которое они ложными своими уверениями ввели в напрасное продление напрасной несправедливости. 12 марта 1863 года. Н. Чернышевский.
451
А. Ф. СОРОКИНУ
Те выражения, на которые комиссия выражает свое неудовольствие, употреблены были мною не по какому-нибудь желанию выражаться грубо, — этой наклонности нет в моем характере; но это было нужно, чтобы доказать, что я слишком твердо знаю свою правоту и что я очень хорошо понимаю отношения, которые, по вине неизвестных мне лиц, имеют такое тяжелое влияние на мою судьбу и — я имею право просить внимания к этим следующим моим словам — вводят правительство в продление напрасной несправедливости. — Что касается до решения комиссии сделать мне строгий выговор, то, не имея под руками свода законов, я не могу знать, имеет ли она это право, — если имеет, то я не имею против этого ничего сказать, кроме того, что одними выговорами
не должно ограничиваться, а следует вникать в сущность дела и удовлетворять справедливым требованиям. — Что касается до угрозы воспретить мне вообще переписку, то мне кажется, что в письмах моих жене и г. А. Пыпину (моему родственнику) очень давно не было ничего, дающего основание для такой угрозы, — я в этих письмах не выражал ровно никаких чувств или мнений, оскорбительных для комиссии, и, кажется, можно из этого видеть, что я хорошо понимаю разницу между официальными записками, в которых высказываюсь прямо и вполне, и моею частною перепискою, в которой я соблюдаю канцелярскую тайну. Но важнее всех этих моих замечаний, имеющих только формальное — не интересующее меня — значение, будет следующее мое желание: пусть же, наконец, сделают по моему делу то, что обязаны сделать по закону и по совести, — пусть же, наконец, прекратят несправедливость, тяжелую для меня, не приносящую ничего полезного правительству, — пусть вспомнят, что я испытывал все пути для этого: пять месяцев терпел молча, потом просил (в письмах 20 — 22 ноября), наконец, вот уже три месяца действовал возбуждением самолюбия, обидчивости, — и все было до сих пор напрасно. Неужели же в самом деле никак и ничем не может добиться у нас человек, чтобы ему оказана была справедливость? Отставной титул, советник Н. Чернышевский.
13 марта 1863 г.
P. S. Может, для формы нужно прибавить и потому прибавляю: это отношение за № 61-м читал. отстав. титул. совет.
Н. Чернышевский.
452
ЗАМЕТКА ДЛЯ А. Н. ПЫПИНА И Н. А. НЕКРАСОВА
Если бы у меня был талант, мне не было бы надобности прибегать к таким эффектцам в стиле Александра Дюма-отца, автора «Монте-Кристо», как пришивка начала второй части романа к хвосту первой. Но при бесталанности это дозволительно и пользительно. — Вторую часть я начну писать нескоро, — в ней новые лица, на градус или на два повыше, чем в первой; потому надобно дать пройти несколько времени, чтобы Вера Павловна с компаниею несколько сгладилась в памяти, чтобы новые лица не сбивались на старые, — например, дама в трауре на Веру Павловну. — Итак, вторая часть будет готова к печати осенью или зимою, — следовательно, пройдет правдоподобный срок со времени пикника, с которого начинается действие второй части; оно идет очень быстро, всего с месяц. Общий план второй части таков: дама в трауре — та самая вдова, которая была спасена Рахметовым в третьей главе. Она, видите ли, убивается из-за любви к нему. И сей герой взаимно. Кирсановы и Бьюмонты, открыв таковую нежную страсть, лезут из кожи вон помочь делу. И отыски-
479
вают оного Рахметова, уже прозябающего в Северной Пальмире. С разными взаимными отыскиваниями обоих сих любящихся свадьба устраивается. — Из этого видно, что действие второй части совершенно отдельно от первой и что первой части только искусственно придан вид недоконченности прибавкою пикника. — Но я очень дорожу этою прибавкою и шестою главою, как беллетристическою хитростью.
Общая идея второй части: показать связь обыкновенной жизни с чертами, которые ослепляют эффектом неопытный взляд, — изложить истину, что у Наполеона или Лейбница тоже как и у всех людей были две руки, две ноги, нос, два уха, а не то что уж пять голов, как у Брамы, или сто рук, как у Шивы. — У меня так и подделано: и Рахметов, и дама в трауре на первый раз являются очень титаническими существами; а потом будут выступать и брать верх простые человеческие черты, и в результате они оба окажутся даже людьми мирного свойства и будут откровенно улыбаться над своими экзальтациями.
4 апреля 1863.
Н. Чернышевский.
453
А. Ф. СОРОКИНУ
Чернышевский желал бы знать:
1) в каком положении находится его дело: кончено ли следствие, или еще нет, — и
2) может ли он иметь на-днях свидание с своею женою.
11 апреля 1863.
Н. Чернышевский.
454
А. Ф. СОРОКИНУ
Ваше превосходительство, я много раз говорил Вам в своих откровенных объяснениях, что все неприятности, от которых я страдаю, возникают из каких-то недоразумений. Третьего дня также произошло недоразумение: я слишком поздно получил от моей жены письмо, говорившее, что она на другой день уезжает. Я сказал Вам вчера, что я из этого вывел: то, что и я, и г. председатель комиссии (давший мне обещание дозволить свидание мне с моею женою) — мы оба обмануты. Теперь я вижу, что ныне моя жена еще не уехала, — прошу Вас, убедите, что я не добиваюсь ничего чрезмерного, — например, в настоящем случае я только прошу, во-первых, чтоб мое письмо к моей жене от нынешнего числа, — не содержащее в себе ровно ничего подозрительного, — было отправлено к моей жене поскорее, без проволочек, ныне же, чтобы успело застать еще в Петербурге, а во-вторых, чтобы ее ответ мне на это письмо также был доставлен без проволочки; наконец, чтобы сказали нам, когда мы можем ожи-
480
дать назначения свидания, в котором ведь вовсе и не хотят нам отказывать, — не завтра, не после завтра, ну через три, четыре дня, или как будет можно, — только к чему же вводить в недоумение женщину, когда вовсе не хотел г. председатель комиссии обещать напрасно, — конечно, он хочет разрешить свиданье, — я только и прошу, чтобы сказали моей жене, когда это будет; тогда она и будет ждать спокойно. А ведь я только этого и добиваюсь в настоящем случае.
С истинным уважением имею честь быть вашего превосходительства покорнейшим слугою. Н. Чернышевский. 24 апреля.
455
Е. Н. ПЫПИНОЙ
15 мая, утро [1863.]
Милая Евгеньичка, вчера я получил письма твое и Сашеньки. Очень благодарен за них. Поздравляю Сережу с законным его браком, — но ведь мое поздравление уже не застанет его в Петербурге, — поэтому, как ты можешь видеть, я пишу несколько слов и на другом полулисте, назначенном для отправления в Саратов. На этих полулистах не бывает никаких секретов от вас, разумеется.
О себе ты ничего не пишешь, «потому что не хочется говорить» тебе о себе. Понятно. Но вот что: подумай серьезно о следующем моем мнении. Конечно, я довольно мало знаю тебя, — по разным причинам, из которых самая главная: непомерная любовь к пребыванию в лежачем положении с книгою в руках, — я держался всегда далеко от всех в семье, будто чужой. Ты вспомни, например, что когда мы жили вместе, я во все время ни одного раза не входил в комнату Сашеньки, чтобы посидеть с ним хотя пять минут, — и а вашу с Полинькою точно так же, — итак, я знаю тебя, конечно, меньше, нежели вообще родные знают друг друга. Но все-таки несколько могу судить. Мне всегда казалось, — да и вся наша семья находила, — что ты обнаруживала очень замечательную даровитость. Попробуй применить ее к литературе. Очень правдоподобно, что это удастся. А если удастся, то в таком случае ничего другого и не нужно: тогда, имея независимость, ты можешь устраивать твою жизнь как сама хочешь. Попробуй написать повесть. Не шутя, я полагаю, что она выйдет недурна. Ведь ты очень много думала о жизни и людях, — а это главное; если это есть, то уж и довольно. Талант — вещь такая, которая дает всякому двойную цену, — но только; есть он у тебя или нет, это будет видно; но и теперь можно с уверенностью полагать, что у тебя есть качества, которые достаточны для литературной карьеры, хотя б и не оказалось у тебя особенного художественного таланта. Если он окажется, тем лучше, но только. Напиши, что ты думаешь. А я серьезно советую. Легче всего, вероятно, чисто субъективные по-
31 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
481
вести, — то есть переносить себя в разные положения и рассказывать то, о чем мечтал в хорошую или дурную сторону, олицетворяя эти свои мечты в человеке, который под другим именем и совершенно в ином положении — все тот же автор. Это постоянно у Лермонтова, у Тургенева, у Гончарова. Это очень легко. Тут степень достоинства рассказа всего больше зависит от того, какое значение имеют мечты, любимые мысли автора.
Но я указываю на этот род только для примера. Попробуй что-нибудь, все равно.
Целую тебя, твой Н. Ч.
Целую тебя, милый Сашенька.
Благодарю за твое письмо.
Целую Вас, Юлия Петровна.
456
Е. Н. ПЫПИНОЙ
3 июня 1863. Утро.
Милая Евгеньичка, я предлагал тебе попробовать литературную дорогу к независимости в жизни, не зная еще, что ты вздумала выбрать другую — занятие медициною. Сашенька мимоходом упомянул, что ты посещаешь лекции в Медицинской академии. Если это серьезно, то лучшего ничего и не нужно, — только пусть же будет серьезно, чтобы получить диплом на звание медика и заняться медицинскою практикою — играть в посещение лекций не стоит: они вообще не так умны и интересны, чтобы годились для развлечения. Итак, если ты наверное хочешь быть медиком, то нет надобности тебе становиться литератором.
Если же ты не думаешь совершенно серьезно о медицинской карьере, то испытай литературную. Ты говоришь, что очень горда, и не хотела бы печатать вещей, которыми сама не была бы довольна. Это не возражение. Я тоже очень горд; из того, что я писал и печатал, нет ни одной страницы, которою я не пренебрегал бы, — и, однако ж, я напечатал и буду печатать груды. У кого есть состояние, может делать только то, что ему нравится; у кого нет состояния, печатает не для славы, а по житейской надобности, работает не из удовольствия, а из необходимости. Это не унижает. Если я печатаю неудовлетворительные для меня вещи из литературной суетности, как Тургенев, это глупо и смешно (впрочем, ведь он и не понимает, что печатает дрянь, — кто имеет мысль, что его произведения плохи, тот уже не пишет слишком плохо). Но когда я печатаю по надобности, я не честолюбец, не суетный искатель похвал, а просто работник, и смешного во мне нет ничего. Было время, я — я, не умеющий отличить кисею от барежа, — писал статьи о модах в журнале «Мода» — и не стыжусь этого. Так было нужно, иначе мне нечего было бы есть. Вот как надобно
482
смотреть на свои произведения, и с этим взглядом можно пытаться, не удастся ли иметь от них кусок своего хлеба, который очень вкусен. — Попробуй. Если напишется что-нибудь прежде, чем устроятся мои отношения к белому свету, то пришлешь мне сюда написанное тобою, — это не затруднит, я полагаю. — Но я не спорю: медицина лучше литературы. Целую тебя.
Твой Н. Ч.
457
А. Ф. СОРОКИНУ
Ближайшие мои родственники в Петербурге: Александр Николаевич и Евгения Николаевна Пыпины, и я имел в мысли их, когда просил у правительствующего сената разрешения видеться с моими родственниками. Их адрес: у Владимирской, в Свечном переулке, дом Тулякова, квартира № 43.
9 июня 1863. Отст. тит. советн. Н. Чернышевский.
458
А. Ф. СОРОКИНУ
Отставной титулярный советник Чернышевский имеет честь покорнейше просить его превосходительство господина коменданта СПБургской крепости ходатайствовать о том, чтобы разрешено было Чернышевскому иметь свидания с его женою, которая, как видно из ее писем, скоро приедет в Петербург. По разрешении ему иметь свидания с его находящимися в Петербурге родными Чернышевский, конечно, предполагает, что не представится сомнений в допущении его свиданий с женою; но он просил бы предварительно разрешить это, чтобы не было для его жены неизвестности на несколько дней по ее приезде. Отст. тит. советн. Н. Чернышевский. 16 июня 1863.
459
ПЫПИНЫМ
[Июнь 1863.]
Вас, мои милые друзья, Сашенька, Юлинька и все, целую надлежащим манером и прошу переслать письмо к Олиньке. Пока, вероятно, очень довольно и этого, тем больше, что письмо пора отправлять.
Итак, Евгеньичка и Сашенька, до свиданья, и пребываю в полном почтении к Вам, дорогие брат и сестры.
Ваш Н. Ч.
31*
483
460
А. Н. и Е. Н. ПЫПИНЫМ
30 июня. Утро. [1863.]
Милый Сашенька, я получил романы Диккенса, конечно, посланные тобою, и сигарки. Само собою, что благодарю. Вот еще новая просьба. Но я полагаю, что лучше тебя исполнит ее Евгеньичка. В качестве нежного отца, я все откладывал да откладывал взять метрическое свидетельство для Сашурки, а теперь парень хочет поступать в гимназию, и для это[го] нужно метрическое свидетельство. Этот ученый юноша родился в марте 1854 года, когда я служил во 2-м кадетском корпусе, — поэтому полагаю, что с просьбою о выдаче свидетельства надобно обратиться к обер-священнику, — по военному ведомству, — а не в консисторию. Полагая, что это и для тебя, как для меня, вопрос не по силам собственного ума, думаю, что лучше всего просить Ивана Григорьевича (которому, конечно, кланяюсь при этом случае) разъяснить его: у него и в Синоде и везде по этим частям знакомые. Так, пожалуйста, Евгеньичка (уж теперь беседую с тобой), повидайся с Иваном Григорьевичем и попроси его соорудить для меня черновую просьбу с надписанием титула консистории или обер-священника или кого другого нужно, и пришли эту махинацию мне, а я ее перепишу и попрошу здесь, чтобы отправили, куда там она будет следовать. А то Олинька пишет, парень горит любовью к науке, а удостоверения в своей индивидуальности для впуска в храм науки (это саратовская-то гимназия, возвышенный слог) не имеет и о том проливает слезы. Отрите слезы достойного юноши, Евгеньичка с Иваном Григорьичем.
До свидания, мои милые Юлинька и вы остальные. Целую Вас.
Ваш Н. Ч.
P. S. Олинька пишет, что все они здоровы.
461
А. Н. ПЫПИНУ
[Начало августа 1863.]
Милые Сашенька и братья и сестры его (а кстати уж и мои), — целую вас, и покуда, вероятно, довольно с вас этого удовольствия. Не шутя, пропустил время писать, торопившись кончить вторую главу повести, которая и смешна, мне кажется, и невинна в цензурном отношении, — вероятно, пройдет через цензуру легко, — потому что все болтовня, только для потехи читателя, — но действительно уморительные сцены, над которыми я хохочу, когда пишу их, — так что это видно: рука прыгала, как у старухи, — от смеха, — такие вещи уж, конечно, невинны в цензурном отношении.
484
Я хохочу этому, потому что это, конечно, и хорошо, чтоб получить за повесть деньги: легче пропустит цензура и публика будет довольнее, стало быть, и денег больше.
Вот как перемешивается смех с делом и в жизни, не то что в повестях.
(Каково философствую.)
Ну, пора отдавать письмо. Целую Вас всех.
462
Е. Н. ПЫПИНОЙ
9 авг[уста]. Утро [1863.]
Милая Евгеньичка,
Я получил твое письмо. Благодарю Тебя за него и целую Вас всех. Жаль, что Сашенька был нездоров; но надеюсь, что он уже здоров. — Я тоже здоров и упоминаю о касторовом масле вчерашнем (в письме Олиньке) только для очищения души от греха утайки, хотя не стоило бы говорить.
Я начал делать извлечение из Кинглека, — начал по такой солидной методе, что почти ничего не цензурного не выйдет, — кроме разве главы о Наполеоне III, — которая если б и не прошла, то бог с нею.
Целую вас всех, мои милые. Будьте здоровы, как я.
Целую вас, Н. Ч.
Прилагаю письмо к Терезе Карловне Гринвальд, моей доброй знакомой и хорошей, доброй (хотя, по секрету сказать, и некрасивой лицом) девушке, а может быть, и даме, — но едва ли. Она, кажется, была у Сашеньки. Она прислала мне письмо, но не отмечая по недосмотру своего адреса, так я не знаю, куда ей адресовать письмо, — пожалуйста, передайте ей, — Сашенька, вероятно, знает. В письме нет ничего секретного; она хочет мне сообщить какие-то, вероятно, свои личные дела и просить совета. Если бы просить Вас, то я бы попросил Вас лучше потолковать с нею самим, кому-нибудь, все равно. Если она хочет говорить, то Сашенька и она сама знают, что им обоим столь же известны ее отношения ко мне, как и к Н. А. Добролюбову (извини, что тебе пишу, но, вероятно, и ты знаешь — потому что трудно же не догадаться, да и кроме шуток, она честная девушка, — по крайней мере была 3 года назад, когда я видывал ее хозяйкой у Николая Александровича Добролюбова; он хотел жениться на ней, в первый или второй год знакомства; я его отклонял; она этого не знает, — вероятно, ничего. Перед его отъездом они разошлись ладно, мирно и умно: она уехала в Дерпт учиться акушерству, — теперь выучилась, может быть; виноват, что пишу тебе об этом, Евгеньичка; но, по совести, не думаю, что делаю дурно: может быть, ей будет легче говорить с тобою, чем с Сашенькою, — которого она, вероятно, очень редко
485
видывала у Добролюбова. Он (Добролюбов) отзывался мне о ней так: она слишком простодушна; ее могут обирать всякие плутовки, и несколько раз выманивали у ней деньги. Очень возможно и вероятно, что дело в этом. Ее история (кстати) романична: до 12 лет она хорошо воспитывалась, изобильно жило ее семейство, потом стало. Расспрашивать ее об этом не годится — это больно ей: родные мерзко поступали с ней, — очень, очень. Это я знаю не по ее только рассказам, а также и от Добролюбова, который мне никогда не лгал.
Говорить о Добролюбове с нею, конечно, можно.
Целую, Н. Ч.
Если бы просить вас, то я бы попросил вас лучше потолковать с нею самим, кому-нибудь, все равно.
463
Е. Н. ПЫПИНОЙ
26 августа, утро [1863.]
Милая Евгеньичка,
Я утруждаю тебя своими просьбами о Терезе Карловне Гринвальд. Но что ж делать. Ты уж извини меня. Вот я получил от нее это письмо. Она пишет о разных местах и разных сотнях рублей, — по понятию, какое я составил о ней, когда лично знал ее, все это очень может быть не больше, как обманом каких-нибудь плутов или плутовок, водящих ее разными пустыми обещаниями и выманивающих у нее деньги. Она честная и добрая девушка, но очень простодушна, хоть, сколько мне казалось, вовсе не глупа, только слишком доверчива. Очень может быть, что и какая-то тетушка, о которой она говорит, такая же тетка ей, как я дядя ей. Я написал ей, чтобы она посоветовалась с тобою. Если она сделает это, ты спроси у ней мое письмо к ней, — оно довольно длинно, переписывать здесь его мне не хочется, — скучно, да и некогда; а сама она может не совсем понять смысл моих советов ей. Посмотри, годятся ли они на что-нибудь. Секретов от тебя в этом письме моем к ней, разумеется, нет, — так ты и потребуй его у нее. И принимай с строгою критикою ее собственные надежды.
Будь здорова. Целую всех вас. Завтра или после завтра буду писать собственно уж вам о себе, а не то, что это рассуждение о Терезе Карловне. Впрочем, о себе-то самом пока и нечего писать мне, кроме того, что здоров, чего и Вам желаю.
Целую Вас всех.
Ваш Н. Ч.
486
464
Е. Н. и А. Н. ПЫПИНЫМ
4 сент. [1863.] Утро.
Милая Евгеньичка,
Я получил письмо, с которым ты прислала деньги. Благодарю за него.
Я получил от Олиньки письмо от 25 августа. Она хотела выехать в Петербург 1 сентября. Но деньги, посланные вами, не успеют прийти к этому числу. Не знаю, найдется ли у ней довольно денег и без них, чтобы выехать, или ей надобно будет ждать их.
Но вот что главное. В запасе для нее остается уже маловато денег. Покажи это мое письма Некрасову, Сашенька.
Я очень серьезно прошу, чтобы сколько бы ей ни вздумалось брать денег вперед, выдавали немедленно прямо через тебя, Сашенька, мимо Ипполита Панаева. В долгу по этому счету (как сотрудник, оставляя до времени прежние счеты по редакторству в стороне) я не останусь, хотя бы в эти два-три месяца Олиньке было выдано вперед тысячи три; она, конечно, потребует несравненно меньше. Но если бы взяла и столько, то все равно, пусть выдают без ужимок. В долгу я не останусь. Я писал тебе подробно о форме своего нового романа, чтобы ты и Некрасов могли видеть это по объему и составу. Не знаю, дошло ли до вас это письмо. Форма романа — форма 1001 ночи. Это сборник множества повестей, из которых каждая читается и понятна отдельно, все связаны общей идеею. Общая идея серьезна. Отдельные повести почти все веселы. Объем очень большой — листов 40 (печатных), я полагаю. Каждые 4, 5 листов — особая часть, особое целое. У вас, вероятно, уже получена 1-ая глава «Алферьева» — не судите по ней о характере романа. Отдельно она экзальтирована; в романе (где составляет начало второй части) получает юмористический характер. В этой повести Алферьев изображается в том виде, каким кажется пошловатой части публики — мнимый я, рассказчик этой повести; он (рассказчик) потом принужден сознаться, что глупо понимал лицо Алферьева и все связанные с ним характеры и факты. Настоящий рассказ об Алферьеве, — (писанный уже самим Алферьевым) будет прост и чужд экзальтации.
Торговаться за роман я не буду. Когда будет печататься, тогда, судя по впечатлению романа на публику и по числу подписчиков, Некрасов сам увидит, сколько можно дать. Я в этом полагаюсь на него. Но пусть же деньги Олиньке выдаются вперед немедленно, — серьезно прошу об этом.
Начну присылать роман, как только ты напишешь, что он нужен. Начало у меня готово. Я не посылаю раньше, чем нужно для печати, потому, что стараюсь обработать добросовестно.
487
Видишь ли, мне стало казаться, что у меня есть некоторый, — очень второстепенный, вроде, положим, самого мелкого романиста из собственно романистов — беллетристический талант. Этого мне уже было бы довольно, чтобы писать вещи хорошие. Первый роман не показывает нисколько беллетристического таланта, по-моему. Из этого следует, что второй, на мои глаза, много лучше. Объем велик, очень велик. Пусть же не думают, что я останусь в долгу.
Посылаю завтра перевод (или извлечение) Кинглека с моими очень большими пополнениями, — листов на 8, на 9 печатных. Но это не деньги. Деньги — роман. Пусть дают без ужимок Ипполита Панаева; если еще не прогнали его, то пусть хоть от этого дела отсторонят. Он имеет свойство бесить меня. Это моя слабость, — но прошу делать, как я говорю. В долгу не останусь.
Пришли мне полсотни крепких сигар прежнего сорта, то есть ценою рублей 8 сотня.
Пришли следующие книги:
Bleak House Диккенса. — La comtesse de Rudolstadt, Жоржа Занда. — Гоголя. — Фета. — Тютчева (если можно достать). — Кольцова. — Лермонтова.
Целую вас всех, мои милые.
Сам я здоров. Нового пока нет. Вообще я доволен.
Ваш Н. Ч.
465
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
[6 сентября 1863 г.]
Саратов. У Сергия свой дом. Чернышевской.
Деньги посланы не огорчайся ничем утешу тебя будь спокойна весела телеграфируй ответ
Чернышевский
466
А. Н. ПЫПИНУ
[Май 1864.]
Эти книги, против которых проведена черта, перешли мне при случае, милый Сашенька; остальные не нужны.
![]() Список
книг, находящихся у Н. Чернышевского
Список
книг, находящихся у Н. Чернышевского
1. Bleak House 4 тома
2. Little Dorrit, 4 тома
3. Hunted down by Dickens
4. Creat expectations. 2 тома
5. A Tale of two cities, 2 тома
6. Master Humphrey’s Clock, 3 тома
7. Sentimental Journey
8. Tristram Shandy
9.
![]() Veast
Veast
10. Za comtesse de Rudolstadt, 2 тома
11. Riccinino, 2 тома par G. Sand
12. La dernière Aldini
488
13. Diderot, два тома
— 14 J. J. Rousseau, восемь томов
15. Confessions, de J. J. Rousseau
(16. Bibliothèque des Mémoires, томы 1-й, 2-й, 3-й, отдано
для передачи А. Н. Пыпину)
17. History of England, by Macaulay, 10 томов
18. The Invasion of the Crimea, by Kinglake, 4 тома
19. Einleitung, vor Gervinus
20. Geschichte del englishen Literatur
— 21. Deutsche Culturgeschichte
— 22. Vogt, Vorlesungen über die Stellung des Menschen, 3 выпуска
23. Фохт, Физиологические письма, два выпуска
— 24. Дарвин, О происхождении видов
— 25. Гексли, О человеке
26. Лайелль, О человеке, один выпуск
27. Сочинение Гоголя, 4 тома
28. Сочинение Лермонтова, 2 тома
29. Стихотворения Кольцова
30. Стихотворения Тютчева
31. Стихотворения Фета, 2 тома
32. Песни Беранже
33.
![]() Генрих Гейне.
Генрих Гейне.
34. Бурсацкие типы, 4 отрывка
35. Мещанское счастье Помяловского (листы, вырванные из журналов)
36. Молотов
37. Современник 1863 года № 1-й
38. Месяцеслов на 1864 год
39. Horatius (изорванная книга)
40. Ovidius три тома
41. Louis Reybaud, Le Coton
42. Стихотворения Некрасова
43. Die Identität v. Löwenhardt
44. Christmas Stories, by Dickens
45. The Life of Charlotte Brontë, 2 тома
46. Westward, Но! 2 тома
47. Professor by Carrer Bell
48. Vincenzo, by Ruffini, 2 тома
467
А. Ф. СОРОКИНУ
[Май 1864 г.]
Черновые бумаги, в трех конвертах: в первом, полулисты 1 — 100-й, во втором 101 — 200-й, в третьем 201 — 279; двести семьдесят девять полулистов. Некоторые из этих бумаг имеют денежную цену; ее имеют все следующие бумаги, вложенные в бумажный мешок:
1. Отрывок из романа «Повести в повести»: А) Отрывок., отмеченный надписью «продолжение повести Алферьев», нумерованный цифрами от 19 до 36, осьмнадцать полулистов; В) начало второй части, полулисты 1 — 53, пятьдесят три полулиста.
2. Сокращенный перевод второй части «Confessions» Руссо, тридцать полулистов.
3. Мелкие рассказы, тридцать два полулиста.
489
4.
4. Начало ученого сочинения, с надписью «Заметки о состоянии наук», шестьдесят семь полулистов.
5. Выписка из сочинений Руссо, с надписью «Заметки для биографии Руссо», сорок шесть полулистов, и продолжение этих выписок, не вложенное в мешок.
Н. Чернышевский.
Эти бумаги, точно так же, как и книги, список которых занимает другой полулист этого листа, прошу передать г-ну А. Н. Пыпину или тому лицу, которому он поручит взять их.
Н. Чернышевский
468
А. Н. ПЫПИНУ
5 июня, 6 часов вечера [1864.]
Милый мой друг Сашенька,
Сейчас мы приехали в Тобольск, подобр-поздорову, и я пишу на первом попавшемся листе бумаги. Передай это известие Олиньке; я целую ее. Мои провожатые были очень внимательны и услужливы ко мне. Когда будешь у Суворова, скажи ему это: я очень доволен ими. Когда они будут у тебя, дай им рублей двадцать пять. Целую всех вас, мои милые.
Ваш Н. Ч.
469
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Кадая, 19 апреля 1865.
Милый дружочек Олинька,
16-го апреля я получил три твои письма: от 28 января, от 13 и от 20 февраля. Благодарю тебя за них; благодарю еще больше за то, что ты стараешься, по возможности, не скучать и развлекаться, — пожалуйста, милый друг, делай так, потому что ни у кого здоровье не связано так тесно, как у тебя, с хорошим расположением духа: когда ты не хандришь, ты всегда здорова. Благодарю тебя за твой портрет, который Ты прислала: он не вполне похож, потому что и вообще твои фотографические портреты не могут выходить удачны: игра твоего выражения в лице неуловима для фотографии. Но, не будучи удовлетворителен, этот присланный тобою портрет все-таки не совсем плох. Напоминаю тебе, моя радость, мою старинную просьбу: не поскучай снять с себя хороший портрет масляными красками, поручив сделать его хорошему художнику, пожалуйста, исполни это.
Что сказать тебе, моя милая голубочка, о твоем намерении ехать сюда? Подумай, подумай, как велика дорога, как она утомительна; ты знаешь, я всегда принимаю за наилучшее решение — то, на котором ты остановишься; но умоляю тебя, подумай о дальности, об утомительности пути.
490
Я не писал тебе довольно долго только потому, что не было случая писать; и следующего письма не жди от меня раньше трех месяцев. Предупреждаю тебя об этом для того, чтобы ты не тревожилась: вообще ты не должна беспокоиться за меня, — будь сама здорова и весела, думай только об этом.
Целую детей. Крепко обнимаю тебя, моя милая радость. Будь же здорова.
Твой Н. Чернышевский.
470
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
1. июля, 1866. Кадая.
Милый мой друг Олинька,
Мое здоровье попрежнему хорошо; и вообще живу я попрежнему. Желаю тебе, моя радость, быть здоровой. Целую тебя и
Твой Н. Чернышевский.
471
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
2 октября, 1866.
Милый мой друг Олинька,
Благодарю тебя, моя радость, за то, что ты приезжала повидаться со мной. Теперь я спокоен за твое здоровье, которым дорожу больше всего на свете. Благодарю, благодарю тебя, моя милая голубочка.
Мое здоровье остается совершенно таким же, как ты видела. В Кадае произошла небольшая перемена, прямым образом не относившаяся ко мне, но изменившая мою обстановку в выгодную для меня сторону. — Помещение солдат в Кадае было очень тесно, ревизор из Иркутска, осматривавший их казармы, хлопотал о том, чтобы как-нибудь найти еще здание для размещения их. Было решено отдать под казарму весь домик, в котором жил я. Но куда же деваться мне? — На мое счастье, опростались две комнатки в Александровском Заводе, и в конце сентября я перебрался в них. Дорога была хорошая, погода ясная. Из Дона на следующую станцию вез меня тот самый ямщик, который вез тебя. Я заплатил ему прогоны, которые оставались не заплачены тобою: я помнил, что ты говорила, что ты перестала сердиться на него за порчу твоего тарантаса.
Комнатки, в которых я живу теперь, чище и уютнее тех, которые занимал я в Кадае. А главное стены и рамы гораздо лучше, не пропускают мороза. По правде говоря, мой ревматизм довольно сильно чувствовал во время здешних зимних бурь плоховатость стен кадаинского моего домика. Но здешние комнаты хороши.
Приятно мне и то, что теперь буду получать письма от тебя несколькими днями раньше.
491
Будь здоровенькая и веселенькая, моя милая радость.
Целую детишек.
Будь же здоровенькая и веселенькая; обнимаю тебя, моя милая голубочка, крепко обнимаю.
Твой Н. Чернышевский.
472
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
1 января 1867.
Милая моя Олинька,
Твое письмо от 31 октября было мне подарком от тебя на Новый год. Благодарю тебя. Хорошо, что твое здоровье поправляется; но я понимаю, моя милая радость, оно было слабо, когда ты так жалуешься на него: я знаю, что ты не любишь лечиться или охать без причины. Заботься о нем, пожалуйста. И зачем же ты такая грустная? — Ищи развлечений, принуждай себя искать их.
Я живу попрежнему, как описывал тебе в прошлом письме, — почти так же, как ты видела мой образ жизни; но несколько удобнее и более по моему вкусу. Здоровье мое остается удовлетворительно. Ты слишком тревожишься за него. Будь спокойнее в мыслях о нем.
Заботься о своем здоровье, умоляю тебя.
Целую Мишу. Он хороший мальчик, это очень обрадовало меня. Саше пишу.
Напиши свой адрес, чтобы мои письма шли скорее к тебе.
Будь здоровенькая и веселая. Крепко обнимаю и обнимаю тебя, моя милая радость, будь здоровенькая.
Твой Н. Чернышевский.
473
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
31 марта 1867. Александровский Завод.
Милый друг,
Я получил твое письмо от 21 декабря. Нечего говорить о том, перечувствовал ли я страдания, которые были перенесены тобою: ты знаешь, что с тех пор, как мы встретились с тобою, я живу только тобою. Надеюсь, что теперь твое здоровье восстановилось. От природы оно очень сильно. Думаю, что ты уже нашла силу и снова стать выше огорчений, которые присоединялись к твоей болезни. Я знаю, ты не можешь надолго оставаться унылой. Будь же такою, какой всегда была: твердою и, по возможности, веселою. Прошу тебя, всегда больше думай о своем здоровье.
Моя жизнь в Александровском Заводе сначала была почти совершенно сходна с тем, что ты видела, когда была в гостях у меня в Кадае. Ты не верила прежде, что моя материальная обста-
492
новка там такова, как я описывал тебе; но, взглянувши на нее, убедилась, что все было точно так, как я писал тебе. Потому теперь ты должна верить, что и теперь я не думаю обманывать тебя. Сначала я жил здесь почти так же, как ты видела меня в Кадае. Но после, понемногу, становилось возможным жить более и более удобно; и теперь мне здесь уже несравненно лучше, нежели было в Кадае. Даю тебе честное слово, это так. Ты знаешь, я не охотник употреблять это выражение «даю честное слово», и, конечно, ты убеждена, что я никогда не произносил его для обмана. Поверь, что и написать его для обмана я также неспособен. Да и без этой клятвы я никогда не обманывал тебя; и, конечно, я лучше вовсе не стал бы писать о том, о чем не хотел бы написать правду. Но действительно, теперь моя жизнь идет гораздо лучше, нежели тянулась в Кадае.
Здоровье мое остается прежнее. Не беспокойся и о нем. Но твое, мой милый друг, заботит меня. Умоляю тебя, думай о нем хоть немножко побольше прежнего, — не рискуй им, как рисковала; я знаю, люди крепкого сложения скучают беречь свое здоровье. Но подчинись надобности, будь послушна советам медиков, — и в скором времени оно окрепнет снова.
Целую Сашу и Мишурку.
Денег у меня еще достанет на несколько месяцев. Но, если можно прислать не стесняя тебя в денежных делах, то пусть будет прислана какая-нибудь сотня рублей; если же это хоть сколько-нибудь стеснительно, то можно и отложить отправку; я, безо всякого затруднения, могу прожить и без нее весь этот год.
Прошу также, чтобы выслали мне журналы (не газеты, потому, что их не позволено получать, а журналы), — русские, какие получше из русских, и иностранные, какие подешевле. Прошу также прислать книг. Адресовать в управление комендантства Нерчинского округа, для передачи Чернышевскому. Прежде я не просил об этом потому, что, живя вдали от коменд. управления, не знал хорошенько, разрешено ли мне выписывать журналы. А теперь узнал, что все это будет передаваться совершенно хорошо.
Будь же здоровенькою, моя милая радость, мой добрый друг, Олинька. Крепко обнимаю тебя, моя красавица. Будь здоровенькая
Твой Н. Чернышевский.
474
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
27 июня 1867. Александровский Завод.
Милый друг, Олинька,
Недели две тому назад я переселился жить на квартиру. Проезжая через Александровский Завод, ты, быть может, заметила домик, стоящий прямо против комендантского дома; он принадле-
493
жит одному из дьячков здешней церкви. Я живу теперь у этого старичка, в этом домике. По одну сторону сеней помещается хозяин со своим семейством; по другую сторону, окнами на улицу, моя комната. Она очень чиста; довольна велика. — Вообще, я доволен своим нынешним образом жизни.
Впрочем, уже и до перехода на квартиру я жил в Александровском Заводе удобнее, нежели как ты видела меня живущим в Кадае.
Здоровье мое остается прежнее. Не беспокойся о нем. Заботься только о своем.
Я получил твое письмо от 21 марта. Благодарю за него. — Также я получил книги (и сигары), которые были мне посланы весною. Прошу, пусть будут мне присылаемы книги и журналы, русские и иностранные (журналы, а не газеты). Адрес: такому-то, в комендантское управление. — Пятьсот рублей на имя мое получены здесь на-днях. Этих денег достанет мне очень надолго.
Целую детишек. Крепко обнимаю тебя, мой милый друг. Будь здоровенькая и веселенькая.
Твой Н. Чернышевский.
475
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
3 августа 1867. Александровский Завод.
Милый друг Олинька,
Вот я опять пишу тебе и надеюсь, что теперь буду писать несколько чаще прежнего.
Я здоров. Живу себе недурно и не скучая. Довольно много брожу. — В это лето, с усердием купаюсь. Полагаю, что мой ревматизм значительно уменьшится от этого, а быть может, и вовсе пройдет; по крайней мере, теперь и в дождливую погоду он не давал слышать себя, даже при отворенном окне. — Когда вода в речке станет холодна, — то есть недели через две, — стану продолжать свои старанья против ревматизма домашним порядком: можно устроить и ванну, и даже купальный шкап.
Александровский Завод представляет не совсем плохие удобства для жизни. Здесь есть лавки, в которых всегда можно найти варенье, довольно порядочное, сардинки, вовсе хорошие и разные тому подобные деликатности.
Я получил твои письма от 13 апреля, 29 апреля и 19 мая. Благодарю тебя за них и умоляю, заботься о своем здоровье, а для этого старайся больше развлекаться.
Напомни родным, чтобы прислали мне книги и журналы. Целую детишек. Сашурке пишу.
Крепко обнимаю тебя, моя милая радость. Будь здоровенькая и веселенькая.
Твой Н. Чернышевский
494
476
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
2 октября 1867. Александровский Завод.
Милый мой друг Олинька,
Я получил твое письмо от 9 июля и благодарю тебя за него.
Я здоров и живу попрежнему, то есть очень порядочно. Я хорошо воспользовался летним временем, чтобы прогонять остатки скорбута, ревматизма и вообще своего малокровия, которое, кажется, было основной причиной боли в боку и в ногах. Целые дни бродил по полю, по горам; очень много купался. Благодаря этому слышу, что стал совершенно хорош на вид. А сколько могу понимать сам, думаю, что и действительно избавился от остатков болезней. По крайней мере, не чувствую их. Не боюсь холода, который прежде мучил меня. Вообще доволен своим здоровьем.
Целую детишек.
Крепко обнимаю тебя, моя милая радость. Будь здоровенькая и веселенькая. Целую и целую тебя.
Твой Н. Чернышевский.
477
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
3 апреля 1868. Александровский Завод.
Милый друг Олинька,
Я совершенно здоров. Получил твои письма от 6 декабря, 6 и 13 января. Благодарю тебя за них, моя милая радость.
Благодарю за то, что стали высылаться мне журналы: «Вестминстерское обозрение», английский «Атенеум», «Revue des deux Mondes» и «Вестник Европы» уже доходят сюда. Если высылаются еще какие-нибудь и еще не дошли до меня к тому времени, как пишу это, значит только, что еще не успели дойти по более поздней отправки из Петербурга и дойдут в свое время также хорошо. Вообще в доставке посылаемых мне книг и журналов оказывается полная готовность всех передавать их мне без малейшего замедления. Так, я получил в самом скором времени и ту посылку книг, в которой были вложены «Вестник Европы» за прошлые годы, «Revue des deux Mondes» за прошлый год и проч., — все, как было выслано; в этом нечего и сомневаться. Потому, прошу присылать с совершенной уверенностью, что все посылаемые книги и журналы будут отдаваться мне и вперед точно так же хорошо.
Живу здесь попрежнему со всеми удобствами, какие можно иметь в этом селе, совершенно спокойно, без малейших неприятностей, в добрых отношениях со всеми. — Теперь, когда стал иметь довольно книг, дающих занимательное чтение, моя жизнь и вовсе сделалась очень похожа на ту, какую я вел в Петербурге.
495
Не то что дни, — и недели летят так быстро, что и не замечаю, как пролетают.
Пиши мне больше, моя милая радость, обо мне не думай, заботься только о своем здоровье. Желаю, чтоб оно было так же хорошо, как мое.
Целую детишек и крепко обнимаю тебя.
Будь здоровенькая и веселенькая.
Целую и целую тебя, моя милая радость.
Твой Н. Чернышевский.
478
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
18 апреля 1868. Александровский Завод.
Милый мой друг, радость моя Лялечка,
Каково-то поживаешь ты, моя красавица? По твоим письмам, я не могу составить определенного понятия об этом. Вижу только, что ты терпишь много неудобств. Прости меня, моя милая голубочка, за то, что я по непрактичности характера не умел приготовить тебе обеспеченного состояния. Я слишком беззаботно смотрел на это. Хоть и давно предполагал возможность такой перемены в моей собственной жизни, какая случилась, но не рассчитывал, что подобная перемена так надолго отнимет у меня возможность работать для тебя. Думал: год, полтора, — и опять журналы будут наполняться вздором моего сочинения, и ты будешь иметь прежние доходы или больше прежних. В этой уверенности не заботился приготовить независимое состояние для тебя. Прости меня, мой милый друг.
Если б не эти мысли, что ты терпишь нужду и что моя беспечность виновата в том, я не имел бы здесь ни одного неприятного ощущения. Я не обманываю тебя, говоря, что лично мне очень удобно и хорошо здесь. Весь комфорт, какой нужен для меня по моим грубым привычкам, я имею здесь. Располагаю своим временем свободнее, нежели мог в Петербурге: там было много отношений, требовавших церемонности; здесь, с утра до ночи, провожу время, как приятно мне. Обо мне не думай, моя радость; лично мне очень хорошо жить. Заботься только о Твоем здоровье и удобстве, мысли о котором — единственные важные для меня.
Я не знаю, собираешься ли ты и теперь, как думала прежде, навестить меня в это лето. Ах, моя милая радость, эта дорога через Забайкалье пугает меня за твое здоровье. Я умолял бы тебя не подвергаться такому неудобному странствованию по горам и камням, через речки без мостов, по пустыням, где не найдешь куска хлеба из порядочной пшеницы. Лучше отложи свиданье со мной на год. К следующей весне я буду жить уже ближе к России: зимою или в начале весны можно мне будет переехать на ту сторону Байкала, — и нет сомнения, это будет сде-
496
лано, потому что все хорошо расположены ко мне. Вероятно, можно будет жить в самом Иркутске, — или даже в Красноярске. Путь из России до этих городов не тяжел. Умоляю тебя, повремени до этой перемены моего жилища.
Переехав жить на ту сторону Байкала, я буду близко к администраторам, более важным, нежели здешние маленькие люди. Не сомневаюсь, что найду и в важных чиновниках полную готовность делать для меня все возможное. Тогда придет время писать для печатанья и будет можно воспользоваться множеством планов ученых и беллетристических работ, которые накопились у меня в голове за эти годы праздного изучения и обдумыванья. Как только будет разрешено мне печатать, — а в следующем году наверное будет, — отечественная литература будет наводнена моими сочинениями. О том нечего и говорить, что они будут покупаться дорого. Тогда, наконец, исполнятся мои слова тебе, что ты будешь жить не только попрежнему, лучше прежнего.
Не знаю, исполнит ли мою просьбу та дама, с которой я посылаю это письмо. Я просил ее, когда она приедет домой и будет иметь досуг, написать тебе. Она приобрела мое уважение чрезвычайной нежностью к своим детям: никто никогда не видывал ее иначе, как ухаживающей за ними. Овдовев, она уезжает с ними на родину. Быть может, остановится на несколько дней в Петербурге. Если так, я просил бы своих друзей бывать у нее, чтобы из ее рассказов убедиться, как удобна моя жизнь здесь и хороши мои отношения со всеми здешними.
Она не имеет состояния. Думает, если бы нашлась возможность, трудиться для детей. По своей любви к ним она заслуживает полной симпатии. Быть может, у кого-нибудь и найдутся в ее краю знакомые, которые могут содействовать ей в этом. Она заслужила глубокое уважение у всех порядочных людей здесь.
Милая моя радость, верь моим словам: теперь уже довольно близко время, когда я буду иметь возможность заботиться о твоих удобствах, и твоя жизнь устроится опять хорошо. Здоровье мое крепко; уважение публики заслужено мной. Здесь, от нечего делать, выучился я писать занимательнее прежнего для массы; мои сочинения будут иметь денежный успех.
Заботься только о своем здоровье. Оно — единственное, чем я дорожу. Пожалуйста, старайся быть веселою.
Целую детей. Жму руки вам, мои милые друзья.
Крепко обнимаю тебя, моя миленькая голубочка Лялечка.
Твой Н. Ч.
Будь же здоровенькая и веселенькая. Целую твои глазки, целую твои ножки, моя милая Лялечка.
Крепко обнимаю тебя, моя радость.
Еще тысячи и тысячи раз целую тебя, моя радость.
Прошу вас, мои милые, прочтите это письмо: разумеется, в нем нет секретов. Да и вообще их нет у меня.
32 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
497
479
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
7 июля 1869. Александровский Завод.
Милый друг Олинька,
Благодарю тебя за твое письмо от 18 апреля. Прошу тебя, пиши мне чаще о своем здоровье. Ты знаешь, мысли о тебе — единственные важные для меня. Пожалуйста, пиши о себе почаще.
Я во все это время был совершенно здоров. И остаюсь совершенно здоров. Жизнь моя идет очень удовлетворительно.
В следующем июле придет мне время переместиться отсюда поближе к России (по правилам, по которым считаются сроки, один год из семи выбрасывается). Тогда тебе, моя милая, будет удобно жить вместе со мной. Надобно думать также, что тогда мне будут открыты средства зарабатывать деньги и что все неудобства и недостатки, которым так долго подвергала тебя и наших детей моя прежняя беззаботность об обеспечении вам средств к жизни, — что все эти недостатки прекратятся. Здоровье мое крепко, и, вероятно, останется крепко довольно надолго: поэтому могу работать не меньше прежнего.
Благодарю тебя, мой дружок Саша, за то, что ты пишешь ко мне и радуешь меня своей любовью к приобретению знаний. Двести пятьдесят рублей, которые ты послал мне, получены. Теперь у меня не будет надобности просить еще о новой присылке денег до половины следующего года. Когда будут нужны, буду просить. — Целую тебя и Мишу.
Милый друг Олинька, заботься о своем здоровье, и все будет хорошо. Крепко обнимаю тебя, моя милая, и целую твои руки.
Твой Н. Чернышевский.
480
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
14 октября 1869.
Милый друг Олинька,
Я совершенно здоров. Прошу тебя, заботься о своем здоровье, и все будет хорошо.
Целую Сашу и Мишу.
Целую тебя, милый мой друг, целую твои ручки. Будь здорова и старайся быть веселой.
Твой Н. Чернышевский.
481
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Александровский Завод. 5 января 1870.
Милый друг мой Олинька,
Я получил Твое письмо от 8 октября: благодарю Тебя за него, моя Радость.
Я совершенно здоров, по своему хорошему обыкновению.
В середине лета придет мне время переселиться отсюда, чтобы
498
жить, как мне удобно. Вместе с этим будет мне можно зарабатывать деньги. Здоровье у меня крепкое, и достанет его очень надолго: ослабления умственной живости не замечаю в себе и надеюсь, что и в этом отношении до дряхлости мне еще очень далеко. Поэтому думаю, что ты будешь избавлена от неудобств, в которых виноват я тем, что не заботился прежде приобретать столько денег, чтобы оставался у тебя хороший запас их на бездоходное время.
Мог бы приобретать столько. Но был слишком беспечен. Воображал даже, что не способен торговаться. И это напрасно: могу быть и коммерческим человеком. И теперь будет надобно так. И буду. Миллионов не наживу; не хвалюсь, что наживу их. Но десятки тысяч в два, три года приобрету. И можно будет тебе расплатиться с долгами. Потом будешь не бедной женщиной.
Знаю теперь и хозяйство, — не сельское, разумеется, а домашнее: цену всякого найма, всякой вещи. Могу проверить всякий счет не хуже всякого другого.
Вог как усовершенствовался. Поэтому не нахожу проведенного здесь времени потерянным. Переносить тебе это время было неудобно. Но оно обратится в пользу тебе; ты верь, не верь, но увидишь, мой милый друг.
Ты говоришь в письме от 8 октября, что напрасно ты писала мне иногда с горьким чувством: благодарю тебя за то, что ты так думаешь. Но все, что ты писала, по-твоему, напрасно, очень естественно; и, в сущности, справедливо. И возможно ли, при твоем прямодушии, чтобы не случилось тебе иногда сказать мне и что-нибудь неприятное? Как быть! Но мы с тобой старинные приятели, — пятнадцать лет нашей свадьбе, когда я праздновал? — потрудись-ко сосчитать. Э, мой милый друг, если б у меня раздумье о тебе было только то, не досадно ли иногда бывало тебе на меня, это бы не очень важнее для меня огорчение; а вот я все подумываю: денег я не собрал запаса для тебя и детей; это поважнее для меня, моя милая.
Но поправлю свою вину перед тобою и перед детьми.
Только будь ты здорова. Вот это, мой друг, занимает меня больше всего. Пожалуйста, умоляю тебя, береги свое здоровье. А оно у тебя много зависит от настроения мыслей. Когда ты не грустишь, ты очень крепкого здоровья. Старайся же развлекаться от своей скуки. Делай усилия над собою. Прошу тебя об этом очень серьезно; умоляю тебя об этом.
Крепко обнимаю тебя, моя милая радость; как не было, так и нет у меня никакой другой заботы, кроме как о том, сносно ли живется тебе, мой друг; привык жить только для мыслей о тебе; так и идут все только они одним рядом без перерыва; милый друг мой, старайся быть веселой и здоровой. — Целую детей. Благодарю Сашу за письмо. Целую твои руки, моя милая.
Твой Н. Чернышевский.
32*
499
482
О. С. И А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
[29 апреля 1870.]
Милый мой друг, радость моя, единственная любовь и мысль моя Лялечка,
Давно я не писал тебе так, так жаждало мое сердце. И теперь, моя милая, сдерживаю выражение моего чувства, потому что и это письмо не для чтения тебе одной, а так же и другим, быть может.
Пишу в день свадьбы нашей. Милая радость моя, благодарю тебя за то, что озарена тобою жизнь моя.
Пишу наскоро. Потому немного. На обороте пишу Сашеньке.
10 августа кончается мне срок оставаться праздным, бесполезным для тебя и детей. К осени, думаю, устроюсь где-нибудь в Иркутске или около Иркутска и буду уж иметь возможность работать попрежнему.
Много я сделал горя тебе. Прости. Ты великодушная.
Крепко, крепко обнимаю тебя, радость моя, и целую твои ручки. В эти долгие годы не было, как и не будет никогда, ни одного часа, в который бы не давала мне силу мысль о тебе. Прости человека, наделавшего много тяжелых страданий тебе, но преданного тебе безгранично, мой милый друг.
Я совершенно здоров по обыкновению. Заботься о своем здоровье, — единственном, что дорого для меня на свете.
Скоро все начнет поправляться. С нынешней же осени.
Крепко, крепко обнимаю тебя, моя несравненная, и целую и целую твои ненаглядные глаза.
Твой Н. Ч.
Благодарю тебя, Саша, за твои письма. Вижу, ты становишься дельным человеком. Радуюсь на тебя.
Целую тебя и Мишу.
483
А. Н. ПЫПИНУ
[29 апреля 1870.]
Милый Сашенька,
Я никогда и не воображал быть недоволен тобою. Напротив, поверь: понимал и ценил твою любовь. Всегда.
К осени устроюсь где-нибудь так, что буду иметь возможность наполнять книжки журнала, какой ты выберешь, моими работами.
Нужнее и выгоднее для журнала, конечно, беллетристические. Потому я и готовил больше всего в этом роде.
Кое-что, может быть, окажется пока еще неудобно для печати. Но много есть и такого, что совершенно удобно, даже похвально с точки зрения благонравности.
500
Например, нечто вроде арабских сказок и Декамерона по форме: роман; в нем бесчисленные вставные повести и драматические пьесы, — каждая годится для печати особо, — тут совершенно пригодного листов полтораста журнального формата.
Действие основного рассказа в Сицилии, потом в Соедин[енных] Штатах, в Венесуэле, на островах Тихого океана. Поэтому можешь судить: совершенно невинно.
Но не пусто. Этому можешь поверить; хоть бы я и уверял, что пусто, не поверил бы ты.
Это главным образом идиллии, эфирная поэзия: все добры, все честны, все счастливы, — и во всем кроткое чувство.
Есть и о России, — есть и о ней такое, что годится.
Много, много у меня наработано.
Талант положительно есть. Вероятно, сильный.
Вот об этой-то коммерции, разумеется, писал я в одном из недавних писем.
Целую тебя и твоих.
484
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Александровский Завод. 5 июля 1870.
Милый друг мой Олинька. Благодарю тебя за твои письма ко мне. Умоляю тебя, моя радость, заботься о своем здоровье; и для этого делай усилия над собою, чтобы не грустить: твое здоровье чрезвычайно много зависит от твоего настроения мыслей; когда ты в хорошем расположении духа, твое здоровье крепко и прекрасно. Умоляю тебя, моя милая подруга, старайся быть веселою и береги свое здоровье.
Пишу за несколько дней до твоих именин; твои праздники — единственные, которые не забываю праздновать я. Буду праздновать этот в уверенности, что ты здорова.
Срок моего пребывания здесь — 10 августа. Думаю, что 10 августа и выеду отсюда в Иркутск; а там, конечно, скоро можно будет узнать, чего теперь еще не знаю, где придется мне жить. Но, само собою разумеется, где бы ни привелось, все-таки будет можно тебе исполнить Твое милое намерение приехать попрежнему делить мою жизнь. Только, прошу тебя, позаботься получить в Петербурге официальное распоряжение, которое обеспечивало бы тебя здесь ото всяких неприятностей. Я убежден, в Петербурге не затруднятся написать для тебя такие бумаги, чтобы все, с кем придется тебе иметь сношения по делам твоей поездки и жизни вместе со мною, имели должную почтительность к тебе.
Как выеду отсюда, пошлю телеграмму тебе, мой милый друг. После того жди от меня другой телеграммы из Иркутска: прежде нежели выедешь из Петербурга, Ты должна будешь, узнавши,
501
где именно придется жить мне, взять официальное распоряжение не только для Иркутска, но и для местности, в которую поедешь ко мне. Пожалуйста, мой друг, обеспечь себя всеми необходимыми гарантиями. Я не сомневаюсь в том, что в Петербурге не только без колебания, но с удовольствием дадут тебе все гарантии, какие покажутся тебе нужными для охранения тебя здесь от всяких неприятностей.
Устроившись на новом месте, буду иметь право и возможность трудиться для исполнения моих обязанностей перед тобою и детьми. Здоровье мое хорошо; и надеюсь, очень долго останется хорошо. Я не тратил его в молодости на обыкновенные дурачества юношей; ни разу в жизни не изменял правилам нравственной и физической гигиены. Теперь видна польза от этого. Я не чувствую никакой разницы в здоровье сравнительно с тем, каков был в тридцать лет; и могу быть уверен, что останусь таким же дольше пятидесяти лет. Что такое усталость от занятий, я не знаю; и еще много лет не буду знать. Успею, моя радость, вознаградить время, прошедшее для меня без работы. Миллионов рублей не приобрету; и не нужны они. Но сколько надобно будет приобретать, буду зарабатывать без утомления себе. Скоро ты будешь иметь средства расплатиться с долгами и жить, как привыкла в прежние времена; через несколько времени будешь жить лучше прежнего, — не сомневаюсь в этом.
Я получил четыреста рублей, которые были посланы мне. Благодарю за них.
Благодарю тебя, Саша, за твои письма ко мне. Целую тебя и Мишу. Крепко обнимаю тебя, моя милая радость; целую твои глаза и руки. Будь здорова и весела.
Твой Н. Чернышевский.
485
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
12 октября 1870. Александровский Завод.
Милый мой друг Олинька,
Я получил твои письма из Саратова от 21 и 30 июня и от 25 июля. Благодарю тебя за них, моя милая радость. Твое здоровье хорошо, — это единственное, что необходимо для моего счастья.
Я получил также письмо от Сашеньки и от младшего Саши. Поблагодари Сашеньку за то, что он не забывает меня. Похвали Сашу за то, что он пишет хорошо.
Я совершенно здоров. Деньги, посланные весною, я получил. Книги также.
Милый мой друг, если я пишу тебе так мало, то, разумеется, не потому, что желал бы писать мало. Я думаю, что чем короче письмо, тем скорее может дойти до тебя. Ты мне пиши больше.
502
Будь здорова и весела, и все будет хорошо. Целую детей. Крепко обнимаю тебя, моя милая радость. Помни, что ты единственный интерес мой в жизни.
Будь здорова и весела. Целую твои ручки и крепко обнимаю тебя, мой милый друг.
Твой Н. Ч.
486
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
12 января 1871.
Милая моя радость, единственная любовь и мысль моя Оленька,
Целую твои ножки за твои отрадные письма ко мне. — Я совершенно здоров. — Живу хорошо.
Расскажу тебе о том, как шло у меня время с половины 1868 года.
Я жил на квартире. Был в очень хороших отношениях со всеми здешними официальными лицами (как это оставалось и после, безо всякой перемены; остается и теперь, и несомненно останется, пока я буду жить здесь). Однажды, — помнится, 14-го или 15 -го июля, — мои хорошие знакомые, официальные люди, пришли ко мне смущенные, опечаленные, (непритворно, как я думал тогда, продолжаю думать и теперь); они пришли сказать, что совершенно неожиданно для них получено ими распоряжение о том, что я не должен оставаться жить на квартире, должен жить снова в тюрьме. Сама по себе эта непонятная ни для меня, ни для них мера не имела ничего неприятного. Жаль только, что долго после того я не мог писать тебе, мой друг, и ты беспокоилась, не получая от меня писем. Прошло месяцев восемь или девять, мне сказали, что получили из Петербурга предписание, благоприятной для меня: оказалось, что я не подавал никакого повода к той неприятности, которую испытывали (по доброму расположению ко мне) здешние официальные люди, видя меня в каком-то подозрении, которое с самого же начала считали они ошибочным. Тогда я снова начал писать письма к тебе, мой друг. — В чем состояло это подозрение, я и до сих пор не знаю. Да этот вопрос и не имеет интереса для меня. Важно совершенно иное: когда придут из Иркутска бумаги о том, что могут отпустить меня отсюда жить где-нибудь на свободе.
Юридическое положение дела таково: срок моего приговора кончился 10 августа 1870 года. Запрос о том, могут ли отпустить меня отсюда, послан был в Иркутск (по здешнему правилу спрашивать разрешения оттуда) так заблаговременно, что ответ должен был бы прийти раньше того числа; а вот после того числа прошло уже пять месяцев, — и ответа все еще нет. Когда он придет? Надобно ждать с каждою почтой. Долго ли еще протянется
503
это промедление? — Я полагаю, дальше 10 июля не может протянуться. Это вот почему.
Счет срока, о котором я писал в тех строках, известен только немногим, занимающимся этими делами. Попроси кого-нибудь справиться в Своде законов; там постановлены такие правила: приговор на семь лет считается кончающимся через 73 месяца; первые полтора года считаются за полтора года; остальные пять лет с половиной считаются имеющими каждый год только по 10 месяцев, итого 55 месяцев; 18 месяцев и 55 месяцев составляют 73 месяца. Видишь, это правила, известные только людям, хорошо знающим Свод законов. И, быть может, кто-нибудь, где-нибудь, — в Иркутске ли, в Петербурге ли, — не знал этих правил, когда рассматривал бумагу обо мне; подумал: «срок еще не кончился», — и вышла задержка. Но 10 июля нынешнего года кончился срок мне и по мнению такого человека; я приехал в Усолье 10 июля 1864 года; с этого дня считается начало срока; 10 июля 1871 будет с того дня полных семь лет; тогда задержки не может представляться уж ни в чьем соображении.
Правильно ли я угадываю причину задержки? — я не знаю. Попроси кого-нибудь узнать в Петербурге, в чем дело. И пусть этот человек предварительно пересмотрит правила, постановленные в Своде законов, чтоб уметь разъяснить всякое недоразумение, с каким может встретиться. Я полагаю, что дело задержало только по недоразумению. Преднамеренного нарушения закона я не хочу предполагать ни в каком ведомстве, ни в чьем желании. — Ты видишь, мой друг, я говорю об этих вещах и лицах юридическим тоном. Теперь довольно говорить им, и будем говорить просто, как чувствуется.
Моя жизнь здесь действительно не имеет ничего тяжелого или неприятного лично для меня. Все эти недели и месяцы задержки горьки мне только потому, что ты, моя милая радость, тяготишься ими. Но, моя Оленька, страдавши долго, потерпи еще немного, — вероятно, и в самом худшем случае не далее, как с полгода: если не раньше, то около времени твоего летнего праздника я выеду отсюда и тогда устроимся с тобой жить так, чтобы ты снова могла быть веселой.
А что касается лично до меня, я сам не умею разобрать, согласился ли б я вычеркнуть из моей судьбы этот переворот, который повергнул тебя на целые девять лет в огорчения и лишения. За тебя я жалею, что было так. За себя самого совершенно доволен. А думая о других, — об этих десятках миллионов нищих, я радуюсь тому, что без моей воли и заслуги придано больше прежнего силы и авторитетности моему голосу, который зазвучит же когда-нибудь в защиту их. Льстить им я не гожусь. Горьки и обидны для них мои мысли о них. Но и здесь я не льстил товарищам моей судьбы; постоянно говорю им только горькое и обидное для них, — и, однако же, они прощают мне мои
504
оскорбляющие их слова. Тем легче будут прощать русские своему родному.
Для всего континента Западной Европы начинается новый период жизни. Когда отразятся результаты торжества Германии на России? Мы здесь еще не знаем, какой оборот принимает дело по требованию русского правительства иметь флот на Черном море. Но, мой милый друг, ни в одном из важных вопросов истории Европы и Америки в последние десять лет мои соображения не оказались ошибочными. И теперь легко предвидеть, что будет с Россиею через два, три года, — или через год? — вот этого только еще не вижу я отсюда: будет ли отсрочка хоть на три или хоть на два года столкновению России с Западной Европой, или оно уж началось. Бедный русский народ, тяжело придется ему в этом столкновении. Но результат будет полезен для него. И тогда, мой друг, понадобится ему правда. Я уж не молод, мой друг, но помни: наша с тобой жизнь еще впереди.
Быть может, кто-нибудь скажет тебе: «он слишком самонадеян» или «он слишком много предсказывает»: не смущайся этим замечанием и знай: я могу говорить об исторических делах, потому что я много учился и много думал. Чему быть, того не миновать. И тогда мы с тобой увидим, жалеть ли нам о том, что вот столько лет пришлось мне, от нечего делать, все учиться, все думать. Мы увидим: это пригодилось для нашей родины.
Но надобно думать и о самих себе. Ты видишь, я не знаю, придется ли мне начать работать для обеспечения тебя и детей раньше половины этого года. Позже не должно быть; будет ли раньше, постарайся узнать ты сама, поручивши кому-нибудь хорошенько справиться в Петербурге: ни здесь, ни в Иркутске не могут решать ровно ничего, как только речь идет обо мне. Я как будто неподвластен никому нигде, кроме Петербурга. — Но раньше ли или не раньше половины этого года, я начну работать. Тогда все пойдет, — сначала довольно хорошо, а скоро и очень хорошо. В три, четыре года я заработаю пятьдесят тысяч; вероятно, этого будет довольно, чтобы мы с тобой уплатили долги, а после успею наработать и кусок хлеба нам с тобой и с детьми.
В ожидании переезда я перестал писать повести, которые изобретаю: при переезде чем меньше бумаг, тем лучше. И без новых прежние достаточны для наполнения десятков книжек журналов. Чтобы оставить при себе несколько поменьше, посылаю тебе пачку, из которой кое-что, может быть, и удобно для напечатания. Прилагаю список этим рукописям, и заметки о них — эта пачка незначительная часть приготовленного мною для печати; я выбрал только то, что не нужно мне для справок. Вообще то, что я пишу, связано — один роман с другим, другой с третьим, — так что многое, готовое у меня, должно оставаться в моих руках до отделки следующих рассказов, которыми займусь по переезде. Кое-что из остающегося у меня понравится тебе, я надеюсь.
505
А из того, что послыаю, расскажу тебе о «драме без развязки» — так назвал я два с половиною действия четырехактной драмы, которая в полном своем составе называется «Другим нельзя». Остальные полтора действия пришлю после. Они так безнравственны, что и подумать страшно: муж учит жену всему дурному: «Другим нельзя, а тебе, Леночка, можно, потому что ты милая девица». Эта драма (и несколько других моих пьес) из репертуара здешнего театра моих русских товарищей. Один из них играет женские роли. Видишь, они хоть и молодые люди, находят возможным не тяготиться своею судьбой. Тем равнодушнее к ней я, который по летам своим спокойнее их смотрю на жизнь.
Я был бы здесь даже одним из самых счастливых людей на целом свете, если бы не думалось, что эта очень выгодная лично для меня судьба слишком тяжело отзывается на твоей жизни, мой милый друг. Но, моя Оленька, я надеюсь: Ты прощаешь мне горе, которому я подверг тебя; и я уверен в том, что с половины года твоя жизнь будет делаться менее грустной и стесненной, а через несколько времени мы с тобой будем жить не только по-прежнему хорошо, но и лучше прежнего.
Саше скажи от меня: пусть не огорчается тем, что не удался ему экзамен. Пишу ему в официальном письме. Целую его и Мишу.
Крепко обнимаю тебя, моя милая радость, и тысячи, тысячи раз целую твои ручки и глаза. Будь здорова и весела, и все будет хорошо.
Твой Н. Ч.
Милая моя, еще и еще целую тебя. Будь веселенькая, моя радость.
СПИСОК БУМАГАМ И ЗАМЕТКИ О НИХ
№ 1. Роман «Пролог Пролога». Продолжение «Старины», которая была послана прежде. Начинается самостоятельно; все понятно и не читавшему «Старины». Прошу напечатать, сколько возможно по цензурным условиям. Если уцелеет хоть половина, и то хорошо. Я писал с мыслью издать во французск. или английск. переводе. В русском издании надобно выбросить все, что относится до литературных занятий Волгина, и вставить где понадобится по две, по три фразы, в которых объяснялось бы, что он адвокат при коммерческом суде (эти адвокаты были уж и в те времена).
№ 2, с той же нумерацией листков: «Дневник Левицкого». Начало второй части «Пролога», брошенное мной. Я переделал эту часть романа; то, что посылаю, брошено мной. Может быть, годятся для печати эпизоды об Аннушке и о Настеньке, в виде отрывков. То, что относится к Илатонцевой и к Мери, посылаю только для прочтения и сбережения.
506
№ 3. «История одной девушки». Карандашом обозначено, что должно вычеркнуть. Повесть остается будто недописана. Но это лучше для внушения морали, которая понятна и без вычеркнутого.
№ 4, 5 и 6. «Эпизоды из книги Эрато».
«Книга Эрато» — это энциклопедия в беллетристической форме. Я работаю над нею уж больше двух лет. Это будет нечто колоссальное по размеру.
Канва главного романа: итальянка, вдова русского вельможи, сама еще более знатная, — по деду, голландскому банкиру, компаньонка лондонской отрасли Ротшильдов (доход от фирмы — 100 000 фунт. стерл.), получает после деда фамильную виллу, Кастель-Бельпассо. Поселяется там с детьми, родными, друзьями (друзья люди небогатые): начинаются спектакли, литературные вечера и проч. и проч. — Это общество — общество, приключения которого рассказываются в основном, очень многосложном, романе; а литературные вечера и разговоры по поводу их дают рамку для бесчисленных эпизодов всяческого содержания.
Посылаемые мною эпизоды (№ 4, 5 и 6) служат образцами, как разнородны эти вставки.
№ 4. «Драма из русской жизни». Для эффекта я посылаю только спектакль первого вечера. Прочитавши, можно понять, какие споры подымаются в обществе после этого спектакля. Назавтра спорящие увидят, как решается дело. Решение очень странно и подымает новые споры, с новыми эпизодами, — и после оказывается, что эта драма была написана не без умысла: от решения подымаемого ею вопроса зависит судьба некоторых из родных хозяйки.
№ 5. Три первые главы рассказа «Потомок Барбаруссы». Это первый рассказ из семейной истории хозяйки. Понятно, что продолжение этих рассказов охватит историю франц. революции и т. д. до самых последних европ. событий. Эмилия, принцесса Рейнфельденская, о которой говорится в конце третьей главы — это нечто вроде экрана, на котором отражаются фигуры всех эксцентричных руководителей крайней прогрессивной партии, от Бабёфа до Маццини.
№ 6. «Кормило кормчему» и «Знамение на кровле» — ученый фарс, по поводу которого подымаются отчасти смехотворные, отчасти серьезные споры, знакомящие публику Белого зала (это зал, в котором литерат. вечера) с различными системами экзегетики и т. п. наук и нелепостей. — Подобным образом публика знакомится и с политической экономией и всяческими науками.
Драму без развязки прошу напечатать. Другие два эпизода посылаю для прочтения. А впрочем, чем больше из посылаемого годится для печати, тем лучше.
Переделывайте и перечеркивайте, как понадобится: у меня нет амбиции; как удобнее, так и лучше.
507
487
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
12 января 1871. Александр. Завод.
Милый мой друг Оленька,
Я получил твое письмо, при котором ты послала свой портрет; получил также и письмо твое от 13 ноября. Благодарю тебя за них, благодарю от всей души: они отрадны для меня, потому что я вижу: ты здорова и не очень хандришь; только это и надобно мне для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Благодарю также и за портрет: он служит мне наглядным свидетельством того, что здоровье твое крепко и что ты еще слишком рано вздумала называть себя старухой: нет, еще нескоро кто-нибудь, кроме тебя самой, перестанет считать тебя молодой женщиной.
Я совершенно здоров. Живу по-прежнему хорошо, безо всяких неприятностей. В нынешнюю зиму окончательно, как я надеюсь, избавился от остатков ревматических ощущений, которые слегка бывали у меня в прежние зимы, но бывали только слегка, меньше, нежели чувствовались в Петербурге: сухой и здоровый здешний климат помог мне отделаться и от этого неважного недуга, которого и не стоило никогда называть недугом, как уж давно исцелил меня от скорбута, с которым я выехал из Петербурга. Я не замечаю теперь в своем здоровье никакой разницы от того, как чувствовал себя назад тому лет двенадцать или пятнадцать. Поэтому смело могу рассчитывать, что надолго сохраню порядочную крепость сил.
Я получил письмо от Саши, в котором наш с тобой почтенный сын стыдится сообщить мне, что в нынешнем году не выдержал экзамена; пожалуйста, уверь его, мой друг, что я не придаю этой его неудаче никакой важности. Твои отзывы об этом почтенном юноше и уверения Сашеньки — дяди, что он учится хорошо, гораздо интереснее для меня, чем экзаменационные отметки.
Целую его и другого нашего с тобой почтенного сына.
Благодарю тебя, Саша, за твое письмо.
Благодарю и тебя, Сашенька. Каких книг присылать мне? — Каких хочешь; только присылай.
Крепко обнимаю тебя, моя милая радость. Будь веселенькая и здоровенькая. Тысячу раз целую твои ручки.
Твой Н. Ч.
488
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
4 апреля 1871. Александровский Завод.
Милый друг мой Оленька,
Я получил твои письма от 28 декабря и 3 февраля. Благодарю тебя за них, моя радость. Не буду говорить о чувствах, с кото-
508
рыми я читал их: Ты знаешь, голубочка моя, что единственная моя привязанность к жизни, — это любовь моя к тебе. Благодарю тебя за новый твой портрет, который также получен мной. Ты на нем — совершенно молоденькая девушка. Заботься, прошу тебя, умоляю тебя, о твоем здоровье и будешь радовать меня тем, что долго останешься такою, как на этом портрете.
Я полагаю, ты получила мое письмо, которое помечено началом нынешнего года. Пока, не имею ничего прибавить к тому, что говорил тебе тогда о своих обстоятельствах. Как тогда, и теперь я пользуюсь таким здоровьем, что не могу желать лучшего тебе и детям нашим. Попрежнему не знаю ничего определенного о том, долго ли придется мне оставаться здесь: и попрежнему не имею никаких поводов считать неосновательным свое предположение, что когда кончится семь лет со времени моего приезда в здешний край, то не будет препятствий мне устроиться жить так, чтобы можно было работать. А когда будет так, надеюсь, что мои способности к труду окажутся не ослабевшими: здоровье хорошее, — не солгу, сказав даже: превосходное; глаза — хоть и смешные по природной близорукости — попрежнему очень крепки: с той минуты, как проснусь, до той, как одолеет сон, читаю без перерыва, — по целым месяцам, каждый день так, и, однако, ни разу не замечал, чтобы зрение утомлялось; я приписываю это тому, что и в молодости никогда не пил вина и, при всей бестолковости своего характера, жил в гигиеническом отношении благоразумно. Желал бы, чтобы наши с тобой дети провели свою молодость так же. Саша уж такой большой, что, может быть, и пора говорить с ним о правилах сбережения здоровья.
Он (смешной) пишет мне, что желает узнать мое мнение о том, по какому факультету лучше будет пойти ему. Скажи ему и от моего имени, как, вероятно, говоришь от своего, что какой лучше нравится ему самому, тот и самый лучший. Это вопрос о склонности. Он может вперед мучиться сомнением: «А что, если он сам ошибется в своей склонности? Как тогда быть?» — Тогда и перейти на другой факультет, на какой тогда вздумается. «А что, если выйдет так: в 22 или 23 года кончишь курс по одному факультету, а в 30 почувствуешь призвание к другой отрасли знания?» — может продолжать наш с тобой будущий ученый. — На это можешь, мой друг, отвечать ему, что если и в 40 лет будет оставаться охота учиться, можно и в 40 лет начать учиться. Словом, если он стесняется в выборе факультета какими-нибудь пустыми соображениями, советуй ему, друг мой, чтобы свободно следовал своему собственному влечению.
Благодарю тебя за то, что заставляешь и Мишу писать ко мне. Кажется, что и этот наш с тобой молодец будет неглупый человек. Целую его.
Целую милое родное лицо, заботы которого содействовали твоему выздоровлению. Целую всех других родных.
509
Сейчас мне сказали, что получены книги, посланные мне. Благодарю за них Сашеньку.
Милый Саша, благодарю тебя за твои письма. И тебя, Миша. Итак, моя радость, с начале июля рассчитываю выехать отсюда и скоро устроиться так, чтобы работать для тебя и детей.
Крепко обнимаю тебя, милая моя голубочка; тысячи и тысячи раз целую твои ручки и светлые глазки. Обнимаю тебя. Будь здоровенькая и веселенькая, — и все будет хорошо.
Твой Н. Чернышевский.
489
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
16 августа 1871. Александровский Завод.
Милый мой друг Оленька,
В прошлом письме от 4 июля я говорил тебе, что новый генерал-губернатор Восточной Сибири, бывши здесь, согласился на то, чтоб я писал тебе каждый месяц. Пользуюсь этим разрешением.
Я также писал тебе тогда, что услышал от него о своих обстоятельствах следующее: есть какая-то задержка, по которой еще надобно было тогда мне оставаться здесь; в чем она состоит, он не мог сказать мне; но сказал, что, по его мнению, она устранится в непродолжительном времени.
Итак, будем ждать, пока она устранится. Тогда, быть может, найдут возможным сообщить мне и то, в чем она состояла; а если и тогда не сообщат, все равно: в чем бы ни состояла, лишь бы нашли, что можно устранить ее.
Я, по обыкновению, совершенно здоров.
Получил твое письмо от 3 июня. Благодарю тебя за него, моя милая радость. Будь здоровенькая и веселенькая.
Целую Сашу. Если выдержал он экзамен в университет, хорошо. Если не удалось, не велика важность; скажи ему, что не должно придавать чрезмерного значения подобным успехам или неуспехам, зависящим не столько от достоинств юноши, сколько от случайностей.
Целую Мишу.
Крепко обнимаю тебя, моя милая, тысячи раз целую твои руки. Будь здорова, и все будет хорошо.
Твой Н. Чернышевский.
490
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Александровский Завод. 24 сент[ября] 1871.
Милый мой друг Оленька,
Я получил твои письма от 13 июня, от 15 и 21 июля. Благодарю тебя за них, милая моя радость. Получил и письма Саши, от тех же чисел, приложенные к твоим.
510
Много огорчений наделал я тебе и детям, друг мой. Прошу прощенья за них у Саши и Миши; в том, что ты, милый мой друг, великодушно прощаешь мне, я никогда не сомневался и не усомнюсь. Позволь мне повторить также мое всегдашнее мнение, что в результате эти огорчения послужат к лучшему. Будь только здоровенькой, — и все будет хорошо.
Поздравляю тебя, милый Саша, с поступлением в университет. Надеюсь на то, что ты будешь обо всем интересном для тебя советоваться с мамашею; каждый ее совет считай и за мой совет.
Я живу здесь попрежнему. Как всегда, совершенно здоров.
Целую тебя, Саша, и Мишу.
Крепко обнимаю тебя, моя милая радость. Будь здоровенькая и старайся быть веселой, — только это и нужно мне, чтобы чувствовать себя счастливым. Целую твои ручки и глазки.
Твой Н. Чернышевский.
491
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
14 ноября 1871. Алекс. Завод.
Милый друг Оленька,
Я получил твои письма от 11 августа и 10 сентября. Благодарю тебя за них, моя радость. Заботься только о своем здоровье, и все будет хорошо.
Я получил также письма Саши, в которых он сообщает мне, что поступил в университет. Поздравляю его с этим успехом и хвалю за то, что он выбрал математический факультет.
Я совершенно здоров, по обыкновению. Как и прежде, не имею ничего думать о себе. И мало думаю. Впрочем, вероятно, не будут же держать меня здесь долго; по всей вероятности, через несколько времени буду писать тебе откуда-нибудь поближе; тогда и можно будет подостовернее судить о том, как устроится наша с тобой жизнь.
Будь терпелива и весела, и все будет хорошо.
Белье, посланное тобой, я получил. Халат прекрасный. Благодарю тебя.
Крепко обнимаю и тысячи раз целую тебя, моя милая радость. Целую детей. Будь здоровенькая.
Целую тысячи и тысячи раз твои милые глаза.
Твой Н. Чернышевский.
492
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Иркутск [18] декабря [1871 г.]
Милый мой друг Оленька,
Ныне я приехал в Иркутск и буду продолжать путь до места, которое назначено мне для житья и о котором подробнее напишу тебе после, когда познакомлюсь с ним по собственному опыту.
511
Надеюсь, буду жить там так же удобно, как удобно еду туда. А поездка моя устроена очень удобная, — несравненно удобнее, нежели можешь ты предполагать. Вот, впрочем, один факт, который покажет тебе, преувеличиваю ли я характер удобств, которыми пользуюсь в дороге: в кармане у меня лежат шерстяные чулки. — и я до сих пор не имел нужды надеть их. потому что ногам достаточно тепло и в белевых. Так и все, как эта мелочь: совершенно хорошо устроено. Нельзя поэтому сомневаться, что и вся моя жизнь устроится хорошо.
Перестань же хандрить, моя милая радость. Будь здоровенькая и веселенькая. — Я совершенно здоров.
Крепко целую тысячи раз твои ручки и глазки.
Получил твое письмо от 8 ноября. Благодарю тебя за него.
Целую детей. Крепко обнимаю и целую тебя, моя милая.
Твой Н. Чернышевский.
493
И. Г. ТЕРСИНСКОМУ
[20 декабря 1871 г.]
Петербург. Святейший Синод. Терсинскому.
Еду на север жить. Поездка очень удобно устроена, я совершенно здоров.
Чернышевский.
494
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
16 января 1872.
Милый мой друг Олинька,
Я совершенно здоров. Живу попрежнему. И вообще все хорошо. Целую детей. Крепко обнимаю тебя, моя радость. Целую твои ручки.
Твой Н. Чернышевский.
495
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
31 января 1872. Вилюйск.
Милый мой дружок Олинька,
Я получил твое письмо от 17 октября; благодарю тебя за него. Ты здорова — это единственное, чем я дорожу на свете.
Я по обыкновению совершенно здоров.
Считаю возможным сказать тебе, мой друг, несколько слов о Вилюйске. Это очень маленький город. В нем нет ни одной лавки. Товары, какие нужны для жителей, продаются торговцами в их собственных квартирах. Из того, что нужно мне, в числе этих местных товаров есть чай и сахар. — Вилюйск находится в 710 верстах от Якутска, почти прямо на запад. Климат почти одинаковый. Воздух здесь очень здоровый. Вилюй — большая река; в ней много рыбы; превосходной. Например, попадаются стер-
512
ляди больше пуда весом; конечно, такие большие — редкость. Другая рыба — нельма — тоже прекрасная; некоторые предпочитают ее даже стерляди. — Между Якутском и Вилюйском вовсе нет русского населения; живут только якуты; и те, почти только те семьи, которые содержат почтовую гоньбу. Станции большей частью по 40 и даже 50 верст: всего на 710 верстах 16 станций. Из этих мест остановки, на двух станциях есть довольно чистые комнаты, нечто среднее между русской и якутской постройкой. Остальные станции — якутские юрты; из них две-три не очень неопрятны; другие — плохи относительно чистоты воздуха: тут вместе с хозяевами помещается и скот: коровы, телята. — Зимою путь недурен, если снега выпали не очень глубокие; но дорожка, проложенная ездой, так узка, что повозка очень посредственной величины уж не может ехать: она вязла бы одним полозом в рыхлом цельном снегу. Потому ездят лишь на таких санях, у которых ширина между полозьями меньше обыкновенного. — Кроме зимнего пути, другого удобного нет: от весны до осени почту в Якутск возят верхами, а приезжающих вовсе не бывает, кроме совершенно необходимых случаев, когда путник решается ехать по болотам верхом. Почта в Якутск ходит раз в два месяца.
Впрочем, что касается меня, я здесь живу удобно: дом, в котором я помещаюсь, имеет большой зал и пять просторных комнат; все это очень опрятно; совершенно тепло. Почему я расположился так просторно? — Потому что дом стоял пустой, и если бы я не поселился в нем, оставался бы пустым. Это лучший дом в городе и был бы недурным домом даже и не в таком крошечном городе.
Пишу об этом так обстоятельно для того, чтобы ты, моя милая радость, была убеждена: я живу здесь удобно.
Целую детей. Крепко обнимаю тебя, моя милая голубочка. Целую твои ручки и глазки. Будь здоровенькая, и все будет хорошо.
Твой Н. Чернышевский.
496
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 27 марта 1872.
Милый мой друг Олинька,
Я получил твои письма от 22 и от 29 ноября. Благодарю тебя за них. Получил и три портрета твои, которые посланы с этими письмами. Ты остаешься совершенно прежняя, милая моя радость; и, очевидно, еще долго, очень долго останешься такою же. Только заботься, умоляю тебя, о твоем здоровье.
Я совершенно здоров, по своему обыкновению. Живу, как уж и писал тебе отсюда, попрежнему хорошо. Нового в моем быте нет ровно ничего; кроме того, разве, что вместо хорошего мяса,
33 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
513
которым исключительно кормился за Байкалом, где нет рыбы, кормлюсь теперь, по своему предпочтению к рыбе, гораздо больше ею (здесь она прекрасная), нежели мясом, — которое здесь, впрочем, тоже недурно, и в котором благодаря доброжелательству здешних жителей, — запасающихся им на год, — не имею недостатка. Те, кто живет здесь своим хозяйством, заготовляют все необходимое на целый год, — кроме рыбы, которая почти постоянно попадается в продаже. — Вообще, Вилюйск нечто вроде маленького базиса среди пустыни; да и сам этот оазис почти ничего не производит. Даже скотоводство в городе ничтожно: кругом города — пески, леса и болота; сенокосных мест мало. Поэтому и население в городе существует почти только торговлей с якутами, разбросанно живущими по реке, главным образом вверх от города. Если хочешь приобрести более подробные сведения о Вилюйске и Вилюйском крае, достань ту книжку «Записок Сибирского отдела Географического общества», в которой помещена статья Кларка «Вилюйский край»; — это или шестая, или 7-я, или 8-я книжка «Записок». Говорят, что в статье Кларка все дельно и верно. Сколько я могу судить, этот отзыв о ней справедлив. — Есть более обширное описание Вилюйского края — «Экспедиция Маака»; но этой книги я не читал; кажется, она издана в Петербурге, а не в Иркутске; и если так, тем легче найти ее в Петербурге.
Морозы прошли; дня три уж солнце греет так, что снег из сухого начал делаться несколько влажным, — около середины дня, разумеется; к утру опять бывает рассыпающимся в пыль, как земля в засуху. Трава показывается здесь в половине мая. В половине сентября земля снова застывает.
Но в комнатах здешних домов тепло и в самые жестокие морозы. Правда, дров не жалеют вилюйцы. Кроме печей, у них есть, как они называют, камельки: камелек — очаг якутского фасона; дрова горят на нем с утра до ночи. Впрочем, есть в городе, кроме домиков русской постройки, и юрты; это — будто землянка, только не врытая в землю, а обсыпанная (вернее облепленная) землей или засохшей грязью. Вместо стекол в окошечках юрты зимою льдины, летом — пузырь; льдины зимой вставляют в окна некоторые даже из зажиточных вилюйцев, воображая, будто бы льдина теплее двойной рамы. В хороших домах, разумеется, нет таких странностей: в них все по обыкновенному русскому.
Я уж писал тебе, что дом, в котором я живу, и просторен и хорош. В комнатах было тепло и при сильнейших морозах.
Благодарю Сашу за его письма. Целую его. Целую и Мишу. Заставляй и его писать почаще.
Крепко обнимаю тебя, моя радость, и тысячи тысячи раз целую твои милые руки. Будь здоровенькая и — пожалуйста, будь веселенькая, моя милая.
Твой Н. Чернышевский.
514
497
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 3 апреля 1872.
Милый мой друг Оленька,
Я получил твои письма от 21 и от 24 января. Благодарю тебя за них, моя радость.
Ты хочешь ехать сюда жить. О, мой милый друг, умоляю тебя, повремени исполнением этого желания. Может быть, через полтора года, — может быть, через год, — может быть, и через полгода я попрошу тебя доставить мне счастье видеть тебя и детей. Но подожди, пока это будет моей просьбой к тебе. До той поры повремени.
Объясню тебе некоторые из причин, делающих эту отсрочку необходимостью. Вилюйск лежит в климате, слишком несоответствующем условиям твоего здоровья. Для меня этот воздух не вреден. Но вспомни, что мой организм — хоть далеко не атлетический, совершенно крепок, и нервы у меня — апатичные, как у самого флегматического быка или барана. С твоими нервами, с твоим здоровьем жить здесь положительно невозможно.
Прибавь: здесь нет медика: и ближайшие медики — в Якутске, за 700 верст; эти 700 верст удобны для проезда лишь три, четыре месяца в год; в остальные времена года, если послать за медиком, посланный едва ли дотащится до него в неделю; а медик — разумеется, неспособный переносить трудностей пути, как полудикий здешний рассыльный, якут или объякутившийся русский (забывший и говорить по-русски) — медик едва ли может и доехать здоровым, если будет иметь возможность поехать. Но может случиться, что он, при всем своем добром желании, не будет иметь этой возможности: число медиков в Якутске очень невелико; у каждого из них свои обязанности, от которых нельзя отлучиться, не передав их другому на время отлучки; а передать иногда некому.
Я не опасаюсь за себя, что я сделаюсь болен: судя по прошлым годам и по нынешнему своему гигиеническому состоянию, я считаю себя застрахованным еще на несколько лет от болезней или от упадка здоровья. Но занемочь здесь сколько-нибудь серьезно — это значило бы наверное умереть. Не тревожься, это я говорю только в объяснение, почему не могу согласиться, чтобы ехала сюда ты; ко мне самому эти опасности не прилагаются по крайней мере лет еще [на] десять или на пятнадцать: я мужчина, я здоров, я постоянно спокоен мыслями, очень осторожен в гигиеническом отношении; потому, пока не придут старческие немощи, — а до них еще не близко мне, — мне не нужны ни медики, ни аптеки.
33*
515
Вот соображения и другого рода, подкрепляющие мою решимость умолять тебя повременить поездкою ко мне: Вилюйск — это по названию город; но в действительности это даже не село, даже не деревня в русском смысле слова, — это нечто такое пустынное и мелкое, чему подобного в России вовсе нет. Надобно вообразить хутор, в котором возможно жить лишь потому, что он подле города или большого села, где есть товары, и надобно перенести воображением этот хутор в пустыню, за 700 верст от ближайшего рынка; да и на этом рынке слишком часто не бывает слишком многих самых необходимейших товаров: мне говорили, например, что далеко не всегда можно купить в Якутске тарелку или нож с вилкою, или самый простой стакан; привезенные прошлым летом все раскуплены — и жди до следующего лета, когда привезут. Цены очень дорогие, разумеется, если и найдешь нужную вещь. — Опять не смущайся этим за меня; что необходимо для меня, я имею все; пишу это не для фразы, а по чистой правде. Но зато, ты помнишь, я не только не нуждался никогда в комфортабельной обстановке, я всегда стеснялся и тяготился всеми теми житейскими удобствами, которые необходимы для людей, не снабженных от природы моими телячьими нервами. Мне тепло; есть хлеб, есть мясо или рыба, есть чай, — все кроме этого для меня лишнее. Но не только тебе, женщине, даже и Саше, юноше, и, вероятно, не слишком любящему комфорт, было бы слишком неудобно жить здесь.
А мне хорошо; это я говорю серьезно, а не только для твоего успокоения.
Если бы не рассудил я, что письмо уж достаточно длинно, я прибавил бы еще некоторые соображения для той же цели: для подкрепления моей мольбы к тебе, чтобы ты подождала несколько времени решаться ехать ко мне. Заклинаю тебя, моя радость: повремени; когда будет можно, я напишу тебе «теперь жду тебя», — может быть, до такой хорошей поры и не очень долго временить нам с тобою.
Будь здоровенькая и веселенькая. Целую тебя.
Благодарю Сашу за желание ехать с тобою, когда ты поедешь. Тем, что он бросил бы университет для этого, нечего было бы смущаться: хоть я и порядочно много отстал, от ученого движения, но смею полагать, что все еще остаюсь человеком обширной и глубокой учености и что в беседах со мною Саша нашел бы достаточную замену университетских лекций. Поживши со мною два, три года, он мог бы вернуться хорошим соискателем на профессорскою кафедру в Петербургском ли, в каком ли угодно другом университете.
Целую Мишу.
Крепко обнимаю тебя и тысячи раз целую твои руки, моя милая радость.
Твой Н. Чернышевский.
516
498
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 17 мая 1872.
Милый мой друг Оленька,
С тех пор, как живу здесь, я получил от тебя следующие письма:
от 1 октября; 22 ноября; 29 ноября; 6 декабря; 25 декабря (1871 г.) и (1872 года) от 21 января, 24 января и, вчера, от 10 февраля, — восемь писем. Кроме того, на пути сюда, в Иркутске, было отдано мне твое письмо от 8 ноября (1871).
Сам я писал тебе: из Иркутска около 18 декабря и отсюда: первое письмо около 15 января; второе около 1-го февраля; третье около 27 марта; четвертое около 1 апреля; это, нынешнее, пятое.
Перечисляю не потому, что сомневаюсь, все ли письма твои доходят до меня и мои до тебя, — нет, это видно, что пересылаются и те и другие аккуратно, без задержек. Но путь и далек и труден: бывают запаздывания в проезде почт; поэтому не смущайся и не огорчайся, если бы иногда случалось тебе остаться без письма от меня дольше, нежели ты рассчитывала бы.
Да, моя радость: путь сюда далек и очень труден; да, самая почта почти круглый год не в силах итти сюда без страшных опасностей и долгих промедлений. От половины апреля до конца года, — восемь с половиною месяцев, переезд от Иркутска до Якутска — тяжелое и очень рискованное предприятие; труднее, чем какие-нибудь путешествия по внутренней Африке. От Иркутска сюда в эти месяцы езда положительно невозможна для людей, непривычных вести якутский образ жизни.
Около Нового года лед на Лене и других реках и речках [не] перестает покрываться глубокой водой с тонкой обманчивой коркой, сквозь которую проваливаются и нередко тонут проезжие, еще чаще подвергаясь опасности окоченеть в этой воде и не провалившись. (Эти наплывы воды посверх льда, с обманчивой ледяной скорлупой, называются здесь наледями). На три с половиной месяца дорога делается не более опасной, чем всякая другая почтовая дорога. Но только самая дорога, по которой ехать; а ехать по ней все-гаки очень трудное дело: пустыня; пищи не найдешь; никакой помощи в случае какого-нибудь обыкновенного дорожного приключения; станция — громадные расстояния (сюда от Якутска, обыкновенно по 50 верст); лошади по недостатку корма слабы, чрезвычайно слабы; дики, пугливы. Прибавь: путь так узок, что хорошему экипажу нельзя ехать из Якутска сюда; и например, я сам видел, что в Якутске была брошена легкая, небольшая повозка, принадлежавшая к моему маленькому каравану, и заменена более легкими санями с более узким расстоянием между полозьев. Прибавь: ужасные якутские юрты, вместо стан-
517
ций. В этих юртах несравненно хуже, нежели в порядочных конюшнях.
А здесь? — Вот что здесь: меня просили (мои скромные и добрые сожители) достать хоть четверть фунта мыла (мне купцы по доброму расположению соглашаются продавать вещи не из продажных, а из принадлежащих к их собственному хозяйству; гак я купил, например, подсвечник, немножко горчицы, нечто вроде тарелки и тому подобное). Я просил: «Дайте хоть ¼ фунта мыла». — «У самих нет; нечего дать вам» — ответ купцов, и ответ совершенно искренний.
И купцы эти! Один между ними — богач; такой богач, что по всеобщему убеждению «может купить весь город со всем округом» — подлинное выражение жителей. Этот купец сам ухаживает за своим скотом; на его жене платье, какое постыдится надеть горничная в Петербурге или хоть бы и Саратове. Едят один раз в сутки. — Скряжничество? — Нет; дело проще и хуже скряжничества: первый здешний богач считался бы человеком бедным в каком угодно русском городе.
Можешь теперь представить себе, каковы удобства жизни здесь при такой нищете всего крошечного населения. Жаль смотреть на этих людей. Я присмотрелся к нищете; очень присмотрелся. Но к виду этих людей я не могу быть холоден: их нищета мутит и мою закорузлую душу. Я перестал ходить в город, чтобы не встречать этих несчастных; избегаю тропинок, по которым бродят они на опушке леса.
А нравы их? Вот анекдот, чтобы не все было мрачно, было бы что-нибудь и забавное в моем письме. Они при встрече снимают шапку за двадцать шагов и стоят (на 30-градусном морозе) с открытыми головами (это им не вредит, по общему здешнему убеждению). Как тут быть с ними? По-русски они не понимают. Я вздумал так: подхожу, беру у этого встречного шапку из его рук и надеваю ему на голову; потом отхожу, кланяюсь ему, надеваю свою шапку, показываю ему знаками, что и он должен так делать: поклонися и опять надень шапку, а стоять без шапки на морозе и ждать, пока я пройду несколько десятков сажен, эго лишнее. Многие понимали эту мою процедуру с первого приема. Но многие — лишь начну я протягивать руку, чтобы надеть его шапку ему на голову, пускались бежать от меня, воображая, что я намерен драться: отбежит, стоит и смотрит, бегу ли я за ним бить его. Я рассмеюсь; тогда и он поймет, что ошибся, тоже хохочет. — Кстати, о хохоте. Шел я по песчаному холмику; песок посыпался, я поскользнулся и свалился. В десяти шагах стоит якут; смотрит; видно, что приключение кажется ему забавно, — но, бедняга, не смеет улыбнуться. Вставши, я повернулся к нему и засмеялся. Тогда дерзнул засмеяться и он.
Что это такое? Люди ли это или хуже забитых собак, животные, которым нет имени? — Люди, и добрые, и не глупые; даже,
518
может быть, даровитее европейцев (говорят, что якутские дети учатся в школах лучше русских). Но это жалкие, нищие дикари, каких нет жалче на свете; дикари, подобные готтентотам, хуже негров центральной Африки.
И русские среди них стали очень похожи на них. Нет возможности иметь с этими русскими никакого разговора; он или она трус или трусиха до такой степени, что в каждом слове подозревает какую-то гибельную для него или для нее ложь. Таковы они не со мной только, таковы между собой. Вот, например, расскажу еще анекдот. Купчиха говорит мне: «У нас есть служанка, немая; хорошая служанка». — «Почему ж это вы держите немую? Это неудобно, немая служанка». — «Мы боимся таких, которые говорят». — Что такое? Семейство воров? Или делают фальшивые деньги? — Нет, доброе и честное семейство. Но по-здешнему, это ум, иметь немую служанку.
Такова-то страна, Вилюйский край. Для меня это все равно. Я не имею надобности ни разговаривать с людьми, ни видеть их: книга заменяет их мне. Но другим жить здесь было бы невыносимо.
А климат! — «Бывают здесь убийства?» — «Нет, народ смирный; но самоубийства часты». — «Отчего же?» — «От солитера; здесь почти у всех солитер и наводит такую меланхолию, что человек возьмет да повесится». — Кроме того, множество всяческих недугов; климат Петербурга — идеал здорового климата сравнительно со здешним.
Это все я пишу, чтобы ты, моя радость, поняла серьезность моей мольбы к тебе: не приезжай сюда, заклинаю, не приезжай. Подожди, пока переведут меня жить куда-нибудь, где больше возможности жить и тебе. — Вероятно, переведут скоро; так я сужу по всем приметам. Сюда не езди, умоляю тебя. — Но мне удобно жить и здесь. Даже очень удобно, говорю это совершенно серьезно и искренно. Что возможно, то все делается для доставления мне по возможности удобной жизни, — и даже более удобной, чем какую мог бы я вести без вреда и стеснения себе при моем хорошем здоровье и нелюбви к лишнему камфорту.
Деньги (250 р.) я получил. Благодарю тебя за них. Целую Сашу и Мишу. Крепко обнимаю тебя.
Твой Н. Чернышевский.
499
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
1 июня 1872. Вилюйск.
Милый мой друг Олинька,
В трех первых моих письмах отсюда я говорил тебе о том, что доехал сюда очень хорошо и что жизнь моя здесь устроилась
519
очень порядочно, — пожалуй, даже прекрасно. Это я писал тебе правду. Повторяю ее и теперь.
Но после того, как я послал тебе третье мое письмо отсюда, я получил твое письмо от 24 января, в котором ты выражаешь намерение приехать жить вместе со мною, и в следующих двух своих письмах к тебе я объяснял тебе подробно, почему это твое намерение должно быть оставлено без исполнения, — до поры, когда меня переведут жить куда-нибудь в другое место, представляющее более удобств жизни для тебя. Считаю бесполезным распространяться в третий раз о том, что излагал уже два раза. Повторяю только: отложи мысль ехать сюда; умоляю тебя, отложи. И прибавляю для твоего успокоения за меня самого: мне, — но мне, мужчине, здоровому, не нуждающемуся ни в лекарях, ни в лекарствах, ни в знакомствах с людьми, ни в комфорте; — мне здесь можно жить и без вреда моему здоровью, и без скуки, и без всяких лишений, ощутительных моему мало-разборчивому чувству вкуса. Так я живу здесь: здоровый, как только можно желать, нескучающий, довольный моей обстановкой, довольный всеми людьми, с которыми вижусь, а к некоторым из них и признательный, искренно и справедливо признательный. В самом деле, как не быть признательну, например, к доброму семейству, от которого я получаю стол? — Это люди очень небогатые, но вовсе не такие бедные, чтобы плата, которую берут они с меня за стол, была сколько-нибудь заманчива для них; я полагаю, что они даже не имеют ровно никакого остатка от моих денег в вознаграждение за свои труды по приготовлению пищи; сколько могу судить по здешним ценам, все получаемое от меня ими расходуется на покупку припасов для моего кушанья. А между тем, сколько хлопот и трудов стоит им приготовление моего кушанья! Когда я просил их об этой услуге, я не знал и не умел вообразить, какое тяжелое бремя возлагают на себя эти почтенные дамы, соглашаясь кормить меня. В чем же хлопоты им? — да во всем. Во-первых, трудно найти мясо или рыбу, — не весь год это трудно; но, наверное, около полугода. Это началось с апреля и продлится, по их словам, до августа; я знаю теперь, это они говорят лишь из деликатности; на самом деле ни мяса, ни рыбы не будет здесь в продаже до октября или до ноября. Но благодаря их заботливости я имею каждый день достаточно, даже изобильно, мясо или рыбу хорошего качества. А само это семейство, — не богатое, но не бедное — чем оно питается теперь? — прочтешь дальше. — У них есть прислуга; кажется, даже много прислуги. Я воображал, что кушанье готовит кухарка, хозяйки лишь присматривают и учат. Нет. Готовят сами. Даже хлеб пекут сами. Нет возможности научить здешнюю служанку ни малейшей опрятности. Она убеждена, что опрятность — это глупость. Страшно подумать, как грязно живут якуты и навыкли от них жить русские простолюдины здесь. — Мне стало совестно, что эти дамы
520
готовят мне кушанье отдельно от своего; я сказал: «Вы делаете себе лишние хлопоты; присылайте мне только то, что готовите сами для себя». — Три дня присылали, я думал, привыкну и буду сыт. Нет. Это ячменная кашица на воде с примесью молока. Невкусно, — это бы еще так и быть; но сколько ни есть, все-таки чувствуешь себя голодным. А ты знаешь, я не обжора. Все жившие со мной в России ли, в Сибири ли, находили, что я ем довольно мало. Но здесь едят так, что я не могу быть сыт. И, нечего делать, добрые дамы, вероятно, посмеявшись над моей фантазией довольствоваться их пищей, стали опять готовить для меня особо. — Как же не быть признательну к ним?
И вообще люди здесь добры; почти все честны; некоторые, при всей своей темной дикости, положительно благородные люди. Но видеть, как они живут, бедняжки, — даже и не бедные между ними, тоже бедняжки, — видеть их нищую — даже и при деньгах, нищую — жизнь, видеть это, мутит душу. Я и не смотрю по возможности.
Но довольно об этом. Повторю только: мне самому здесь достаточно хорошо; тебе, — и не только Тебе, даже Саше, — здешняя жизнь была бы вовсе непригодна. Умоляю тебя, отложи мысль ехать сюда.
Ты пишешь, моя радость, что делаешь портрет свой масляными красками. Я давно просил тебя об этом. Пожалуйста, пусть будет сделан, сделан хорошим художником. Но присылать сюда мне — это значило бы подвергать портрет порче; сюда едва ли можно довезти картину, не изломавши, не изорвавши. Такова дорога. Сделай портрет и оставь у себя, пока я приеду к тебе или ты приедешь ко мне в какой-нибудь русский ли, сибирский ли город, более удобный для жизни тебе, нежели Вилюйск. Подождем, и будь уверена, дождемся всего хорошего.
Только прошу тебя, заботься о своем здоровье. Обо мне не тревожься: я совершенно здоров и останусь таким, вероятно, еще очень долго.
Я получил 250 рублей, которые ты послала мне. У меня теперь очень довольно денег. Не скупись на них для себя. Мне страшно было прочесть, что ты жалеешь денег на свое леченье. Прости меня, моя радость, за лишения, которым я подверг тебя. Прошу прощенья и у детей наших.
Благодарю Сашу за его письма. Все, что ты, милый мой Саша, пишешь о себе, хорошо и умно. Советую тебе только одно: советуйся обо всем с матерью; и не делай ничего такого, чего она не одобрит, — и никогда не сделаешь ничего дурного или неблагоразумного. То же правило внушай и Мише.
Целую обоих вас, мои милые Сашенька и Мишенька.
Крепко обнимаю тебя, моя радость. Будь здоровенькая и старайся быть веселой.
Твой Н. Чернышевский.
521
500
О. С. и А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
30 сентября 1872. Вилюйск.
Милый мой друг Оленька,
Я получил твои письма от 28 марта, от 16, 17 и 29 апреля. Благодарю тебя за них, моя радость. Получил также и письмо Саши от 7 апреля; благодарю его. Благодарю и Мишу за приписки к твоим письмам.
Я совершенно здоров; так здоров, что в этом отношении не могу желать и тебе с детьми ничего лучшего.
Живу попрежнему, то есть хорошо.
И ты, моя радость, и Саша, вы спрашиваете у меня советов по своим делам. Милый мой друг, время от той поры, как пишется вопрос, до той, как приходит мой ответ несколько месяцев. Возможно ли мне при этом громадном расстоянии времени решаться советовать так или иначе? — Пока идет ответ, и мысли твои или Сашины, и обстоятельства, могут перемениться. Поэтому, друг мой, считаю рассудительным с моей стороны только один совет: руководись исключительно своими соображениями и прими на себя обязанности руководить Сашу своими советами. Я уж писал ему и прежде, повторю и теперь:
«Милый мой сын и друг, советуйся обо всем с маменькой; следуя ее советам, никогда не будешь иметь поводов сожалеть о своих поступках: всегда будешь поступать хорошо».
Так, мой друг Сашенька. То же самое внушай и брату.
Радуюсь тому, что ты, моя милая, здорова; радуюсь успехам детей в занятиях.
Я получил книги, которые были посланы мне в конце прошлого или начале нынешнего года. Благодарю за них. Получаю также «Вестник Евр[опы]».
Ты спрашиваешь, моя милая, не нужно ли мне еще книг? — Милый мой друг, книги стоят денег. Это удерживает меня от просьб о новых посылках. — В прошлом письме я говорил, что еще не умею рассчитать, будут ли мне нужны деньги вперед, а что присланных достанет во всяком случае до половины следующего года Так остается в моих мыслях и теперь.
Ты просишь меня писать чаще. Почта отсюда ходит раз в два месяца. Я пишу с каждой почтой.
Повторяю: я живу здесь хорошо. Это чистая правда.
Не беспокойся же за меня, моя радость. Заботься о своем здоровье, — и все будет хорошо.
Тысячи раз обнимаю тебя, мой друг, и целую твои ручки. Целую детей.
Будь же здоровенькая и старайся быть веселой.
Твой Н. Чернышевский.
522
501
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
11 октября 1872. Вилюйск.
Милый друг мой Оленька,
Целую тебя за твои письма от 31 мая, 20 июня, 3, 13 и 19 июля. Ты выражаешь в них с достойным тебя самоотверженным чувством любви намерение приехать сюда. Отвечаю как можно короче, в надежде, что краткость моего письма поможет поскорее дойти до тебя, чем я очень дорожу.
Ты знаешь, что твоя любовь ко мне — все счастье моей жизни. Стало быть, нечего говорить о том, желал ли б я, чтобы жить нам с тобою вместе, если б это было возможно. Но возможно ли это — вопрос, который подлежит решению в Петербурге.
От кого зависит решение, я не знаю определительно. Полагаю, что для удовлетворительного решения необходимо внесение дела на высочайшее усмотрение. Без того нельзя решить вопроса так, чтобы твое спокойствие подле меня было достаточно обеспечено.
Почему я так думаю, пусть будет все равно. Пусть будет довольно для тебя знать, что я так думаю.
Умоляю тебя, пощади себя. Не предпринимай поездки с такими недостаточными гарантиями, как в 1866 году. Заклинаю тебя, пощади себя.
И если бы оказалось, что можно тебе ехать жить со мною, то видеть тебя здесь, — и не здесь только, но хоть бы где-нибудь в Якутской области, хоть бы в самом Якутске, было бы смертельным мучением для меня. Не подвергай меня такому страданию.
Но мне одному, — мужчине, здоровому, привыкшему жить в тех условиях, в каких живу, — мне здесь недурно. Это я говорю тебе по совести: моя жизнь здесь достаточно хороша для меня.
Я совершенно здоров. Благодарю Сашу за его письмо. Целую его и Мишу.
Тысячи и тысячи раз обнимаю и целую тебя, моя милая.
Твой Н. Чернышевский.
502
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
2 декабря 1872. Вилюйск
Милый друг Оленька,
Два месяца тому назад я написал тебе в довольно коротких словах ответ на вопрос твой о том, можешь ли ты приехать ко мне. Повторяю теперь на всякий случай те же мысли еще короче, по предположению, что чем короче, тем скорей будет прочтен тобою мой ответ.
С той минуты, как я в первый раз увидел тебя, мой милый друг, не было в моей жизни ни одной минуты, я могу смело сказать тебе, которая прошла бы без мысли о тебе; ты сама знаешь
523
это; только потому я не опасаюсь писать тебе уверение, которое слишком немногими мужьями может быть высказываемо женам, по правде, совершенно чуждой всякого преувеличения, как высказывается тебе мной.
Но то же чувство обязывает меня сказать тебе совершенно решительно, что мысль о моей смерти, вовсе не привлекательная для меня, все-таки гораздо менее тяготила бы меня, нежели мысль видеть тебя здесь. Довольно этого.
Из того, как выражаюсь я о моей смерти, ты можешь вывесть приятное и верное заключение, что мое здоровье позволяет мне надеяться дожить до порядочно-глубокой старости. Успеем еще, моя милая радость, пожить вместе с тобою; поживем вместе подольше, много подольше времени, сколько длилось и — теперь, вероятно, не очень много уж, может еще продлиться надобность мне желать, чтобы твоя жизнь шла не вблизи, а вдали от меня.
Прошу тебя, как всегда, об одном: пусть забота о твоем здоровье будет исключительной твоей заботой.
Для людей из России не с моими привычками здешний климат нехорош. Дело не в морозах; мороз в 20 или в 45 градусов, это уж почти все равно, поэтому собственно к морозу здешнему нам русским и привыкать почти не нужно, — дело в самом климате, в воздухе: он нехорош, кроме как во время сильных морозов. Кругом болота. А земля вечно мерзлая внизу. Все месяцы тепла проходят в том, что она понемножку оттаивает; поэтому от начала здешней весны до конца здешней осени длится то нездоровое время, какое бывает в России только две-три недели, пока высыхает, согреваясь, промерзавшая зимой земля. Здесь эта сырость воздуха от высыхания земли — сырость вовсе не такая, как от дождя — проходит только зимой. — Но при моих привычках это ничего не значит. Я привык быть очень осторожным. Я не только ем, но и чай пью постоянно наблюдая за собой, «не лишний ли будет этот глоток пищи или чаю». Я так привык к этому, что это уж похоже на инстинкт, — не могу по ошибке съесть лишнее: не идет в горло. Так и во многом другом. Например, ты знаешь, я терпеть не мог ходить. Но ходить — это нужно для здоровья. Мне лень. И я сам понимаю, что не беда иной раз полениться, пролежать весь день с книгой, как мне нравится. Но привычка берет верх. С досадой на себя, а надеваю шубу, иду и брожу. И самому опять смешно: «довольно ходил; можно б итти назад в комнату», а нет-таки, продолжаю бродить без надобности. Приучить себя к этому было для меня, конечно, труднее всего. А приучил-таки.
Зато уж несколько лет я не чувствовал ни на один день свое здоровье сколько-нибудь не совсем хорошим. И могу иметь уверенность, что не подвергнется оно ослаблению и от здешнего климата. Вот почти год прожил здесь. И чувствую себя так же хорошо, как и три, и четыре года назад. — Я небрежен, неосторожен, забывчив во всем том, о чем, по моему мнению, не стоит думать. Но в чем
524
кажется мне полезно, в том я держу себя, как хочу. Для смеха скажу: если б вздумалось мне выучиться петь, и тому, я думаю, выучился бы, хоть другого такого голоса и других таких ушей поискать.
Целую детей. — Благодарю тебя за письма; получены мною писанные тобой 31 мая, 20 июня, 3 июля, 13 июля; и Сашино от 27 июня.
Живу хорошо; вообще всем и всеми доволен. И довольно давно не было случая, чтобы хоть один час или полчаса не был в самом хорошем настроении духа, так что могу назвать себя одним из людей на целом свете, наиболее довольных и самими собой и всем окружающим. — Будь только ты здорова и старайся быть хоть вполовину такой веселой, как я — и половины довольно, чтобы и скука и грусть оставались вовсе неизвестны. Пожалуйста, моя радость, будь, какой прошу тебя быть. — Обнимаю тебя тысячи и тысячи раз. Целую Сашу и Мишу.
Обнимаю опять и опять тебя.
Твой Н. Чернышевский.
503
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
8 февраля 1873. Вилюйск.
Милый друг Оленька.
Я совершенно здоров по своему обыкновению, от которого предполагаю не уклоняться еще лет двадцать и которое советую тебе, моя радость, принять. Хорошее правило. У тебя здоровье от природы несравненно более сильное, чем у меня. Старайся только проводить время так, чтобы поддерживалось спокойное, хорошее настроение души, да веди такой образ жизни, какой предписывает гигиена; и не только будешь женщиной очень крепкого здоровья, даже помолодеешь.
Мой организм не имеет от природы такого избытка нервической силы, как твой. Поэтому и гигиенические предписания, хорошие для моей посредственной организации, — прогулка часа два в день, например, и довольно; остальное время, лежу и читаю, — для тебя недостаточны. Тебе нужно много, много деятельности, и движения, и развлечений. Доставляй себе побольше, как можно побольше всего этого, и живи со дня на день, так чтобы не задумываться много о прошлом, не раздумывать много о будущем. В прошлом все хорошо. И пусть думают о нем наши дети, которым полезно думать хорошее о матери и отце: чем больше уважают и любят дети своих старших, тем лучше для их собственной жизни. А самим нам с тобой можно и не слишком интересоваться вопросами о том, хорошие ли мы люди. Каковы были, таковы и останемся: ни хуже, ни лучше, чем были до сих пор. Это о прошлом. А будущее — кому ж оно известно? — только людям, много изучавшим всеобщую историю человечества; только тем, которые
525
вместе и ученые и мыслители. Я причисляю себя к ним. А ты, моя милая, серьезными книгами не занималась и по живости темперамента едва ли способна проводить время в таком скучном чтении сочинений, почти все сплошь наполненных скучнейшими глупостями, — как золотые россыпи, в которых почти все вещество — песок и тому подобная, ни к чему не пригодная дрянь. Вымывать из этого хлама золото — скучнейшая работа. Люди умные живого темперамента должны заниматься чем-нибудь менее скучным и однообразным и почти бессмысленным. Ты и не занималась этой почти бессмысленной скукой. И прекрасно, что не занималась. Голова меньше утомлена и засорена пылью от книг. Но судить о будущем нет у тебя готовой массы материалов. И доставить тебе эти материалы некому, потому что таких людей очень мало на свете. И общество и масса ученых — это флюгеры, которые вертятся во все стороны, у которых в мыслях неурядица, а в разговорах — семь пятниц на одном дне, не только на одной неделе. Брось же думать о будущем. Живи со дня на день, и все будет хорошо и со стороны физического твоего здоровья и со стороны душевного настроения.
Я получил твои письма от 29 июля, 24 августа, 6 октября (Сашино, с твоей и Мишиной приписками), от 12 октября (о твоем, к счастью, недолгом серьезном нездоровье; кстати, не езди на плохих извозчичьих экипажишках и лошаденках; лучше два раза пройти пешком, чтобы в третий нанять порядочную коляску; и еще кстати по поводу денежной экономии: у меня мало расходов здесь; и денег достанет на два года, я думаю, если и не будешь присылать в этом году), от 16 октября (с 200 рублей, за которые благодарю тебя) с приписками обоих детей; от 8 ноября и от 14 ноября (Сашино с твоей припиской). Благодарю тебя за них.
Если надобно тебе узнать обо мне что-нибудь такое, о чем я или забываю, или не догадываюсь, или нахожу неудобным говорить в моих письмах, поручай какому-нибудь первому встречному человеку с орденской лентой через плечо, — первому встречному генералу или тайному советнику, съездить от твоего имени получить официальные сведения официальным путем. Смею уверить тебя, разве один из десяти таких людей не почтет за удовольствие себе исполнить твою просьбу. Милый мой друг, исторические запутанности и надобности принуждают официальных людей принимать иногда и какие-нибудь официальные меры, изменяющие домашнюю жизнь какого-нибудь отдельного частного человека невыгодным для него и его семейства образом. Но те из официальных людей, которые занимают положения достаточно высокие для того, чтобы иметь широкий кругозор, не руководятся в этих случаях никакими личными неприязненными чувствами и не имеют лично ничего, кроме уважения к человеку — например, такому, как твой муж. И я не имею никакого неудовольствия ни на кого из отдельных официальных людей, ни на какое официальное собрание их.
526
Например, — чтобы говорить о самом важном в официальном смысле, из людей, участвовавших в моем процессе. Председательствовавший в том департаменте тогдашнего Сената, Карниолин-Пинский, несмотря на то, что некоторые из моих официальных объяснений с ним не могли действовать на него приятным образом, имел очевидное личное расположение ко мне. Это было ясно для всех умных людей в том судебном зале: и для других сенаторов, и для чиновников. — То же самое скажу и обо всех, занимавших должности приблизительно такие же высокие, как он. Ни в ком из людей высоких официальных положений не видел я ничего, кроме уважения и личного расположения ко мне.
Мало ли что бывает с людьми! — Не то, что со мной, — то, что было со мной, мелочь: бывало и бывает во всех странах, не в России только, и несравненно более неудобное или тяжелое для семейств этих людей. Это исторические надобности. И не стоит ни дивиться, ни особенно огорчаться тебе, что вышла на несколько времени неприятная для тебя перемена в нашей с тобой частной жизни. Смотри на это хладнокровнее. — На Кавказе, в Крыму, в войне Пруссии с Австрией, Германии с Францией, — сколько десятков тысяч жен потеряли мужей невсегда? — Как быть. И кому из официальных людей в каком-нибудь из этих государств было это приятно? — Но как быть! — Так выходило. Никто тут не мог поступать иначе.
А ты — не вдова; будем еще жить с тобой вместе. Будь спокойнее мыслями.
Вот мои ответы на твои вопросы. Если этих недостаточно, я полагаю, что не найдут неудобным дать тебе официальные ответы на всяческие твои вопросы обо мне, лишь бы твои вопросы были предлагаемы через кого-нибудь из людей, лично известных официальным людям, известных, серьезных, уважаемых.
Благодарю Сашу и Мишу за их письма. Целую их.
Крепко обнимаю и тысячи раз целую твои ручки и твои милые глаза. Будь здоровенькая и старайся быть веселой, моя милая радость.
Твой Н. Чернышевский.
504
О. С. и А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
Вилюйск. 31 марта 1873.
Милый мой друг Оленька, радость моя,
Я получил твои письма от 6 декабря и 10 декабря (с припиской Саши), письмо Саши от 19 декабря и твое письмо от 14 января (это уж нынешнего года). Благодарю Сашу и Мишу за то, что они пишут мне. А за твои письма, целую руки у тебя.
По обыкновению я совершенно здоров. Желаю тебе, моя радость, пользоваться таким же неизменно хорошим здоровьем,
527
как я. Для этого необходимо, разумеется, иметь тебе такое же спокойствие мыслей, как у меня, такое же постоянно хорошее настроение духа. У меня это держится само собой, по моему равнодушному темпераменту. У тебя характер очень живой; чтобы на душе у тебя было легко и весело, надобно тебе заботиться, чтобы время твое шло разнообразно и чтобы жизнь давала тебе много приятных впечатлений. Это очень возможное дело, благодаря природной твоей энергии воли: захочешь, то и можешь. Пожалуйста же, и старайся не хандрить; ты имеешь столько силы характера, что это в твоей власти. Маленькое усилие над собой, — и разогнана будет твоя скука, и будет итти время у тебя весело. Тогда здоровье твое будет цветущее. И все будет хорошо.
Дети радуют тебя, как мне кажется, тем, что вырастают людьми умными, честными, добрыми. Будут постарше, будут и еще больше радовать тебя, надеюсь.
Милый мой Саша, ты уж взрослый человек. В твои лета, когда начинает жизнь устраиваться на весь век, особенно полезно человеку иметь мать постоянной советницей, задушевнейшим другом. Надеюсь, ты сам знаешь это. Прошу тебя, внушай и Мише, насколько понятно ему по его летам, что самое лучшее средство сформироваться хорошим человеком и рассудительно устраивать свою жизнь — советоваться обо всем с матерью.
Милая моя Оленька, старайся о том, чтобы детям было приятнее всего проводить время там, где ты. Для этого необходимо, чтобы ты сама проводила время не в скуке. Необходимое для твоего собственного физического здоровья, необходимо также для умственного и нравственного здоровья детей. Пусть время у тебя идет разнообразно и приятно. Прошу тебя об этом, прошу ради самой тебя и ради наших детей.
Моя жизнь идет здесь безо всяких неудобств и неприятностей. Вот и вся правда о ней; совершенная правда, безо всяких прикрас: не имею ни малейших неприятностей ни с кем; не терплю ни малейших неудобств.
Я получил от тебя, моя милая, и потом при письме Саши, — это два раза, по двести рублей; около начала нынешнего года. Мои здешние расходы невелики: рублей десять на стол; да раз в год покупка чаю, сахару, табаку. Рассчитываю, что этих денег, которые у меня теперь, достанет мне на два года, если мой образ жизни останется такой же, как теперь. Перемен к худшему не жду; и, по-видимому, нет никаких причин ждать; потому что со всеми, кого я видел и вижу, я в хороших отношениях. Поэтому, я полагаю, будет все итти, как идет теперь, пока не будет перемен в мою выгоду. И на два года ты обеспечила меня в денежном отношении.
Ты спрашиваешь, не нужно ли мне белья. На год, я думаю, достанет того, что я получил от тебя два года тому назад; я только с полгода начал носить это новое белье; у меня было тогда еще довольно прежнего.
528
Не нужна ли мне шуба? — У меня три шубы; две ты вспомнишь: прежние; они обе еще очень годятся, и маленькая, купленная при отъезде моем из Петербурга, и даже старая енотовая еще недурна. Третья шуба у меня вовсе новая, песцовая; здесь я не надеваю ее: она огромная, дорожная; благодаря ей проехал я сюда в самое холодное время и не простудился. А кстати, о мехах. Пушных зверей здесь уж мало, и они плохи; но, сравнительно с тем, что дальше на север, а по русскому масштабу, меха здесь и хороши и дешевы. Лиса стоит от 2 р. 50 к., до 3 р. за шкуру. Песец (белый) рубль. Песцовая шуба обходится здесь в сорок или тридцать пять рублей. Здесь у небогатых по-здешнему людей, а по-русски у бедняков, есть беличьи одеяла; так это дешево. — Впрочем, я все это говорю только понаслышке. Сам, не покупал, разумеется, никаких мехов здесь. Три шубы это довольно; и слишком. — Ни сапоги, ни калоши, ни верхнее платье ничто из этого не нужно мне здесь: кое-что такое есть у меня; и довольно этого здесь.
Но вот о чем я попросил бы тебя, моя милая: пришли мне очки с запасом стекол. Вот мерка расстояния, на котором я держу книгу, читая без очков:
Ты знаешь, по этой мерке и надобно выбрать стекла.
Если нетрудно найти в Петербурге, то лучше простого стекла горный хрусталь; и лучше обыкновенного фасона шлифовки (вогнуты обе стороны) так называемый перископический: внутренняя (к лицу) сторона вогнутая, а наружная выпуклая. А быть может, есть теперь какой-нибудь и более усовершенствованный способ шлифовки.
Прошу и сам не знаю, не делаю ли тебе напрасную трату денег этой просьбой. Расстояние большое; дорога от Иркутска сюда очень трудная для почты. Сомневаюсь в том, что очки могут доехать неразбитые.
Если просить еще о чем, то просил бы я тебя, моя милая, о книгах. Но опять не знаю, не делаю ли тебе напрасной траты денег этой просьбой. Я просил бы о книгах серьезных; разумеется, не русских, а более ученых, чем русские изделия науки.
Впрочем, быть может, и дошли бы до меня сюда две те книги, которые особенно были бы нужны мне:
Новое издание Conversations-Lexikon’a Брокгауза (десятое издание, 1853 года, есть у меня здесь; но оно очень устарело),
и другая вещь, не собственно книга, а географический атлас — какой-нибудь. Штилера? — немецкое издание, лучший ли теперь из не очень дорогих атласов? — Я не видел английского, Джонстонова, и не знаю цены; и вероятно, большая часть карт в нем хуже штилеровских.
Но обе эти мои просьбы — и об очках и о книгах — будут, я думаю, напрасной тратой денег для тебя. Пишу эти просьбы только потому, что ты требуешь, чтоб я просил тебя о чем-нибудь, моя радость.
34 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
529
Будь здоровенькая и старайся быть веселой. Умоляю тебя об этом.
Целую детей.
Крепко обнимаю тебя и целую тысячи и тысячи раз твои ручки и милые твои глаза.
Твой Н. Чернышевский.
505
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
4 мая 1873. Вилюйск.
Милый мой друг, радость моя Оленька,
С этой и прошлой почтами я получил твои письма от 6, от 10, от 19, от 23, от 29 декабря, от 14 января, от 10 февраля. Целую за них твои руки, моя милая. Благодарю Сашу и Мишу за их приписки.
С этой почтой я получил книги. Благодарю за них. Получил также январскую книжку «Вестника Европы». Благодарю и за это.
В начале нынешнего года я получил от тебя (два раза по двести) четыреста рублей. Этих денег будет мне достаточно не только на этот, но и на весь следующий год. И будь уверена, мой друг, я не отказываю себе ни в чем нужном для удобства жизни; поверь, я живу очень хорошо. Помни же: на весь следующий год денег у меня довольно.
Ты спрашиваешь, не нужно ли мне платья или шубы? — Нет; и этого всего у меня очень достаточно. Не нужно ли белья? — На год у меня еще достанет и того, которое имею.
Но ты требуешь, чтобы я просил тебя о присылке чего-нибудь. Изволь, прошу: пришли мне атлас Штилера и новое издание Конверсационс-Лексикона Брокгауза (с прибавлениями).
Я совершенно здоров. Живу спокойно. Неприятностей и неудобств ни малейших не имею и не предполагаю иметь ни от кого и ни от чего. Будь уверена, моя радость, что я говорю тебе чистую правду.
Почта ходит сюда и отсюда — раз в два месяца. Но иногда бывают случаи, что отправляются письма с каким-нибудь чиновником или казаком, едущим отсюда в Якутск в промежутке времени обыкновенных почтовых отправлений. Этими случаями могу пользоваться и я. Так вот пользуюсь теперь.
Пишу коротко в том расчете, что чем короче письмо, тем скорее может дойти до тебя.
Заботься о своем здоровье, моя милая радость, — и все будет хорошо.
Обо мне не беспокойся. Поверь, я живу здесь удобно и хорошо. Единственная моя мысль, как всегда: ты, моя радость.
530
Желаю тебе пользоваться таким здоровьем, как я.
Целую тебя, мой милый Саша, и тебя, мой милый Миша.
Целую тысячи и тысячи раз твои руки, моя радость, и крепко обнимаю тебя.
Твой Н. Чернышевский.
506
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
10 июня 1873. Вилюйск.
Милый мой друг, радость моя Оленька,
Я совершенно здоров; так что желаю и тебе пользоваться таким же здоровьем, как я.
Живу попрежнему совершенно спокойно и удобно, безо всяких неприятностей или недостатков. Теперь здесь началось тепло; земля покрылась зеленью, деревья распустились, цветут. Каким же деревьям цвести здесь? Есть и такие: рябина, боярышник, дикий шиповник. Я, по своему обыкновению, довольно много хожу для поддержания здоровья, и теперь эти прогулки могут заслуживать имени прогулок даже и в обыкновенном русском смысле слова: благодаря зелени, цветам приятно бродить по полям и кустарникам.
Что еще сказать о моем образе жизни здесь? — Кроме того, когда гуляю, все время лежу и читаю. — Кстати, о чтении; повторю на всякий случай, что в прежнем письме просил тебя, моя милая, прислать мне Conversations-Lexikon Брокгауза с приложениями, которые выходят тетрадками. Были в том письме просьбы и о других книгах, тоже не русских, ученого содержания; но то все не так полезно, как справочный словарь Брокгауза, особенно хооший в том отношении, что, прочитавши его раз, можно перечитывать и во второй и в третий раз.
Тоже повторю на всякий случай: денег у меня достанет не только на этот, но и на весь следующий год. В этом, прошу тебя, не сомневайся, мой друг: я не буду отказывать себе ни в чем необходимом, и все-таки денег, которые ты мне прислала в начале нынешнего года (400 рублей), достанет мне и на следующий год.
Повторю также, что в нынешнем году мной получены твои письма от 6, от 10, от 19, от 23 и от 29 декабря прошлого года и от 14 января и от 10 февраля нынешнего года. Целую за них твои руки, моя радость. Благодарю детей за приписки. Кажется, дети у нас с тобой вырастают хорошими людьми. Радуюсь этому. Целую их обоих. — Пишите мне, мои друзья, Саша и Миша. — Когда пишешь ко мне, моя радость, вели писать и им.
Крепко обнимаю тебя, мой милый друг, моя несравненная, и тысячи и тысячи раз целую твои руки. Будь здоровенькая и старайся быть веселой.
Твой Н. Ч.
34*
531
507
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
19 июля 1873. Вилюйск.
Милый мой друг Оленька,
Очень, очень обрадовали меня твои письма от 19 и от 28 февраля и от 15 марта. Давно не сообщала ты мне таких хороших известий о твоем здоровье, как в этих письмах. Надеюсь, моя милая Оленька, что и вперед буду получать от тебя такие же отрадные сведения о нем. Дело очевидное, мой друг, что восстановлению твоего здоровья помогло главным образом тепло нашего с тобой родного климата. Не знаю, возможно ли для тебя, но если возможно, то было бы еще более полезно твоему здоровью жить в климате, еще более теплом; например, на южном берегу Крыма или в какой-нибудь подобной ему местности. Если моя просьба к тебе об этом удобоисполнима, то прошу тебя о ее исполнении.
В одном из моих писем, полученных тобой, есть, говоришь ты, рассказ о том, как я провожу время; и тебе было приятно это, говоришь ты. Новостей в моей жизни здесь бывает очень мало, это правда; но само собой разумеется, что лишь была бы охота рассказывать, материалы для рассказыванья другу всегда бывают неистощимы. И тоже само собой разумеется, что нет у меня недостатка в охоте писать тебе, мой милый друг, очень длинные письма. Если до сих пор я обыкновенно писал тебе лишь по нескольку строк, я руководился — основательным ли, или неосновательным, я не знаю, — моим предположением, что так надобно. Попробую на этот раз предположить, что не будет затруднения дойти до тебя письму, не чрезмерно короткому, как обыкновенно бывали мои прежние.
Саша пишет мне, что будет послано мне еще несколько книг. Я просил бы помнить при выборе посылаемых мне книг, что в прежние мои годы я был человеком ученым. В эти десять или более лет я, конечно, не мог не сделаться человеком отсталым от движения науки. Но, быть может, эта моя отсталость менее велика, нежели кажется это, вероятно, для ученых, не проводивших много лет вдали от больших библиотек. Я мог бы привести в пример, сходный с моими книжными недостатками, жизнь тех ученых, которые работали для науки до изобретения книгопечатания; нет сомнения, что некоторые из них были все-таки люди ученые даже и по нынешнему масштабу учености. Я просил бы прислать мне только ученые трактаты, имеющие серьезную важность в науке. Новые ли это книги, или старые все равно. «История Рима» Нибура или «История Греции» Грота были бы прочтены или перечитаны мною с гораздо большим интересом, чем маловажные новые книги, хоть уж и очень стары. Еще гораздо старше Геродот, Фукидид, Тит Ливий, Цицерон, Цезарь, Тацит, но не менее хороши для моего чтения. Я привожу назва-
532
ния книг только для примера; я не прошу, чтобы прислали мне именно эти книги. Для людей, столько работавших головой, как я, уж почти все равно, к какой отрасли науки относится книга; лишь была бы это книга важного научного значения: различные отрасли знаний все почти одинаково интересны для них. Я хотел объяснить этими заметками вот что: о том, чтобы тратились деньги на покупку новых книг для присылки мне, я не прошу; лучше взять из старых, валяющихся на полу в пыли, не имеющих ровно никакой цены для продажи, никому не нужных книг, те старинные издания, которые важны для науки; и расход будет меньше, и приятность мне гораздо больше. Напомню также: на русском языке почти вовсе нет книг, важных для науки; поэтому из русских книг лишь очень немногие имеют занимательность для меня. Но, конечно, я только высказываю свои интересы; а за всякую присылаемую мне книгу я искренно благодарен, и, за недостатком других книг, всякую присылаемую читаю от первой страницы до последней и через несколько времени перечитываю, и через несколько времени перечитываю опять и опять.
Это так потому, что кроме часов, которые употребляю я по надобности для здоровья на прогулку, все мое время проходит в чтении. Люди, живущие здесь, вообще хорошие люди; со всеми я в самых добрых отношениях; все имеют очень много досужего времени, и рады употреблять его на бесконечные разговоры; и, сколько мне кажется, все убеждены, что я не горд, не насмешник; поэтому рады проводить время и со мной. Но круг их интересов совершенно чужд мне; и я полагаю, что мои разговоры скучны для них. Поэтому, — и только поэтому, — я довольно мало видаюсь с кем-нибудь; только по какой-нибудь надобности. А если бы не думать, что им скучно со мной, то, пожалуй, было бы не затруднительно разговаривать с ними хоть с утра до ночи каждый день: действительно почти все они очень хорошие люди; можно сказать даже: решительно все.
По своему обыкновению я совершенно здоров.
Благодарю тебя, милый мой Саша, за твое письмо от 11 марта. Благодарю и тебя, Саша, и тебя, милый мой Миша, за ваши фотографические карточки. Целую вас обоих, мои милые дети.
Крепко обнимаю тебя, моя радость. Будь здоровенькая и веселенькая. Целую твои руки, моя Оленька.
Твой Н. Ч.
508
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
10 августа 1873. Вилюйск.
Милый мой друг Оленька,
Вот снова отправляется отсюда почта в промежуток обыкновенных сроков; и опять я пользуюсь этим случаем писать тебе, моя радость.
533
Попрежнему я совершенно здоров; попрежнему, живу здесь безо всяких неудобств. Напишу несколько слов о моем образе жизни.
Важнейшая для всех здесь забота — обед. Купцы, чиновники — люди очень небогатые; но, разумеется, не такие же бедняки, чтобы не иметь денег на покупку пищи; но все равно: и для них целое лето проходит в непрерывных опасениях оставаться голодными, и довольно часто эти опасения их оправдываются действительностью. Здесь нет таких погребов, в которых летом провизия сохранялась бы хорошо. И мяса летом нельзя употреблять в пищу. Надобно продовольствоваться рыбой. Кто не может есть рыбы, те сидят иногда голодные. Ко мне это не относится. Я ем рыбу с удовольствием и счастлив этим своим физиологическим достоинством. — «Но если нет мяса, люди, не любящие рыбу, могут питаться молоком». — Да, и стараются. Но со времени моего приезда сюда это стало труднее прежнего: мое соперничество в покупке молока произвело оскудение этого продукта на здешней бирже. Ищут, ищут молока — нет молока; все куплено и выпито мной. Кроме шуток, так. Только одно семейство держит здесь летом дойных коров в таком числе, что имеет молоко для продажи. И вообрази: в начале весны я упросил этих богачей (!!) продавать мне по 2 бутылки в день (здесь мерят молоко бутылками). Обещано и исполняется: люди честные, не хотят изменять слову. И для других нуждающихся в молоке иной раз есть, а чаще нет молока в продаже. Две бутылки — это удой от трех коров, — таковы здешние коровы. Но качество молока недурно.
И пользуясь результатом удоя от трех коров (если не от четырех), я пью чай с утра до ночи. Выпиваю столько, что сам дивлюсь — более трех фунтов в месяц. И заметь, мой друг: один, безо всякой помощи от гостей. Да, с половины прошлого сентября, когда я купил пуд чаю, — я уж выпил весь этот пуд и купил еще два фунта. Ha-днях начну новый пуд.
В интервалы питья чаю занимаюсь тем, что брожу по всем местам, доступным для моих ног только в теплое время, когда нет снега. Пойдет снег, и ходить можно будет только вдоль улиц, да по двум, трем дорожкам, по которым возят сено или дрова. Но теперь пока брожу по опушке леса во всех возможных направлениях. Впрочем, и этих направлений не очень много: в ложбинах, подернутых мхом, земля здесь никогда не просушивается солнцем; а эти ложбины опоясы[ва]ют город со всех сторон. Такова и вся Якутская область: громадная мховая низменность, почти сплошь покрытая лесом, по которому нет проезда летом. Вилюйск стоит на песчаном возвышении; это огромная куча песку, нанесенного тут рекою. Благодаря этому город пользуется воздухом более сухим, чем окрестности, и жители не страдают лихорадкою, которая мучит окрестных жителей по болотистым местам. Не один я здесь, но и очень многие из русских пользуются хорошим здо-
534
ровьем. О якутах этого нельзя сказать: это народ хилый, болезненный, потому что пища у них очень плохая. До сих пор они еще не бросили, например, свою так называемую сосновую кору, — это верхний молодой пласт древесины, лежащий прямо под корой, а не самая кора; пласт, подобный липовому лыку. Его и сдирают с дерева в виде лыка; сушат, режут — и выходит лыковая лапша; или даже толкут, сильно высушивши, — и выходит нечто подобное какому-нибудь сору; и едят это снадобье; и даже хвалят.
Но с каждым годом якуты засеивают все побольше хлеба. Ячмень родится здесь хорошо. Через несколько времени будут жить и якуты по-человечески. А теперь пока это очень жалкий народ. Я до сих пор не привык равнодушно смотреть на этих несчастных дикарей и стараюсь ходить по таким дорожкам, чтобы не встречались они.
Река здесь очень порядочная. В самое сухое время она сохраняет глубину, достаточную для судоходства. Когда-нибудь и будет облегчать сбыт товаров, которыми могли бы торговать якуты. Но пока они еще не умеют извлекать себе пользу из этого средства улучшить свой быт и живут очень бедно.
И здешние русские приучились жить по примеру жалких дикарей. Очень мало заботятся жить сколько-нибудь получше якутского. Впрочем, понемножку будто бы начинают понимать, что плохая пища нездорова, и простуда — боль. Только что начинают понимать это и начинают еще только в незначительной степени. В домиках у них еще продолжает разгуливать сквозной ветер. Готовить кушанье каждая русская деревенская женщина умеет лучше здешних купчих.
Но я не подвергаюсь неудобствам oт этих вещей. Хлеб и кушанье у меня довольно хорошо приготовлены. Дом, в котором я живу, построен хорошо, очень тепл и не имеет сквозного ветра.
Должен я похвалить здешних русских и за то, что они поняли: я нисколько не расположен смеяться над ними; даже не имею желания плутовать в денежных расчетах (это для них несколько странно, и по всей вероятности, кажется им глупостью; но все-таки они находят это удобным для себя: не быть обманываемыми при расчетах). Потому они расположены ко мне и, если я хочу купить что-нибудь, продают охотнее мне, чем друг другу.
Довольно на этот раз о моем образе жизни.
Я получил твое письмо от 11 мая, моя милая радость, и благодарю тебя за него. Хвалю детей за их успехи в занятиях. Надеюсь, вырастут умными и хорошими людьми. Целую их обоих.
Будь здоровенькая и веселая, моя милая Оленька, и все будет хорошо. Целую твои руки, моя голубочка, и тысячи раз обнимаю тебя.
Твой Н. Ч.
535
509
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
16 августа 1873. Вилюйск.
Милый мой друг Оленька,
Снова представляется случай, что отправляется отсюда почта в промежуток обыкновенных сроков, и опять я пользуюсь им, чтобы писать тебе, моя радость.
Я думаю все только о тебе, да о детях, но и это значит то же самое: о тебе; радуют ли они тебя? — Надеюсь; кажется, что Саша сформировался умным и хорошим человеком и Миша формируется таким же. Эта уверенность делает мои мысли о них спокойными. Желаю одного: с такой же уверенностью думать, что твое здоровье хорошо. Для этого, мой друг, снова прошу тебя исполнить, насколько возможно тебе, мой совет жить в климате, благоприятном для тебя; чем южнее, чем теплее и светлее, тем лучше он для твоего здоровья. Имеешь ли ты возможность жить, например, на южном берегу Крыма? Если да, то, пожалуйста, испытай; и, наверное, получишь от этого значительную пользу своему здоровью. А если бы возможно было тебе переселиться в Италию, это было бы еще полезнее. Быть может, это и не очень неудобоисполнимо: в Италии есть местности модные, поэтому дорогие; но другие, которые ничем не хуже или даже и гораздо лучше модных, не привлекают толпу туристов, остаются тихи, и жизнь в них очень дешева; так дешева, как нигде в России. — Само собой разумеется, при выборе какой-нибудь из множества подобных местностей надобно было бы руководиться советами медиков. Прошу тебя, подумай об этом серьезно и, если можно, сделай так.
Сам я по своему неизменному обычаю совершенно здоров. Конечно, я обязан этим прежде всего тому, что не растрачивал здоровья в молодости и, что важнее всяких других гигиенических сбережений, никогда не пил вина. Но, разумеется, не забываю соблюдать самую строгую осторожность в пище и во всем образе жизни; без того невозможно в здешнем климате. Морозы — это еще не главное здесь. Хуже их летняя сырость (весны здесь нет). Но вот два лета я прожил, не имевши ни малейшего вреда от нее. Правда и то, например, что с тех пор, как я здесь, я ни разу не пил сырой воды; и уж едва ли помню, какой у нее вкус. Смешная предосторожность? — Да, повсюду смешная, но здесь необходимая. — А морозы производят здесь действия, вызывающие иной раз даже улыбку. Например, кусок льда, положенный в комнате, очень долго лежит совершенно сухим камнем, и твердость его изумительна: я не поручусь, что нельзя употреблять его вместо кремня для огнива. — Но, повторяю, зима здешняя при всей своей жестокости переносится при соблюдении должной осторожности довольно удобно и очень легко, если иметь, как имею я,
536
довольно комфортабельную обстановку: просторную и очень теплую квартиру и сытную пищу. — Отношения мои к здешним людям остаются совершенно хорошими.
Довольно на этот раз. Будь здоровенькая и старайся быть веселой, моя милая голубочка.
Целую Сашу и Мишу.
Крепко обнимаю и тысячи раз целую тебя, моя радость. Будь здорова, и все будет хорошо. Целую твои руки.
Твой Н. Ч.
510
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск, 3 сентября 1873.
Милый друг Оленька,
Я получил твое письмо от 11 мая. Благодарю тебя за него.
Я по обыкновению здоров. Желаю, чтобы ты, моя радость, пользовалась таким же здоровьем, как я. Повторю, моя голубочка, свою просьбу к тебе: южный, теплый и светлый климат полезен тебе; поэтому, если возможно для тебя, проводи время на юге; пожалуйста, береги свое здоровье. Только это и нужно, чтобы я был счастлив.
Благодарю Сашу и Мишу за их приписки к твоему письму. Целую их.
Пишу лишь несколько строк, потому что пора отдавать письмо для отправления.
Крепко обнимаю тебя, моя радость, и тысячи, тысячи раз целую твои руки. Будь здоровенькая и старайся быть веселой, — и все будет хорошо.
Твой Н. Ч.
511
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
28 сентября 1873. Вилюйск.
Милый друг Оленька,
Я совершенно здоров по своему неизменному обыкновению; и живу тоже попрежнему спокойно, удобно и хорошо. О денежных своих делах скажу тоже, совершенно прежнее: на окончание этого года и на весь следующий год мне довольно будет тех денег, которые ты прислала мне в прошлую зиму. — Ты помнишь, я писал, что все покупаемое в лавках покупается здесь один раз в год на целый год вперед от летней ярмарки в Якутске до ярмарки. Поэтому теперь у меня уж сделан запас чаю, сахару, табаку и всего тому подобного до следующей осени. И остаются деньги на то, чтобы купить такой же запас в следующем году. — Потому прошу тебя, моя милая, в следующем году не присылай мне денег.
И прошу тебя, верь, что я живу здесь хорошо, насколько возможно это при здешних лишь наполовину русских, а наполовину
537
якутских житейских обычаях. Есть вещи, которых невозможно иметь здесь ни за какие деньги, например, хоть бы русские щи или суп, сваренный по-русски ли, по-французски ли, по-каковски ли, не по-якутскому. Дело не в том только, что я не умею растолковать, как следует варить, чтобы сварилось такое необыкновенное блюдо, суп или щи. Нет, кухарка имеет непобедимое ничем убеждение, что невозможно варить мясо иначе, как положивши в кастрюлю огромный кусок масла: без масла не будет вкусно. И хоть бы дешево обходилось ей самой это удовольствие придать кушанью вкус. Нет, масло стоит от 30 до 40 коп. фунт. — «Не нужно мне его; напрасно вы делаете расход себе; без масла и для меня вкуснее, и для вас выгоднее», — говорил я двадцать раз; убедился, наконец, не победишь природу; и усмирился. — Но, разумеется, это и тому подобные мелкие неудобства здешней жизни ровно ничего не значат для человека, такого равнодушного к житейским пустякам, как я. Серьезные условия удобной для здоровья жизни положительно хороши в моей здешней обстановке. И денег у меня достаточно на весь следующий год.
Будь здорова ты, и все будет хорошо. Целую Сашу и Мишу. Крепко обнимаю тебя, моя радость, и тысячи раз целую твои руки; моя милая голубочка, будь веселенькая и здоровенькая, прошу тебя.
Твой Н. Ч.
512
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
29 сентября 1873. Вилюйск.
Милый друг Оленька,
Вчера я написал тебе письмо, а через несколько часов пришла почта, и представился новый случай отправить письмо к тебе.
Очень обрадовало меня твое письмо от 11 июля, которое привезено этою почтою. Ты здорова, — и я счастлив. Благодарю моих родных за любовь к тебе.
О деньгах повторю мою просьбу: не присылай мне их в следующем году. Я имею запас, которого достанет мне даже дольше, нежели на весь следующий год. Расходы мои из этого запаса не будут превышать десяти рублей в месяц; больше нет надобности издерживать здесь. А я имею в запасе около 320 рублей. Рассчитывай же, как надолго я обеспечен; более нежели на два года.
Я получил, также с этой почтой, журнал «Знание» за 1871, 1872 годы и первые шесть нумеров за нынешний год. Искренно благодарю Сашу за эту присылку. А вперед прошу его тоже присылать книги такого серьезного содержания.
Получаю «Вестник Европы». Совершенно аккуратно. И, по-видимому, все книги, посылаемые мне, доходят и будут доходить до меня совершенно исправно.
538
Я здоров, как нельзя лучше; и желаю, чтобы ты, моя голубочка, пользовалась таким же здоровьем, как я.
Благодарю тебя, друг мой Миша, за твое письмо. Целую тебя и Сашу.
Крепко обнимаю тебя, моя милая радость. Целую и целую твои руки. Будь здоровенькая и веселенькая, моя голубочка, и все будет хорошо.
Твой Н. Ч.
513
О. С. и А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
1 ноября 1873. Вилюйск.
Милый друг Оленька,
Радуют меня твои письма от 11 и 27 июля: ты здорова и не очень много скучаешь, значит, я счастлив. Благодарю тебя, моя милая голубочка.
Дети наши — неглупые юноши и, надеюсь, будут хорошими людьми. Поблагодари от меня Мишу за то, что он позаботился исполнить мою просьбу о присылке очков. Если они уложены в крепкий ящик, как он пишет, то дойдут до меня целыми. Те очки, — единственные, которые я ношу вот уж года три, — куплены в забайкальской деревне, в такой лавочке, где продаются сапоги, чай и мыло; можно поэтому вообразить, какого сорта каждый из товаров и в особенности каковы изделия, подобные очкам. Да, чрезвычайно здоровые у меня глаза; так же крепки здоровьем, как близорук их фокусный масштаб: даже при таких очках нисколько не испортились и никогда не утомляются, хоть по целым неделям и месяцам не бывает ни одного часа, кроме сна, когда бы я был без книги в руках. Близорукие глаза, но очень сильные.
Все читаю, читаю и читаю. Только в этом и проходит все время за исключением двух, трех получасов, которые — по получасу за один прием, употребляю на прогулку. — По поводу чтения скажу несколько слов в отеческое назидание своим молодым ученым.
Несколько лет тому назад ветер общественного мнения в Западной Европе, а вслед за тем и у нас, повернулся от ребяческого восхищения техническими новостями — железными дорогами, электрическими телеграфами, — к такому же ребяческому восхищению теоретическими новостями, по преимуществу происхождением человека от «человекоподобного предка из семейства бесхвостых обезьян» по Дарвину. Новость, действительно неслыханная и в самом деле восхитительная. Волнение радости в цивилизованном мире так сильно, что брызги залетели даже в Вилюйск. Да, меня, как человека ученого, спрашивали здешние казаки, и даже старухи: «правда ли, что люди вышли из обезьян?» — Все это, может быть, так и следует по-ученому, — по выражению го-
539
родничего в «Ревизоре»; я тоже не могу судить об этом, как он не судил о походах Александра Македонского. Но я был молод раньше этой моды. И мысли мои установились раньше ее. Потому, на мой взгляд, она смешна и очень много в ней нелепого. Дарвин, конечно, человек гениальный; и некоторые из его последователей — например, Геккель, — тоже. И из других нынешних знаменитостей, помимо Дарвина, есть люди гениальные, например хоть Фохт или Гельмгольц; все так; и в сущности дела, они не ошибаются. Но все, что они делают и находят, имеет лишь техническое достоинство: это лишь переработка новых приобретений технического исследования по идеям, которые очень стары и лишь были оставляемы в пренебрежении в коротенький период господства предшествовавшей моды узкого специализма. И во время нынешней моды еще не явился гений такого размера сил, чтобы сделать на основании новых приобретений науки то, что было когда-то сделано Ньютоном; нет даже и такого человека, как Лаплас; потому все нынешние двигатели науки часто говорят вздор, какого постыдились бы не только Лаплас и Ламарк и их современники, но какого не найдешь ни у Спинозы, ни даже у Декарта. — Например, бедняжка Дарвин читает Мальтуса ли, какую ли книжонку во вкусе Мальтуса — и, озаренный гениальною мыслью о «благотворных результатах» голода и болезней, открывает Америку: «организмы совершенствуются борьбой за жизнь». — Америка, открытая Мальтусом, была открыта, как известно, гораздо раньше Мальтуса; в самой же Америке, например, Франклином; а в Европе еще Реомюром, кажется, сосчитавшим, сколько зерен икры в какой-то рыбе, и разинувшим рот от изумления, что этих зерен очень много (а раньше, как надобно думать, люди не знали этого; но, по крайней мере, раньше того мальчишки уж забрасывали котят и щенят в речки и в канавы, по решению отцов и матерей своих, говоривших: возьми, Ванька или Петька, и брось щенят в речку; а то собак расплодится столько, что не прокормить нам их). — Все они совершенно правы: и Ванькины с Петькой отец и мать, и Реомюр, и Франклин, и Мальтус, и Дарвин: только не догадался Дарвин, что лежит в других «клеточках больших полушарий» его же собственной головы: там, в клеточках, где помещаются воспоминания о медиках и медицинских книгах, наверное лежала и в его голове, как во всякой голове сколько-нибудь образованного человека, несомненная научная истина: «болезнь и голод оказывают вредное влияние на организм; задерживают его развитие, если он еще в периоде развития, а во всяком периоде его жизни делают его худосочным; и пользы от них нет организму никакой, ни в каком отношении». — Этого не сообразил Дарвин, — и Америка, в хорошем виде открытая Мальтусом, значительно усовершенствовалась в переделке этого нового Америго Веспуччи. — Вот в чем дело. Предположим два стада «человекоподобных предков», или лоша-
540
дей, или хоть «личинок асцидий»; одно стадо голодает; другое не голодает; голодающее погибает; пастбище этого табуна степных лошадей (будем говорить о лошадях) осталось пусто; не голодавшее стадо может свободно занять его; имеет двойной запас пищи; поэтому несколько времени живет не только в довольстве, как прежде, но в изобилии благоденствует. Это время благоприятно улучшению породы. — Таковы единственные случаи пользы от голода, болезней и всяческой «борьбы за жизнь», — только в этих случаях организмы, которым «борьба» оказалась полезна, вовсе и не испытывали никакой «борьбы». Она не касалась их. Итак, приписывать ей пользу — нелепое выражение: она полезна там, где ее нет. Подобным образом, по математике твоей, Саша, оказывается, я полагаю, что Дарвин вместо минуса приставил к цифре плюс и вообразил, будто, например, — 5 = + 5, — а = + а. Хороши будут расчеты при такой математике.
Но, каков бы ни был правильный расчет о тех случаях, они чрезвычайно редки. Обыкновенно голод или болезнь не щадит одного из двух стад, свирепствуя в другом. — Степь одна; в разных областях ее — влияния одни и те же, разнящиеся только переменчивостью степеней силы. Оба стада голодают, одно побольше, другое поменьше. Насколько страдает переживающее стадо, настолько испортились в нем лошади. — У них будет изобилие после? Да. Но считай опять, Саша: организмы испортились на логаритм х; впоследствии они воспользуются от изобилия улучшением на логаритм у. — Спрашиваю: определена ли величина х? — Нет. Медицина еще не имеет цифр (статистика — это куча хлама, негодного для математики, ты знаешь это, я полагаю). Определена ли величина у? Нет. Физиология нормального хода здоровья еще не имеет цифр. — Но как быть? Пока нет точных измерений, надобно руководствоваться глазомером: по глазомеру все медики и все физиологи согласны с убеждением всех неглупых людей: «болезнь входит пудами, выходит золотниками» или: «ложка дегтя портит бочку меда». По всей вероятности, логаритм х несравненно больше логаритма у, то есть для уравновешения дурных последствий даже маленького недостатка пищи нужно колоссальное количество последующего избытка пищи. То есть буря сломала лес; простор маленьким росткам? — Да; но жди, когда-то еще лес вырастет такой же, как был до бури. А польза от бурь лесам? — Никакой, никогда; да, в действительности никогда. Те случаи — одно стадо голодает, другое вовсе не голодало — так редки по теории вероятностей, что на всех планетах всей системы млечного пути, предположивши все их сплошь населенными табунами лошадей (Дарвиновой породы, разумеется), едва ли могли случиться хоть один раз на одной степи, от самого начала — не тс что жизни лошадей, а хоть бы от времени возникновения той рыбы, которая первая выползла из воды кушать злаки пастбищ. Попробуй высчитать шансы, мой милый Саша: получишь про-
541
порцию одного шанса из числа, какого и нельзя написать цифрами: рука устанет, а придется выражать логаритмом логаритма, так, например: х = log. у; у = log. z; и будет этот логаритм логаритма — цифра из нескольких знаков, наверное.
В чем же сущность ошибки Дарвина и его последователей? — Вот в чем: специальная наука, политическая экономия, получила такое высокое развитие (через Рикардо и других, но не через Мальтуса), что оказывается способной давать математические истины в пособие естествознанию. Дарвин заметил это. И воспользовался тем, что понял. А догадался ли, что если хочешь пользоваться специальной наукой для своей работы, то надобно изучить ее? — Нет, это не пришло ему в догадку. И вышло то же самое, как если бы Адам Смит принялся писать курс зоологии. Или Адам Смит знал о животных меньше, чем знает в политической экономии человек, не слыхивавший о взаимодействии всех частей всякого общества, — наверное, Адам Смит знал больше по зоологии, чем такой человек по политической экономии. Она говорит вот что: в случае голода непосредственно страдает только некоторая часть нации; но от страдания этой части страдают всевозможные дела всей нации. — Но купцы выигрывают? — Как же. Кое-какие торговые сделки (хлебом) растут; но и вся вообще и даже хлебная торговля в частности падает. Все классы страдают, и организм каждого человека, — будь он богач ли, хлебный ли спекулянт, все равно, — подвергается некоторому худосочию. Пусть сам он не голодал; но число больных возросло: воздух испорчен и вносит вредные результаты голода в организм богача, хоть богач и не голодает. — И из страны голода распространяется это расстройство на все страны, имеющие хоть какие-нибудь отношения к ней. — Доли гибельного влияния могут быть довольно мелкими дробями; но их существование математически достоверно. — Кроме вреда, никакой вред не приносит ничего никому на земном шаре. — Дочитайся до этого Дарвин, вышло бы не то; вышло бы гораздо ближе к полной истине, и вместо «борьбы за жизнь» двигающею силой развития организмов вышло бы: «сумма влияний, благоприятных для жизни этого организма, за вычетом суммы влияний неблагоприятных, в числе которых, одно, довольно сильное, есть борьба за жизнь». То есть по математике:
развитие назовем Р;
сумма благоприятных для жизни влияний = А; сумма неблагоприятных = В + С; а это С — борьба за жизнь.
Вместо формулы: Р — А — (В + С), у Дарвина вышло: Р = С; он не досмотрел, что С прибавка к отрицательному количеству; прибавка, этого довольно; значит, хорошая выгода.
Заговорился я с тобой, милый Саша. Порадуйся, какой великий мыслитель твой отец; ровно такой же, как и великий математик: всю арифметику, преподаваемую в низших классах народных школ, знаю; и первые две или три страницы первоначальной ал-
542
гебры. Таков же и во всех науках. Но смешно читать писанное людьми, не понимающими даже того, что знаю я.
И кстати, о книгах. Ты видишь, могут ли удовлетворять меня (похвальные, впрочем) труды моих милых ученых соотечественников. И видишь, как ценю я книги, делающие эффект в кругу даже передовых ученых Западной Европы: книги хорошие, но нового в них для меня, слыхивавшего о Лапласе и Спинозе и знавшего когда-то Фейербаха чуть не наизусть, — нового в них для меня только технические мелочи, вроде спектрального анализа, которого, разумеется, не знали люди времен, когда формировался мой образ мыслей. А из этого следует, что какие найдутся брошенные в пыли старые дельные книги, — не русские ребяческие изделия, конечно, — те и годятся мне; и нет нужды тратить деньги на покупку новых для меня. Лишь бы были книги, в свое время бывшие хорошими; достоинство хорошего не эфемерно.
Я совершенно здоров, моя милая радость. Чем занимаюсь, кроме книг и прогулок? Вот чем, например. Приносят утром молоко. Топится печь. Я беру горячий уголь, обдуваю от пепла, опускаю в молоко; далее, другой уголь, третий; идет шипенье и кипенье. Кончилось. Я вынимаю угли. Беру новые, горячие и повторяю ту же процедуру. И довольно. Ставлю молоко в печь, и дальнейшая его история — обыкновенная русская и европейская: пить его можно будет с удовольствием. Дело в том, что зимою здесь невозможно доить коров на открытом месте; неизбежно доить в хлеву: а запах хлева надобно после выгонять очисткою молока через уголь. Но очищенное так, оно действительно чисто и хорошо; пожалуй, становится даже чище, лучше, вкуснее того, какое пьют все в России и в Европе. От нечего делать забавляюсь тем, что сам произвожу эту химическую процедуру. — О кушанье сбылось невозможное: добился того, что почтенная женщина, готовящая мне обед, не кладет коровьего масла в суп. Такова сила моего красноречия: в полтора года убедил. Поэтому кушанье у меня стало в самом деле очень хорошее.
Денег у меня теперь столько, что достанет мне на целые два года, считая от нынешнего времени. Само собой разумеется, жить здесь стоит очень дорого: все привозится из страшной дали: даже — можно ли поверить? — рыба с низовьев Лены, из-за тысячи двух или четырех сот верст. Природа так скудна, что сама Лена со своими притоками не имеет количества рыбы, достаточного для ничтожного числа людей, населяющих эту область. Надобно ехать за рыбою к морю! — И едут. А скотоводство? — На золотых приисках Ленской системы работает меньше 10 тысяч человек: мясо для них получается большею частью с юга; пригоняют скот даже с китайской границы. Другая часть покупается в Якутской области; сгоняют скот со всех концов пространства, чуть не равного целой России вместе с Европой, — это для нескольких тысяч человек; — и недостает скота; так мало пастбищ. — Де-
543
ревья? Тот дом, в котором я живу, построен из деревьев, привезенных за пятьсот верст. А кругом все лес; каков же этот лес? Совестно и называть этот лес лесом. — Потому и невозможно, чтобы все здесь не было очень дорого. Но поверь, моя милая, у меня достаточно денег, чтобы покупать все необходимое, нисколько не скупясь. В комнате у меня стоит сундук непомерной величины; сравнительно со всеми сундуками, какие видываны в России, он тоже, что Лена перед вашими реками. Этот сундук завален чуть не доверху чаем и сахаром: в другом углу тоже целый магазин табаку. Смех, я тебе говорю, мой милый друг. И вообще много забавного в здешней моей жизни. Например, в целом городе я самый светский и самый аристократический человек. Изящество моих светских манер приводит жителей в благоговение: ни Бруммель, ни граф д’Орсе, ни княгиня Меттерних не достигали той высоты светского превосходства, на какую возведен я здешним общественным мнением. И — поверишь ли? — оценка не более, чем справедлива. Но, что еще менее правдоподобно, я даю мудрые советы относительно земледелия, ухода за лошадьми; я, не умеющий отличить соху от плуга, старую лошадь от жеребенка: и все-таки советы мои действительно мудры. Спрашивается, положим: отчего это лошадь стала слаба? — Я отвечаю: должно быть, она не кормлена? — Да, уж пять дней не кормлена. — Я в свою очередь спрашиваю: почему ж так? —Потому что хозяин собирается ехать на ней в дорогу. На сытой лошади нельзя ехать: она не выдержит дороги. Я пускаюсь толковать, что не мешает, однако же, давать корм лошадям. И все здесь так.
Но до следующего письма. На этот раз довольно. Казак едет завтра утром; а теперь уж седьмой час; следовательно, скоро уж не добудишься никого, чтоб отнести письмо; а утро начнется и отъезд казака совершится, я полагаю, еще в конце нынешних суток, хоть и будет это по здешнему счету уж завтрашний день.
Будь здоровенькая и веселенькая, моя милая голубочка.
Целую Сашу и Мишу. Благодарю родных за любовь к ним и к тебе.
Крепко обнимаю тебя, моя радость, и целую твои милые руки. Старайся быть веселенькой, и будешь здорова, и все будет хорошо.
Твой Н. Ч.
514
О. С. и А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
Вилюйск, 24 ноября 1873.
Милый мой дружочек Оленька,
Я совершенно здоров. Живу попрежнему, то есть в хороших отношениях ко всем и ко всему здесь и безо всяких неудобств. — Но гуляю ли, например, попрежнему? — «Настали там эти невообразимые морозы», — подумываешь ты, вероятно, частенько. Мо-
544
розы настали; и, по русскому размеру понятии, действительно невообразимые. Но при достаточно теплой шубе мороз ничего не значит гуляющему, как бы ни был велик: через десять минут ходьбы, щеки уж чувствуют воздух довольно мягким, потом и разгораются, как от ходьбы летом, — все равно; и если чуть разохотишься итти не очень тихими шагами, то возвратившись домой, переменяешь белье: такой пот, как бы ходил человек под зноем. С начала холодного времени нужно, разумеется, остерегаться, не длить прогулок; так, например, делал я с месяц тому назад: полчаса, и вернусь домой. А теперь это уж лишний расчет; как пойду, то и продолжаю бродить, пока смеркнется. Лишь бы не было ветра. А если есть ветер, то нельзя ходить долго? — По открытому месту нельзя; до ближайшего куска леса от моего дома не больше четверти версты; и чтобы не больно было лицу, надобно два, три раза повертываться к ветру спиной, пока пройдешь эти — много, пять минут ходьбы. Но в лесу тихо и можно бы бродить хоть половину суток. — Невзирая на благоговение перед моей светскостью, о котором я писал тебе в рекомендацию своим достоинствам, все здесь смеются надо мною, что в эти свои путешествия я не отваживаюсь удаляться от городишка и на одну версту: этому препятствует моя ученость, знающая, что медведь выходит временами из берлоги. Натурально здесь он не может делать этого: крепость его сна соразмерна холоду. Но я все-таки не верю его сну. «Ну, что ж, если б он и встретился? — говорят здесь: — медведь все равно, что корова; вреда от него не может быть никакого, если не начать бить его палкой. Бить его палкой небезопасно; обыкновенно он убегает, правда; но бывали, говорят, случаи, что иной медведь и рассердится, и сам станет драться; пустяки это рассказывают; не дерется медведь, всегда убегает; но все же лучше не бить его, а итти мимо; что он тебе мешает? То и не за что его бить; иди мимо». — В самом деле, здешняя порода медведей — совершенно кроткое животное. Верст тысячи за две к востоку есть медведи обыкновенных медвежьих привычек: смирны сытые; голодные нападают на скот. Здесь никогда. Хозяева стад постоянно видят медведей, «пасущихся», по здешнему выражению, вместе со скотом; и коровы ходят себе рядом с медведем, и телята. — Порода совсем особая. — Но, само собой, верст на десять кругом города медведь никогда не показывается: невозможно ему. Половина жителей — хорошие стрелки; ружья у них топорной работы, конечно; но привычка и острота зрения делают их мастерами охотничьего дела.
Потому, натурально, как ни странно было бы на первый взгляд: дорогие звери пушные уж истреблены в этой пустыне; лисица становится редкостью; горностай почти тоже. Горностай в сущности довольно дешевый мех. Но не теплый. И его добывают лишь на продажу; сами жители не шьют шуб из него себе. Главный промысел — белка; очень плохая; просто дрянь: хуже кошачь-
35 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
545
его меха. — Чернобурые лисицы — диковина. Но вот чего я не знал: есть еще особая порода «черная лиса» — это в десять раз дороже чернобурой. В торговле не попадают эти необыкновенно редкие лисьи меха: в Якутске богатые люди приобретают их для поднесения в подарок какому-нибудь золотопромышленнику-миллионеру, дающему им деньги вперед на их торговые обороты. Главные обороты — не пушная торговля, конечно; о ней много толкуют в России, в Европе; но она — мелкая торговля: несравненно важнее для здешней и собственно якутской части Якутской области поставка мяса на золотые прииски. — И вот опять по поводу пушной торговли. Якутск и Вилюйск — это еще юг, это еще цивилизованный и густо, по-здешнему, населенный край. Надобно послушать, как ездят купцы с караванами в «Колыму», как здесь зовут, — на знаменитую Чукотскую ярмарку; знаменитую по фантазии русских и других европейцев; это крошечная мелочь; и «богачи» Якутска не хотят заниматься такими пустыми, грошовыми делами; а «богачи» имеют тысяч по пятидесяти, много по семидесяти, рублей капитала; то есть по масштабу каждого губернского города Европейской России это довольно мелкие купцы. Знаменитой ярмаркой занимаются люди, которых в России называют «зажиточными мещанами», не выше того. И вот каковы их путешествия в Колыму. Скука и тоска слушать, разумеется. Довольно того, что по целым месяцам проводят они ночи под открытом небом — в здешнюю зиму; но на скольких именно градусах мороза — никто на свете сказать не умеет, конечно.
И вся сумма жизни от истоков Лены до океана составляет такую сумму знаний и новостей, которой достанет на полчаса разговора в год. Больше надобно не требовать: все то же, все то же. — Так и у меня в письмах о себе самом.
Для разнообразия и для исполнения обязанностей отцовской любви разве не побеседовать ли опять с Сашей о Дарвине и всей компании новейших открывателей Америки? — Смешны их восторги, что выучились они, прочитавши в детском сборнике известный всем ребятишкам анекдот — ставить куриное яйцо на длинный конец его, не хуже самого Колумба. — Смешно; только несколько жаль, что не прочли они еще хоть несколько страниц в какой-нибудь книжке для научения маленьких детей арифметике и тому подобными азбучными сведениями.
Например, милый мой Саша, существует на первых страницах всякой книжки для первоначального ознакомления ребятишек с физикою теорема с чертежом, изображающим параллелограм сложения сил. Рассмотрели б они эту нехитрую картинку, и постигли бы многое неведомое им. Дело пойдет о новомодной истине, о «борьбе», из которой, видишь ли, развивается, будто бы, всякая жизнь и всяческий прогресс. По картинке видно было бы им, что выдумана ими вновь необычайно старая нелепица, которую выбрасывали из голов все рассудительные люди со времени изобретения
546
той картинки Архимедом? Или раньше? — не помню: но вернее, что раньше.
 Ты
знаешь больше меня; и извинишь, если я где-нибудь ошибусь в термине; но ошибка
будет лишь в термине, а не в деле. Вот оно:
Ты
знаешь больше меня; и извинишь, если я где-нибудь ошибусь в термине; но ошибка
будет лишь в термине, а не в деле. Вот оно:
Считаем из центра круга при помощи двух-трех теорем прямолинейной тригонометрии, какие еще помнятся мне.
АВ — четверть окружности. CF сила, влекущая, положим, к хорошему для людей.
CD — сила, влекущая к чему-нибудь другому, еще неизвестно, хорошему ли, вредному ли.
Результат совокупного действия сил? — в конце данного периода дело приходит к точке Е.
Что из того следует? — Cила CD нимало не мешала полному развитию действия силы CF.
Длина DE равна длине CF.
Перевод на обыкновенный житейский язык: силы эти не борются; они находятся лишь во взаимодействии, не мешая друг другу.
Если назовем силу CF — честность или любознательность; то CD — сила потребности индиферентной в тех смыслах; например, потребность есть или пить, или влечение к причесыванию волос, употреблению помады, нюханью розы, жасмина. Результат сочетания сил? СЕ радиус: он длиннее синуса EF и длиннее косинуса CF.
Перевод на житейский язык: когда человек имеет кроме силы честности любовь держать волоса в опрятности, прогресс (путь пройденный в данное время) значительнее, чем был бы при действии только силы честности. От любви к опрятности, хоть сама по себе опрятность индиферентна в нравственном отношении, люди выигрывают в улучшении своего быта.
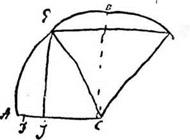
![]() Теперь берем силу характера противодействующего
честности.
Теперь берем силу характера противодействующего
честности.
СН — например, шарлатанство: оно враждебно честности: между ними борьба; выигрывает или проигрывает прогресс от борьбы?
Длина пути та же; прогресс — так же велик (радиус Cg).
Но честность? — Она подвинулась лишь на CI, вместо того, что без борьбы — без убытков, нанесенных ей шарлатанством, — подвинулась бы на CF.
Таков результат всякой борьбы.
35*
547
Эти чудаки не понимают, что в параллелограме сил при расширении угла от нуля до 90° борьбы нет.
Пока синусы и косинусы положительные, какая же тут может быть противоположность тенденций сил?
Но расширяй угол больше, косинус (величина положительная, выигрыш в честности или в чем другом благотворном) будет уменьшаться. А при полной противоположности сил, — что выходит? результанта = нулю (так ли я называю диагональ параллелограма сил? Результанта? Если ошибаюсь я в термине, замени его правильным); сила действует под углом = 180°; ясно, что она тянет назад.
Дело просто: «пособие» — это выгодно; «индиферентность» — не мешает; «противодействие» — задерживает. Каким же способом и когда же возможно, чтоб из борьбы с препятствием результат выходил лучше, нежели если бы препятствий не было и не было бы ровно никакой борьбы? Никогда ничего такого нелепого не бывало в действительности и не могло быть.
Но мудрецы новейшего фасона не разобрали, что слово «борьба» употребляется на житейском языке тоже и в смысле «игра», «шутка», «забава для взаимного удовольствия по взаимному согласию». — Это, например, борьба на олимпийских играх; и ребятишки всех времен и народов любят эту забаву. — От такой «борьбы» силы развиваются.
Но переносить результат шутки в дело серьезное — бессмыслица; а когда бессмыслица прилагается к научным вопросам, выходят решения хуже нуля для науки; выходят решения в смысле отрицания действительных фактов и в смысле замены их глупыми галлюцинациями.
Новы ли эти глупости? — Ты видишь: это переложения аскетических иллюзий на терминологию науки. Хоть вспомнили бы эти мудрецы афоризм древних медиков: «в здоровом теле здоровая душа».
«Но труд полезен» — труд хорошее дело; и очень полезное; но труд, а не борьба. — Молоко хорошая пища; но молоко, а не вода, в которой разболтана пыль от истертого мела; нужды нет, что глупый человек не умеет иной раз отличить эту белую воду от молока; все-таки она не молоко.
Труд полезен. Да. Ну, вот например, мужик пашет землю; лошадь порядочная; соха тоже; почва тоже. Много труда мужику пахать; и пользы будет много. Но он пашет, а не борется. — Вот иное дело, если лошадь начнет биться, да еще сломает соху и убежит; тут шла борьба у мужика с лошадью; выиграл от этого труд? Или мужику польза, что лошадь лягнула его? Или сохе, что она сломалась? Или лошади, что мужик бил ее, чем попало, и когда поймает, снова побьет? — Увы, никто не выиграл от борьбы: ни лошадь, ни соха, ни мужик. А труд? — был прекращен борьбой, и — скоро ли возобновится? — соха сломана; и лошадь — поди,
548
ищи ее, лови. Это называется: трата времени, пустая и вредная трата сил и средств к труду.
«Не с лошадью полезно бороться мужику, а с неодушевленной природой» — это как же он будет делать? Будь природа мальчишка, то можно бы; хоть и неприлично солидному человеку дурачиться; но иную минуту почему и не подурачиться? — «Как же, нельзя ему бороться с природой? Пахать землю, это и значит бороться с природой». То есть ехать по железной дороге в вагоне значит: бороться с железной дорогой, с вагоном, с локомотивом? Пить молоко, значит бороться с молоком? — По здравому рассудку об этом думают иначе: человек пользуется железной дорогой — и так далее, до молока и до всего, что хорошо во всей природе, включительно до воздуха, например. Или дышать — это борьба с воздухом?
«Но мужик пашет землю; как же не борется?» — Да с чем же? — «С почвой». — Как это? Вот если бы он рыл землю пальцами рук, это еще было бы похоже на борьбу: бесполезная трата сил; но землю режет соха. — «Ну, соха борется с природой» — и так далее; дело в том, что эти мудрецы имеют головы, набитые антропоморфизмом: Ахиллес борется с Ахелоем, потому что Ахелой, хоть и река, но имеет рога; а рога имеет бык; следовательно, река — бык, а чищенье конюшень Авгия — борьба; так, но с быком же все-таки, а не с природой. Если река — бык, то бороться с нею можно: но чтобы можно было бороться с природой, этому не верил и слепой полудикарь Гомер: он знал, что не только люди, но и Паллада (разум) и Зевс (человеческая сила, в смысле Зезса, отца Паллады) преклоняются безо всякой борьбы перед Мойрой или Эймарменой: все, что делают к Паллада, мудрость, и Деметра (земледелие) — они делают лишь по позволению «Судьбы» (сумма сил природы) — в наше время, можно было бы понимать вещи хоть не хуже Гомера.
«К чему же ведет ваша система?» — с молодости моей говорили мне все так называемые прогрессисты всех сортов. — «К апатии? Квиэтизму?» — К чему ведет истина, все равно: она остается истиной. Если у человека в кармане две копейки, а золотник чаю стоит копейку, то этот человек может купить только два золотника чаю; это прискорбно для него? — Быть может; даже вероятно; но знай, что таблица умножения не изменяется по твоему желанию и что 1 × 2 = 2, а не больше; потому сиди сложа руки? — нет; но в лавку итти тебе рано; иди прежде и поработай; и когда заработаешь рубль, тогда иди в лавку. «А с двумя копейками нельзя итти в лавку»? — Кто запрещает глупцу быть глупым? Никто; потому что это была бы «борьба с природой» — напрасная; но бегать в лавку с двумя копейками значит расходовать одежду и обувь на дела, которыми не окупается убыток носки платья и обуви.
О, эти прогрессисты — умные люди. Одна беда им и от них: глупцы напишут глупости; они — не потрудятся вникнуть в дело,
549
а перепишут все сплошь заменяя, например, аскетические термины механическими или консервативные эпитеты прогрессивными, или наоборот: прогрессивные термины, — если писавший глупец воображал себя прогрессистом, то — консервативными в переписывании глупою рукою воображаемого консерватора.
Один из прогрессивных глупцов, имевших очень сильное влияние на всех глупцов без различия, был Прудон. Быть может, и даровитый от природы; быть может, и бескорыстный (хоть это известная манера со времен Агатокла Сиракузского; пренебрегать светскими приличиями и не набирать себе денег; манера множества честолюбцев). Но каков бы ни был он от природы, он был невежда и нахал, кричавший без разбора всякую чепуху, какая забредет ему в голову из какой — газеты ли, идиотской ли книжонки, умной ли книги, этого различать он не мог, по недостатку образования. И теперь он один из оракулов людей всяческих мнений. И удобно ему быть им: какая кому нравится глупость, всякая есть у этого оракула! — Кому-нибудь кажется, что 2 × 2 = 5 — Ищи у Прудона, найдется подтверждение с прибавкою: «мерзавцы все те, кто в этом сомневается»; — другому кажется, что 2 × 2 = 7, а не 5; ищи у Прудона: найдется и это с той же прибавкой.
Милый мой Саша, в книгах люди боятся говорить всю мысль сполна; не у нас в России, — у нас только переписывают; сами еще не умеют думать ровно ничего ни о чем; но боятся передовые мыслители Англии, Америки, Франции, Германии; чего боятся? — прослыть людьми недостаточно глубокомысленными. Как сказать, что «2 × 2 = 5» бессмыслица? Прослывешь человеком ограниченного ума, и как сказать, что 2 × 2 = 4 — как? Прослывешь человеком, не ушедшим дальше таблицы умножения. — А кто-нибудь — вроде Прудона — проповедует без разбору и без скупости на ругательства — и оракул. Книги — прекрасная вещь и новые мысли — и так называемые благородные мысли — все это прекрасно; но редко отваживаются люди договаривать: «хладнокровие, рассудительность важнее всего; и личные обязанности — первейшие обязанности» — как можно! Это тривиальность. Хлеб, мясо, чай — все это тривиальности; а вода и воздух — еще большие тривиальности, такие, что и не имеют никакой ценности на рынке; а корица, гвоздика, мускатный орех — вот это драгоценные вещи; да, но перед теми — почти нуль.
Быть может, например, ты имеешь уважение ко мне; быть может, тебе нравится, если кто говорит обо мне с почтением; за добрые чувства ко мне я благодарен всем, имеющим их; но изо всех мужчин, молодых ли, старых ли, каких я встречал лично когда-нибудь, только у Добролюбова был образ мыслей, сколько-нибудь сходный с моим; изо всех книг, какие читывал я, только у Людвига Фейербаха не находил я глупостей. Фейербах не был то, что называют прогрессистом; и к тому, что делается на свете,
550
оставался безучастен; в этом отношении, любопытен его ответ на упреки «Revue des deux Mondes» за его холодность к прогрессу; этот ответ найдешь ты, если еще не читал, в предисловии к его «Лекциям о религии» — «Vorlesungen über das Wesen der Religion» — отдельный том, а не маленькая статья похожего заглавия: «На свете делаются чудеса, — говорит он; — я не верю в чудеса; потому сижу дома; не могу участвовать в совершении чудес» — то есть чудес нелепости, которая провозглашает себя прогрессивным образом мыслей и всяческими благородными именами. — Я всегда был человеком, смеявшимся над прогрессистами всяких сортов.
«Что же, нет и умных людей на свете, кроме тебя и Фейербаха?» — говорили они мне в более учтивых формах, конечно. — Не то; большинство людей — неглупые люди, пока толкуют о своих личных делах и о вещах, о которых принято говорить без реторики; например, хоть о математике, или оптике, или о сельском хозяйстве, или о выделке стеарина. Но как дело коснется «благородных мыслей», пойдет реторика. Например: «Как вы думаете о Рафаэле или Моцарте?» — шлюз глупости открыт, и полилось: «обожаю», «жить не могу без живописи и музыки», «что была бы земля, что были бы люди, если бы Рафаэль и Моцарт не возжигали в сердцах людей высоких чувств» и так дальше. Во-первых, человек начинает лгать о самом себе для эффекта: музыка и живопись — со всеми другими изящными искусствами — одна миллионная доля интересов его жизни; во-вторых, высокие чувства людей, взятых в сумме, лишь на одну миллионную долю возбуждаются этими искусствами; источник всего хорошего для людей, — и в том числе, благородных чувств, — добрые отношения человека к его близким; эти обыденные отношения к людям, с которыми живет человек в одной квартире. Хороши эти отношения? — то и люди честны, добры; много на свете таких людей? — то и хорошо для всех, хоть эти люди живут и работают для себя и живущих на одной квартире с ними, а не для человечества и тому подобных интересных абстракций.
Не против ли своего собственного примера говорю я? — Нет, мой друг Саша; с твоих лет и раньше я держался философии, не допускающей так называемых самоотверженных подвигов на пользу чью бы то ни было, кроме немногих людей, которых человек любит лично и для которых подвиги его не нужны, а нужно только, чтобы он — если он мужчина — зарабатывал кусок хлеба для них. Над всяким энтузиазмом я смеялся всегда, когда не видел особенной надобности заменять смех серьезными выговорами. Энтузиасты — это глупцы, глупцы, невыносимо глупенькие мальчики взрослых размеров тела. Большею частью добряки; и за это следует быть снисходительными к ним; но — дети, крошечные дети, проводящие век в дурачествах, неприличных взрослым людям.
551
Однако, лист близок к концу, письмо пора кончить.
Милая моя голубочка, несколько раз я просил тебя подумать серьезно о том, имеешь ли ты денежные средства жить где-нибудь на юге; где, все равно, по всем прибрежьям Средиземного и Черного морей, и дальше на восток, Кавказ — все равно, лишь бы климат был без снегов зимой и небо было бы светлое, чистое. Повторяю эту просьбу. Если можно, исполни: это будет хорошо твоему здоровью. И жизнь там во многих местах не дороже самых дешевых местностей холодных полос России. Подумай, и хорошо бы, если бы можно тебе иметь деньги на то.
У меня денег довольно на целые два года вперед. Не присылай. И белье есть еще на целый год.
Целую тебя, милый мой Миша, целую и тебя, Саша.
Благодарю всех, кто любит вас и, в особенности, кто любит тебя, моя милая радость.
Крепко обнимаю тебя, моя голубочка, и целую тысячи раз твои руки.
Твой Н. Ч.
515
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
1 декабря 1873. Вилюйск.
Милый друг Оленька,
Я получил твое письмо от 23 августа и письмо Миши от 28 августа. Благодарю тебя и его за них, и Сашу за его приписку к твоему письму.
Ты очень хорошо сделала, мол радость, что взяла к себе жить — как ее зовут, и кто она, кроме того, что она одна из целых пяти дочерей? — ту девушку; это, что она «девушка», а не девочка, ты передай ей в качестве комплимента. — Очень хорошо ты это сделала: ее семейству польза и ей, а тебе развлечение, удовольствие.
Очень рад я и тому, что на зиму ты осталась жить в Саратове: зима в нем несравненно здоровее сырой петербургской. Очень, очень рад я этому твоему решению. Береги свое здоровье, моя милая.
И желаю тебе меньше скучать в 1874 году, чем было в предыдущие. Будь только здоровенькая и старайся поменьше скучать: и я совершенно счастлив, когда так.
Я по обыкновению здоров, как желаю быть тебе.
Несколько дней тому назад написал я тебе и Саше длинное письмо. В ученых рассуждениях с Сашей заставил, кажется, Ахиллеса бороться с Ахелоем; это задан лишний труд сыну Тетиды; труд уж был исполнен хорошо раньше Геркулесом. До сих пор не отстал я от своей манеры переполнять то, что пишу, разъяснениями: начну одно, — брошу иногда, видя, что будет их слишком много, — и пишу второе, третье; а после забываю зачеркнуть
552
брошенное первое; так оставалось часто даже после корректур; есть у меня знаменитое объяснение состава стали из железа и кислорода; начал было, помню, писать о ржавчине; бросил; взял другой пример, сталь — а слово кислород так и осталось. — Тоже в письме вышло и с тригонометрическими фигурами: из пяти или шести рассудил начертить две или три; а приписывая к фигуре, положим, второй, — в мыслях, отброшенной, разъяснение букв по следующей в мыслях, забыл поправить фигуру, чтобы объяснение сходилось с чертежом.
Но довольно. Саша разберет такие элементарные вещи и без чертежей. Целую его.
Целую Мишу и благодарю за посылку очков. Судя по нумерам, которые сообщает он, кажется, что я не сумел определить фокусное расстояние своего зрения: прежде я носил очки 5-го нумера или 5¼. А впрочем, нумерация у разных оптиков не всегда одинаковая. И во всяком случае очки нумера 4½ очень годятся. Благодарю Мишу.
Целую тебя тысячи раз, моя милая голубочка, и крепко обнимаю. Будь здоровенькая и не скучай.
Твой Н. Ч.
516
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
30 декабря 1873. Вилюйск.
Милый мой друг Оленька,
Я совершенно здоров. Желаю тебе на новый год всего хорошего. Для меня будет хорошо, если он будет итти, как шел этот; вероятно, так и будет.
И, кстати, по поводу делания предположений о будущем. В Европе, и в России, и во всякой на свете стране есть очень много бестолковых людей. От бестолковых людей могут выходить всяческие глупые слухи. Могли какие-нибудь слухи быть и обо мне: могли тревожить тебя. Не тревожься.
Мое здоровье хорошо. Но я не могу переносить ничего, физически трудного. Одна ночь, проведенная в сырости, убила бы меня. Следовательно, я не могу желать ничего физически трудного и ни на что подобное не мог бы согласиться. И даю тебе, мой друг, честное слово: не уеду отсюда никаким другим способом, как тот, которым приехал сюда. Не могу. Мое здоровье не позволяет. Потому и не может быть у меня сомнения в том, что единственный способ уехать отсюда, возможный для меня: ехать с теми удобствами, с какими я ехал сюда. Иначе не имею физической силы. И даю тебе честное слово: не соглашусь ехать иначе.
Целую твои руки. Будь веселенькая и здоровенькая.
Целую детей. Обнимаю тебя тысячи и тысячи раз.
Твой Н. Чернышевский.
553
517
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
1 января 1874. Вилюйск.
Милый мой друг Оленька,
Желаю тебе здоровья и счастья в наступающем году; с этой мыслью встречаю его; это первые слова, которые шепчу и пишу, встречая его. И пусть это будет хорошим предвестием в нем для тебя, моя радость.
Для меня прошлый год был хорош. Надеюсь, не хуже или и лучше будет наступивший.
Ни одной минуты в прошлом году не было у меня неприятной: все шло спокойно, безо всяких неудобств или неудовольствий. Рассчитываю, что так же будет и вперед; или будет и лучше.
Здоровье мое остается очень хорошим; и, по всей вероятности, еще на много лет будет оставаться неизменным.
Будь только ты здорова, моя радость; и все будет хорошо; а я буду совершенно счастлив.
Попрежнему со всеми людьми здесь, с которыми вижусь, я в самых хороших отношениях. Во всех нахожу искреннее расположение ко мне. Так останется и вперед; в этом можешь быть уверена.
Денег не присылай мне, моя радость, ни в этом году, ни в следующем: у меня около 300 рублей в запасе; из них больше рублей двенадцати в месяц нет надобности расходовать; видишь, этот запас достаточен на два года, если бы привелось прожить здесь столько.
А между тем, уверяю тебя: ни в чем я не отказываю себе; живу очень хорошо и в материальном отношении, как в отношении спокойствия мыслей о самом себе.
Лично я совершенно доволен. Только мысли о тебе и детях — вся моя забота. О детях не очень много беспокоюсь: хорошие юноши; и что ж больше думать о них? — Но твое здоровье — предмет постоянного моего раздумья. Заботься о нем, моя радость.
Целую твои руки. Целую Сашу и Мишу. Поздравляю и их с Новым годом.
Целую и обнимаю тебя тысячи и тысячи раз, моя голубочка.
Будь здоровенькая и веселенькая, и все будет хорошо.
Твой Н. Ч.
518
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 14 января 1874.
Милый мой друг Оленька,
На самый день Нового года был случай мне писать к тебе. Теперь представляется опять. Из этого ты видишь: на самом
554
деле здесь все-таки немножко побольше удобств, нежели можно воображать, судя лишь по ландкарте. Все-таки Вилюйск город, хоть и очень маленький, и чрезвычайно бедный город, но имеет несколько напоминающий русскую обыкновенную, а не совершенно дикарскую жизнь характер быта. Например, хоть бы у меня теперь обыкновенный русский обед, безо всякого дикарского элемента в качестве кушанья. И вообще живу я похоже на то, как живут люди в обыкновенных русских городах.
По своему обыкновению я совершенно здоров.
Денег у меня в запасе остается около 310 рублей. По моим здешним расходам этого достаточно на два года. Поверь, что так. И прошу тебя, мой милый друг, не присылай мне денег ни в этом, ни в следующем году. Пожалуйста, не присылай. Прошу тебя очень серьезно: не присылай.
Пишу несколько строк для того, чтобы письмо имело шансы скорее дойти до тебя.
Будь здоровенькая и старайся быть веселенькой, и я буду совершенно счастлив.
Целую детей.
Крепко обнимаю тебя, моя милая радость, и целую твои руки. Будь здоровенькая.
Твой Н. Ч.
519
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 17 февраля 1874.
Милый мой друг Оленька,
Я получил твое письмо от 8 ноября. Благодарю тебя за него. Очень радует меня то, что ты намерена проводить следующие зимы в теплых климатах. Пожалуйста, делай так. Это будет полезно твоему здоровью.
Я получил посылку с бельем, табаком и проч. Благодарю за эти вещи. Но все, что прислано, было у меня или в достаточном количестве, или даже в избытке. Потому прошу тебя, моя милая голубочка, вперед, не присылай мне никаких вещей, совершенно никаких; будь в уверенности, что я не имею здесь недостатка ни в чем: все, что нужно, есть у меня и, надеюсь, будет постоянно в изобилии. Поверь, это правда. Я живу здесь очень хорошо. Не присылай же мне ничего; я ни в чем не нуждаюсь.
И в деньгах тоже не имею никакой надобности. Их у меня очень, очень достаточно. Я писал тебе несколько месяцев тому назад, что у меня их около 300 рублей в запасе. Столько же все еще остается и теперь. По моим здешним расходам это запас на целые два года. Поверь, так. Не присылай же мне денег ни в этом, ни в следующем году. Не имею надобности, уверяю тебя.
По своему обыкновению я совершенно здоров. Надеюсь, что здоровье еще очень долго будет неизменно мне.
555
Живу в самых хороших отношениях со всеми здешними людьми. Ни малейших неприятностей не имел с тех пор, как живу здесь. Надеюсь, так будет и вперед. Вообще все у меня здесь очень хорошо.
Заботься о своем здоровье, и я буду совершенно счастлив.
Хвалю Сашу за то, что он учится новым языкам. Ученому необходимо знать по крайней мере три языка: немецкий, французский, английский, настолько, чтобы читать на них книги так же легко, как на своем. Недурно знать и итальянский язык, но он не так необходим. Латинский можно и забыть, если недосуг поддерживать в себе знание его. Целую и Сашу и Мишу.
Крепко обнимаю тебя, моя милая голубочка, и целую твои руки. Будь здоровенькая, и все будет хорошо. Целую тебя.
Твой Н. Ч.
520
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
16 марта 1874. Вилюйск.
Милый друг Оленька,
Я получил твои письма и письма детей от 8 и от 29 ноября. Благодарю за них.
Получил очки, отправленные Мишею. Благодарю за них.
Получил посылку с бельем, табаком, проч. Прекрасно все это. Но всего этого достаточно, очень достаточно у меня. Прошу, не присылай мне никаких вещей. Все у меня есть, я не нуждаюсь ни в чем.
Я получил январскую книжку «Вестника Европы». Благодарю, что будет присылаться он и в нынешнем году.
Получил я сто рублей, отправленные Сашею. Разумеется, благодарю. Но не было нужно присылать их. У меня было в запасе около 300 рублей. Я рассчитывал, что этого достанет слишком на два года. А теперь у меня около 400 рублей. Этого, наверное, достанет на три года вперед. Потому прошу тебя, друг, не присылай мне денег ни в нынешнем году, ни в следующем году, ни в том, который будет следовать за следующим. На все эти три года вперед я обеспечен теми деньгами, какие уж имею. Прошу не присылай.
И не сомневайся: я живу здесь в изобилии; позволяю себе даже несколько роскошничать. И при всем этом тех денег, какие уж имею я теперь; достанет мне на три года.
Поздравляю тебя с днем твоего праздника.
Я совершенно здоров.
Живу здесь спокойно и удобно, безо всяких неприятностей. Со всеми людьми здесь я в самых хороших отношениях. Надеюсь так будет и вперед.
Заботься о своем здоровье, и все будет хорошо.
556
Целую детей.
Крепко обнимаю тебя, моя милая радость, и целую твои руки.
Будь здоровенькая.
Твой Н. Ч.
521
И. Г. ТЕРСИНСКОМУ
16 марта 1874. Вилюйск.
Добрый Иван Григорьевич,
Получать письма от меня — неприятный сюрприз. Я понимаю это. Но отлагая извинения до конца письма, перехожу прямо к делу. Оно вот в чем:
Несколько времени тому назад я писал Ольге Сократовне, что ей для поправления своего здоровья надобно пожить где-нибудь за границею, в климате более теплом, нежели русский. — Теперь она отвечает мне, что и сама знала это; я хотела сделать так; но что это оказалось невозможным, потому что у нее нет денег на поездку.
Нет денег; задержка важная, конечно. Но единственная ли? И самая ли важная? — Я предполагаю: не единственная; и не самая важная; но об этом после. А во-первых о той задержке, которую выставляет единственной Ольга Сократовна.
Весь прошлый год я постоянно писал ей, что живу здесь хорошо: в деньгах не имею надобности ни на этот 1874, ни на следующий год. И что ж, однако? — в начале нынешнего года все- таки получил я от нее деньги. Ясно: она думает, что я терплю нужду и скрываю это от нее. А почему ей так кажется? Я ограничивался неопределенными выражениями «живу очень хорошо» и тому подобное; а без подробных и точных сведений о моих средствах к жизни здесь трудно, в самом деле, поверить, что я не нуждаюсь в деньгах.
Сообщу необходимейшие из подробностей Вам. Вы человек служащий. Если скажу Вам о чем-нибудь, что лучше будет до времени не говорить этого никому, Вы сумеете умолчать. А что можно будет, то Вы перескажете Ольге Сократовне.
Я пользуюсь казенной квартирой. Дом, который я занимаю, самый лучший в целом городе. Я пользуюсь даровым отоплением и освещением. Я получаю из казны несколько побольше семнадцати рублей в месяц. Вы согласитесь: когда так, то немудрено поверить, что не имею я надобности расходовать много денег из своего запаса, а все-таки живу в изобилии.
И притом: если случается мне какая-нибудь надобность в чем-нибудь, меня снабжают всем, о чем я прошу. И делают это очень охотно; так что нельзя мне не быть искренно признательну за прекрасные, совершенно добрые отношения здешних должностных людей ко мне. Само собой юридические особенности моего положения стесняют меня в выражениях моей признательности к
557
людям, от которых я получаю эти добрые одолжения. Но обойдутся они и без того: люди очень добрые, очень добрые и хорошие люди здешние вилюйские должностные лица. И вообще ни от кого здесь я не слышал ни одного слова, неприятного или хоть бы только щекотливого; поверьте, так.
Не знаю, до какой степени должны быть умалчиваемы эти подробности. Но я надеюсь, никто не усомнится в Вашем уменье соблюсти официальную скромность. С этой уверенностью продолжаю.
Прошу Вас убедить Ольгу Сократовну, чтоб она не присылала мне денег. Я подумывал даже отослать ей те, которые присланы. Но рассудил, что это огорчило бы ее. Да и нет, я думаю, надобности в том для ее поездки. Пусть только не отнимает она денег у себя самой для меня; и достаточно будет у нее денег, чтоб ехать в Италию; на это нужны не очень большие деньги.
И в недостатке ли денег было главное препятствие поездке? Я предполагаю: нет, не в этом; а в официальном отказе выдать паспорт. Я может быть, ошибаюсь. Но я думаю так. И если было действительно так, то прошу Вас похлопочите об устранении этой задержки.
В том, что Вы исполните мою просьбу, я не сомневаюсь. Результат Ваших хлопот будет мне можно видеть из писем Ольги Сократовны. Следовательно, никакой ответ от Вас не нужен. И было бы очень неприятно для меня получить какое бы то ни было письмо от Вас. Слишком достаточно и того, что я подвергаю Вас неудовольствию получить мое письмо. Я старался придумать, как бы избавить Вас от этой неприятности. Но нет, не к кому было написать, кроме Вас. Простите ж. И ни в каком случае не отвечайте мне.
Ваш Н. Чернышевский.
522
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
25 марта 1874. Вилюйск.
Милый друг Оленька,
С неделю тому назад я послал письмо к тебе; а вот представляется уж опять случай к тому же. Из этого ты можешь видеть, что здесь не такое глухое место, как толкуют об том географы; а следовательно, можешь верить моим словам, что у здешних жителей и в том числе у меня не бывает недостатка в вещах, нужных для удобства жизни.
В прошлом письме я говорил, что очки, посланные Мишею, белье и другие вещи, присланные Сашею, получены мною; что получены и сто рублей, присланные мне тобою через Сашу. В том письме я просил тебя и теперь повторяю просьбу не присылай мне ничего, ни денег, ни вещей. Пожалуйста, моя милая голубочка, не
558
думай, что я здесь нуждаюсь в чем-нибудь. Всего, что мне нужно, у меня много. И денег в запасе у меня на три года вперед.
А между тем я живу, не отказывая себе ни в чем; даже роскошничаю. Поверь, моя радость, это не больше, как простая, чистая правда.
Здоровье мое совершенно хорошо по-обыкновенному.
Радуют меня успехи Саши в математике. Я больше, чем кто другой из ученых, не занимавшихся специально этой отраслью знаний, ценю важность ее; потому что мне в моих ученых работах очень часто представлялись вопросы, для быстрого и точного разрешения которых полезны были бы мне высшие части математики. Хорошая это наука.
Радуюсь успехам Саши и в английском языке. Советую ему и Мише стараться о достижении того, чтобы совершенно легко читать книги по крайней мере на трех важнейших языках ученой деятельности: английском, французском и немецком. Целую обоих моих милых детей.
Будь здоровенькая и старайся не хандрить. Крепко обнимаю тебя, моя голубочка, и целую тысячи и тысячи раз. Твои руки.
Твой Н. Ч.
523
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 30 марта 1874.
Милый мой дружок, Оленька,
Вот опять представляется случай писать к тебе, и я пользуюсь им. Я, кажется, объяснял тебе, почему иногда отправляю я к тебе лишь одно письмо в два месяца: а иногда, как вот теперь, и в один месяц два, три раза пишу к тебе. Дело в том, что почта ходит отсюда в Якутск лишь раз в два месяца (также и приходит сюда из Якутска). Но когда едет отсюда в Якутск кто-нибудь из служащих по делам ли службы или по своей надобности, все равно он кстати берет с собой почтовую корреспонденцию; а благодаря этому здешние сношения с Якутском и остальным миром бывают временами довольно частые. Это в особенности зимой и в начале весны, пока есть санный путь. Заведутся когда-нибудь такие же удобные сообщения и летом: Вилюй река довольно большая; по ней могут ходить пароходы и будут когда-нибудь. Но пока на ней еще нет и парусных судов. Впрочем, хлеб, соль, чай, сахар идут сюда уж по реке; но на огромных лодках, без парусов. Главная причина такой отсталости, вероятно, та, что якуты не умеют управлять парусами, а русские здесь не нанимаются ни в какие тяжелые работы: все они живут более или менее по-барски, и даже дрова рубят и возят им якуты. Каждый русский в Якутской области немножко аристократ.
А когда все русские здесь имеют возможность жить так, то понятно, что я живу уж и вовсе хорошо.
559
И совершенно спокойно. Никаких ни неприятностей, ни стеснений я не испытывал здесь; надеюсь, так будет и вперед. Все здесь хороши со мной и с искренним расположением оказывают мне всяческие добрые услуги; так что не могу я не иметь признательности к этим людям за их прекрасные отношения ко мне.
Повторяю, что писал в прошлый раз: всего, что мне нужно, у меня много. Ни денег, ни вещей не присылай мне, мой друг.
По обыкновению, я совершенно здоров.
Целую детей.
Крепко обнимаю тебя, моя милая голубочка, и целую твои руки. Будь, моя радость, веселенькая и здоровенькая, и все будет хорошо.
Твой Н. Ч.
524
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
11 апреля 1874. Вилюйск.
Милый мой дружок Оленька,
Вот опять представляется случай отправки почтовой корреспонденции отсюда, и опять я пользуюсь им, чтобы сказать тебе, что я совершенно здоров и живу попрежнему, удобно, спокойно и во всех отношениях хорошо.
Здесь уж показываются признаки начала весны, хоть еще и слабые, но приятные после долгого периода морозов. Нынешний день, например, я мог довольно долго ходить по двору не только без шубы, но и без шапки: так тепло. Недели через две появятся и лужайки зелени на местах, где склон к югу.
Вообще здешний климат, хоть и чрезмерно изобилует морозами, не совершенно лишен теплого времени. В первое лето моей жизни здесь я купался в реке около двух месяцев. На мелких местах вода согревалась днем до такой степени, что можно было оставаться в ней сколько угодно часов; и я проводил иногда целый день в том, что забавлялся купаньем. Прошлое лето было дождливое, и я купался мало. Нынешнее, судя по раннему началу оттепелей, обещает быть долгим и жарким; если будет так, опять буду забавляться купаньем.
А пока читаю и перечитываю книжонки, какие есть у меня. Время идет быстро и приятно. Ученость моя постоянно возрастает; между прочим, чтобы похвалиться перед Сашей, скажу, что выучился я здесь прямолинейной тригонометрии; собственным умом постепенно изобретал способы вычисления синусов с их принадлежностями и изобрел, наконец, всю прямолинейную тригонометрию; открыл даже несколько теорем из сферической. Вот каковы мои успехи в науках. Льщу себя надеждой, что изобрету и параболу, и гиперболу; но до решения уравнений третьей степени едва ли доберусь: много я бился над ними; нет не изобретаются
560
они. Смешно самому, но от нечего делать годится все это к тому, чтобы время шло без скуки.
Итак, я живу хорошо, здоров, денег у меня много. Повторяю свою просьбу: ни денег, ни вещей не присылай мне, моя милая радость. Я не нуждаюсь ни в чем. Целую детей.
Будь здоровенькая и веселенькая, моя милая голубочка.
Целую твои руки и тысячи раз обнимаю тебя.
Твой Н. Ч.
525
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
25 апреля 1874. Вилюйск.
Милый мой друг Оленька,
Я получил твое письмо от 15 января. Благодарю тебя за него. Но умоляю: будь заботлива о своем здоровье. Каждая зима расстраивает его; это ясно: морозы вовсе не годятся для него. Пожалуйста, моя радость, не пренебреги той просьбой, с которой уж издавна я постоянно обращаюсь к тебе, просьбой о том, чтобы ты проводила зимы в Италии; это совершенно необходимо для того, чтобы твое здоровье восстановилось. Без этого каждый год одно и то же: летом ты более или менее здорова; как начинаются морозы, приходится тебе страдать, пока они продолжаются. — Доехать до Италии не очень дорого; а жизнь там дешевле, чем в России. Потому я не могу полагать, чтобы исполнение моей просьбы было трудно для тебя в денежном отношении. И хочу надеяться, что будет возможно тебе исполнить ее.
Для того, чтобы не страдать от зимнего холода, необходимо ехать не в Северную Италию и даже не в Среднюю, а в Южную. Ломбардия, даже Тоскана имеет зиму все еще суровую; а домы там построены на живую нитку; и, главное, нет ни печей, ни порядочных каминов. Легко для здоровья в Италии только там зимою, где уж нет холодного времени; это — приморские места на юг от Неаполя (например, Сорренто) и, еще лучше, Сицилия. Еще лучше даже самой Сицилии южный край Португалии; он далек от центра Европы; потому медики мало говорят о нем, туристы не посещают его; но он наиболее благоприятный здоровью уголок в целой Европе.
Итак, если можно, то решись ехать в южную Португалию; а если это слишком дорого, то, умоляю тебя, отправляйся жить в Южную Италию или на Сицилию.
Я совершенно здоров, живу хорошо. Со всеми в самых лучших отношениях. Денег у меня много. — Целую детей.
Крепко обнимаю и тысячи раз целую тебя, моя милая голубочка. Будь здоровенькая.
Твой Н. Ч.
36 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
561
526
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
28 мая 1874. Вилюйск.
Милый мой дружок Оленька,
Я совершенно здоров по своему хорошему и неизменному обыкновению. Живу попрежнему, спокойно, в изобилии, безо всяких неприятностей или неудобств и в самых добрых отношениях со всеми здешними людьми. Денег у меня много. Белья и других необходимых вещей тоже много.
Вообще, моя милая Радость, ты будешь иметь верное понятие о моей здешней жизни, если будешь представлять ее себе такою, какую, бывало, вели и, вероятно, до сих пор ведут в своих деревнях помещики среднего сорта, небогатые, но далеко не бедные люди, спокойного и беззаботного характера.
Началась весна. Летний путь устанавливается; а с месяц или больше проезд отсюда до Якутска был труден даже для здешних козаков, исправляющих должность почтальонов. Потому и не было в эти несколько недель случаев отправки почтовой корреспонденции. Вот причина тому, что я довольно долго — месяца полтора, быть может — не писал к тебе. И вперед, если будут промежутки месяца по два от одного моего письма до другого, объясняй промедление только такими же случаями. Но, по всей вероятности, теперь дорога поправится на несколько месяцев.
А погода здесь уж теплая, прекрасная. Река в полном разливе. Появляется трава. Распускаются деревья. Прогулки снова стали для меня делом удовольствия, а не одной только гигиенической пользы, как было во время морозов.
Впрочем, привычка к климату сильно изменяет впечатления: холод в 25 градусов теперь не кажется мне значительным морозом. Но теплое время все-таки гораздо приятнее, разумеется, чем зима.
Пишу лишь несколько строк для того, чтобы письмо скорее дошло до тебя, моя милая радость.
Целую детей.
Крепко обнимаю тебя, моя милая, и тысячи раз целую твои руки. Будь здоровенькая и старайся быть веселенькой, и все будет хорошо.
Твой Н. Ч.
527
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 8 июня 1874.
Милый мой друг Оленька,
Вот опять отправляется отсюда почта, и опять я пользуюсь этим, чтобы написать тебе несколько строк. Быть может, короткие письма мои доходят к тебе скорее длинных; не знаю, так ли:
562
но полагаю, что это возможно; потому-то и пишу тебе обыкновенно лишь коротенькие записочки, подобные этой. А если б не это мое предположение, быть может и неосновательное, то, разумеется, каждое мое письмо к тебе было бы целою толстою тетрадью.
По обыкновению я совершенно здоров. Пользуюсь летним временем для того, чтобы побольше быть на чистом воздухе. Гигиенической необходимости для меня нет; да и по склонности я предпочитаю, как ты знаешь, комнату и книгу прогулкам. Но все-таки, вероятно, что прогуливаться не бесполезно; потому делаю принуждение себе и брожу довольно много.
С здешними людьми со всеми я в самых хороших отношениях; это и не может быть иначе, потому что они люди добродушные. Но видаюсь я с ними довольно мало, потому что мои разговоры скучны для них; а занимательны ли для меня их разговоры, о том и сомневаться, конечно, было бы напрасно. — «Ныне погода хороша». — «Да, хороша». — Этим обменом мыслей исчерпывается, конечно, весь запас того, что я и они, мы имеем общего в наших умственных и житейских интересах.
Но у меня есть книги; глаза мои до сих пор не знают утомления; потому я никогда не испытываю скуки.
И забот о себе у меня нет. Заботливое раздумье у меня лишь одно: о твоем здоровье, моя милая голубочка. Здорова ты? — то я совершенно счастлив.
Целую Сашу и Мишу.
Крепко обнимаю тебя, моя радость, и тысячи раз целую твои руки.
Будь здоровенькая и веселенькая, и все будет хорошо.
Твой Н. Ч.
528
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
8 июля 1874. Вилюйск.
Милый мой друг Оленька,
Я получил письма твои, Сашины и Мишины от 1 и 9 февраля, 15, 20 и 25 марта. Благодарю за них. По письмам детей видно, что они у нас с тобою люди неглупые и усердно готовятся быть людьми честными и дельными. Это радует меня.
Радует меня и то, что с весной здоровье твое стало поправляться. Умоляю тебя, уезжай на зимнее время в теплый климат.
Готовлюсь праздновать день твоего ангела. Буду думать, что ты совершенно здорова и будешь вперед сберегать свое здоровье, проводя каждую зиму на юге Европы.
Я получил первые нумера «Отечественных записок», «Вестника Европы» и «Знания» за нынешний год. Благодарю за них.
По обыкновению я пользуюсь превосходным здоровьем. По-прежнему живу хорошо и со всеми в хороших отношениях.
36*
563
Денег у меня много. Всего необходимого для комфортабельной жизни тоже много. Прошу не присылать мне ни денег, никаких вещей. Все я имею с избытком; прошу, не сомневайся в том.
Пишу лишь несколько строк в надежде, что это полезно для того, чтобы письмо дошло до тебя скоро.
Целую Сашу и Мишу.
Крепко обнимаю тебя, моя милая радость, и целую тысячи раз твои руки. Будь здоровенькая, и все будет хорошо.
Твой Н. Ч.
529
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 18 июля 1874.
Милый дружок Оленька,
Опять представляется случай отправить письмо к тебе; сказать, что, по своему неизменному обыкновению, я совершенно здоров, что живу попрежнему, хорошо, безо всяких неприятностей, без малейших неудобств, и в самых лучших отношениях со всеми здешними людьми.
Я писал тебе, кажется, несколько раз о том, какой здесь обычай относительно покупки товаров. Повторю, на случай, если ты забыла. Здешние купцы ведут торговлю собственно лишь для якутов. Русских здесь так мало, что их надобности не могли бы поддержать ни даже самой крошечной постоянной торговли. Поэтому купцы уж и не хотят иметь выгод от русских; это их добрые знакомые, которым они оказывают по знакомству совершенно бескорыстную услугу, исполняя, при своих торговых закупках для якутов, их поручения о покупках для них, своих знакомых. Отправляясь на ярмарку в Якутск, купец берет от русского деньги; записывает, какие товары просит его купить на эти деньги русский, давший их. Покупает. Кладет эти товары вместе со своими. Приплывут они. Он рассчитывает, во сколько с пуда обошелся ему сплав. Обыкновенно это копеек от 50 до 70 на пуд. И только. Платы за свои хлопоты купец не берет. Нет ли, вместо того, прибавки в цифрах цен, которые выставляет он покупными ценами? — Нет; и быть не может: каждая покупка, сделанная купцом для себя ли, по чужому ли поручению, в подробности известна здешним жителям; весь год идут толки у них о том, что, как и по какой цене какой якутский купец купил у какого здешнего или продал ему. Кто поехал в Якутск, ведет там нескончаемые расспросы об этом; кто приехал из Якутска сюда, также неутомимо повествует всяческие мелочи обо всем, что, как и почему делалось во время ярмарки. Понятно, говорить ровно не о чем, кроме этого; и толкуют все об этом целый год.
Итак, по здешнему порядку и у меня здесь расход, сколько-нибудь крупный, бывает только один раз в год: в начале июля,
564
отдача денег купцу, едущему на ярмарку. Затем во весь остальной год я почти нисколько не расходую из своего запаса денег. В эту половину года я едва ли израсходовал рублей десять. Все запасено было прошлым летом. То же будет и вперед. А денег остается у меня по крайней мере еще на два раза делания годичных закупок. Стало быть, я обеспечен деньгами, находящимися у меня теперь, на два года, кроме нынешнего года.
Поэтому, прошу: не присылай мне ни денег, ни вещей. У меня всего много; всего с избытком; и надолго.
Будь здоровенькая и старайся быть веселенькой, моя милая голубочка, и все будет хорошо.
Целую детей. Крепко обнимаю и целую тебя, моя радость.
Твой Н. Ч.
530
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 30 июля 1874.
Милый мой дружочек Оленька,
Снова представился случай написать тебе мои обыкновенные известия: то, что я совершенно здоров, живу очень хорошо, нахожусь в самых добрых отношениях со всеми здешними людьми; то, что у меня и денег и всяких нужных вещей много; что я провожу время в чтении и в прогулках.
Лето здесь стоит прекрасное, так что гулять приятно.
Благодарю за журналы, которые присылаются мне в нынешнем году; это «Отечественные записки», «Вестник Европы», «Знание». Кажется, я уж писал, что получаю их. Получил также книгу Беджгота, посланную мне. Благодарю и за эту посылку.
Прошу тебя, моя милая голубочка, заботься о своем здоровье; хорошо оно, то я и счастлив.
Пишу лишь несколько строк, чтобы письмо скорее дошло до тебя.
Целую детей.
Крепко обнимаю тебя, моя радость, и целую твои руки. Будь здоровенькая и веселенькая.
Твой Н. Ч.
531
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
18 августа 1874. Вилюйск.
Милый мой дружочек Оленька,
Благодаря тому, что снова представляется случай отправки бумаг и писем отсюда в интервале между сроками почт, опять скажу тебе, что я по своему неизменному правилу совершенно здоров, живу попрежнему хорошо, безо всяких неудобств, без
565
малейших стеснений или неприятностей и в самых добрых отношениях со всеми здешними людьми.
Все еще держится здесь теплая, даже жаркая погода. Я пользуюсь ею, чтобы бродить по целым дням. В это лето было у меня в комнате несколько приобретений, характеризующих обстановку Вилюйска. Однажды на двор дома, в котором я живу, пришла дикая утка с шестью утятами. Надобно поймать их, не правда ли? И поймали. Через несколько дней оказалось: на крыше сидит жаворонок, еще не умеющий бойко летать. Бедняжка упал с крыши. И тоже не миновал плена. Когда стал летать хорошо, я отпустил его. Раньше того так же поступил я и с утятами. Иную развязку имело третье происшествие, с летучей белкой. Она тоже забралась на крышу моего дома, тоже свалилась, тоже была взята в плен; но не стала ждать, пока ее выпустят, а ушла сама. Это очень милый крошечный зверок; я с неделю забавлялся его шалостями. — Теперь вздумал поселиться на дворе моего дома орел из породы рыболовов; да, орел; слыханное ли у натуралистов дело? — орел живет на дворе человеческого жилища. С орлом нельзя поступать, как с утятами или с белкой: он волшебник; якуты не смеют стрелять его; вообще, не годится обижать его. Итак, он живет у меня на дворе неприкосновенным. Что будет дальше, неизвестно, разумеется; но очевидно, что не будет ничего удивительного, если поселится на моем дворе чернобурая лисица. Прошлым летом у самых ворот моих происходило же сражение у дворовой собаки с горностаем. И вот, от нечего делать, я забавляюсь этими зоологическими приключениями.
Товары на Якутской ярмарке были, говорят, много дешевле обыкновенного. Потому окажется, вероятно, что денег в запасе у меня останется более трехсот рублей. А покупками, уже сделанными, я обеспечен уж на целый год вперед. Во всяком случае, моего запаса будет мне достаточно еще на два года. Прошу не присылать мне ни денег, ни вещей ни в этом году, ни в следующем. У меня всего много.
Целую Сашу и Мишу.
Крепко обнимаю тебя, моя милая радость, и тысячи раз целую твои ручки. Будь здоровенькая, моя голубочка, и старайся быть веселенькою.
Твой Н. Ч.
532
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
27 августа 1874. Вилюйск.
Милый мой друг Оленька,
Пользуюсь новым случаем отправки почты отсюда, чтобы написать тебе обыкновенные мои известия о себе: я совершенно здоров; живу попрежнему хорошо, безо всяких неудобств и без малейших неприятностей.
566
Здорова ли ты, моя голубочка? Да? — То я совершенно счастлив.
Могла ли ты исполнить мою просьбу к тебе, уехать на зимнее время в теплый климат? — Южная Италия восстановит твои силы во всей их свежести, это несомненно. А если бы достало у тебя денег и охоты, было бы хорошо тебе поездить и по другим таким же благодатным уголкам западной части Средиземного моря. В Португалии господствует, кажется, ненарушимая тишина жизни; вероятно, и в Андалузии теперь нет военных тревог; если так, то и эта страна не хуже Южной Италии.
Я был бы очень рад, моя милая Оленька, если бы узнал, что ты живешь в какой-нибудь из тех здоровых и прекрасных стран, где не бывает холодов зимою.
И довольно на этот раз.
Целую Сашу и Мишу.
Крепко обнимаю тебя, моя радость, и целую твои руки.
Будь здоровенькая, и все будет хорошо.
Твой Н. Ч.
533
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск, 8 сентября 1874.
Милый мой дружок Оленька,
Я получил твое письмо от 9 июня. Оно обрадовало меня тем, что твое здоровье поправилось. Но, моя радость, заботься, прошу тебя, о сбережении себя от зимних холодов; пожалуйста, поставь себе правилом проводить зимы в южных местностях, где не бывает снега.
Я живу попрежнему: хорошо и в добрых отношениях со всеми здешними людьми. Что я совершенно здоров, это разумеется само собой; и вперед будет так, можешь быть уверена, потому что сохранение здоровья — дело, зависящее исключительно от меня; а во внимательности к нему нет и не будет недостатка у меня.
О деньгах я писал тебе много раз, что у меня их много и достанет надолго. Так это и остается, конечно.
Поздравляю Мишу с тем, что он учился в этом году успешно. Надеюсь, что наши с тобой дети вырастут хорошими, честными и неглупыми людьми.
Целую их.
В эти месяцы было много случаев отправки почтовой корреспонденции отсюда. Вероятно то же будет и вперед. Но прошу тебя, мой милый друг, не забывать, что постоянное, непременное правило требует отсылки почты отсюда только по одному разу в два месяца. Отправления ее, более частые, происходят лишь по случайным казенным надобностям; иной раз таких надобностей может и не представляться в интервале регулярной двухмесячной корреспонденции. Напоминаю тебе об этом, чтобы ты не прида-
567
вала никакой важности, если когда может случаться, что между моими письмами бывают промежутки, несколько длинные. Число, моих писем к тебе определяется лишь числом почтовых случаев посылать их.
Будь здоровенькая и старайся не хандрить, и все будет хорошо.
Крепко обнимаю тебя, моя радость, и тысячи раз целую твои ручки.
Будь здоровенькая, милая моя голубочка.
Твой Н. Ч.
534
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск, 29 сентября 1874.
Милый мой друг Оленька,
Я получил твои письма от 21 июня и от 11 июля. Благодарю тебя за них, моя голубочка. Я совершенно здоров, и живу по-прежнему, то есть очень хорошо.
По поводу того, что я прочел в этих письмах о дурном обращении моих родных с тобою, я нахожу нужным написать Саше следующие строки:
Милый мой Саша,
По приезде моем сюда, я целый год наполнял письма мои к твоей матери разъяснениями того, что ехать ей сюда не следует и думать, потому что жить ей со мной здесь невозможно. Она уступила, наконец, моим доводам и просьбам. Когда она написала мне, что, уступая мне в этом, отказывается от своего неосуществимого намерения ехать сюда, только тогда я успокоился.
Из моих тогдашних писем к ней это известно тебе, мой милый.
Повтори ж это моим родным. И скажи им от моего имени следующее:
Их упреки Ольге Сократовне за то, что она не поехала сюда — глупость и пошлость.
Передавши им эти мои слова, прибавь, что я считаю твоею сыновнею обязанностью перестать видеться с людьми, которые оскорбляют твою мать.
Надеюсь, ты исполнишь мою просьбу прекратить всякие сношения с ними.
Скажи Мише, что я запрещаю ему видеться с ними.
Целую тебя и его.
Твой Н. Чернышевский.
Ты, моя милая голубочка, вырежь из письма этот лоскуток и передай Саше.
Признаться сказать, я немножко посмеялся тому, что ты, моя голубочка, веришь, будто бы неприятности, которые ты терпишь
568
от моих родных, происходят от неудовольствия на тебя за то, что ты послушалась меня и не поехала сюда. Это они, разумеется, лишь говорят так. Досадуют они вовсе не за это и не на тебя, а на меня; а на меня досадуют за то, что я стал бесполезен для них в денежном отношении: и, конечно, если бы я продолжал жить в Петербурге и издавать «Современник», я получал бы теперь не по пятнадцати тысяч рублей в год, а гораздо больше; согласись, моя милая радость, они много теряют от того, что я живу не в Петербурге, и досада их на меня очень резонна. Лучше, чем огорчаться их пошлостью, смейся над нею.
Целую наших с тобою детей.
Крепко обнимаю тебя, моя милая Оленька, и тысячи раз целую твои руки. Будь здоровенькая и старайся не хандрить, и все будет хорошо.
Твой Н. Ч.
535
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 22 октября 1874.
Милый мой дружок Оленька,
Я совершенно здоров и живу попрежнему, очень хорошо.
Возвращаясь к тому, что некоторые из моих родных дурно поступают с тобою, повторю, коротко, слова, которые написал в прежнем моем письме к тебе, моя радость:
Советую тебе не огорчаться этою их глупостью.
Прошу передать Саше и Мише мое желание, чтоб они перестали видеться с теми, кто огорчает тебя.
Повторяю это по своему правилу говорить обо всем по нескольку раз; и повторяю как можно короче, для того, чтобы письмо поскорее могло дойти до тебя.
Пожалуйста, моя милая голубочка, не принимай горячо к сердцу пошлостей, которые говорят мои глупые родные; будь здоровенькая, и все будет хорошо.
Целую Сашу и Мишу.
Крепко обнимаю тебя, моя радость, и тысячи раз целую твои ручки.
Твой Н. Ч.
536
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 29 октября 1874.
Милый мой друг Оленька,
Я получил твои письма от 23 и от 25 июля. Благодарю тебя за них, моя голубочка. Каждая строка, написанная твоей рукой, отрада мне; она написана твоей рукой, — и достаточно этого, чтоб она была отрадой мне.
569
Я совершенно здоров. Живу попрежнему, очень хорошо. Денег у меня много. Белья и других вещей тоже. Прошу тебя, не присылай мне в следующем году ни денег, ни каких вещей. Прошу об этом серьезно; пожалуйста, мой милый друг, послушайся этой моей просьбы. Не присылай ничего. Всего у меня много. Когда буду иметь надобность в чем, то попрошу прислать. А пока прошу, не присылай ничего.
И в этот раз, как всегда, хотелось бы мне написать тебе много страниц. Все мои мысли — о тебе; то как же не хотелось бы? Но, быть может, чем короче мои письма к тебе, тем удобнее тебе получать их.
Поэтому* напишу только**: вся моя жизнь состоит в мыслях о тебе.
Целую Сашу и Мишу. Благодарю их за письма ко мне.
Крепко обнимаю тебя, моя радость и тысячи, тысячи раз целую твои руки.
Заботься о своем здоровье, моя милая Лялечка, и все будет хорошо.
Твой Н. Ч.
537
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 10 декабря 1874 г.
Милый мой друг Оленька,
Я получил твои письма от 21 августа и от 4 сентября. Благодарю тебя за них, моя радость.
Ты слишком мало заботишься о твоем здоровье, мой дружочек. Я не хочу принимать никаких твоих объяснений о невозможности для тебя переехать жить на юг. Это дело необходимое для восстановления твоих сил. И потому прошу тебя: не смущайся затруднениями, какие представляются ему, а употреби серьезную энергию для их преодоления; и окажется, что они не очень велики и довольно легко устранятся. Пожалуйста, попробуй серьезно исполнить эту мою просьбу; и наверное все устроится хорошо. А как поживешь ты, сколько надобно для твоего здоровья, на юге, ты будешь иметь и мысли не такие грустные, как те, которые наводит на тебя неудовлетворительность твоего здоровья. Умоляю тебя, моя милая голубочка, исполни эту мою просьбу.
Пишу, по обыкновению, как можно короче, в надежде, что это поможет письму скорее дойти до тебя.
Живу исключительно мыслями о тебе, моя радость.
Я совершенно здоров. Денег у меня много. Ни в чем не нуждаюсь. Прошу не присылать мне ни денег, ни вещей.
Целую детей.
Крепко обнимаю тебя, моя радость, и тысячи раз целую твои руки.
Твой Н. Ч.
538
О. С. и А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
6 января 1875. Вилюйск.
Милый мой дружочек Оленька,
Новый год я встретил с твоими письмами (от 23 сентября и 14 октября) и с твоею новою фотографическою карточкою в руках; с надеждами, что этот год будет для тебя, милой любви моей, счастливее предыдущих лет. На новой карточке ты совершенно все та же, как на прежних, все совершенно та же, какою я видел тебя в гостях у меня в Забайкалье: совершенно все та же ты, моя милая. И долго, очень долго будешь оставаться все такою, если будешь беречь свое здоровье. Оно хорошо теперь, говоришь ты в письме от 14 октября, — следовательно, я счастлив. Береги мне это счастье, которым одним на свете я дорожу.
Благодарю Мишу за его письмо. О его успехах или неудачах в экзаменах советую ему беспокоиться не больше того, чем заслуживают эти формальности, важные только тем, что через них получаются дипломы; раньше ли годом или двумя, позже ли получит он эти дипломы, в его лета еще все равно. Успеет получить.
Жму руку тебе, милый Саша, за твое письмо с подробностями о диссертации, которую ты готовишь. Я понял те уравнения, какие ты написал; и это уж было трудным ученым подвигом для меня, так мало знающего математику: если я хвалился своими успехами в ней, само собою разумеется, это я писал, чтобы посмеяться над собой; я всегда был и остаюсь охотником смеяться сам над своими недостатками в характере ли, в качествах ли умственных, в житейской ли практичности, в ученых ли сведениях. Я едва-едва знаю арифметику, да немножко — очень мало — из самой элементарной геометрии. Впрочем, ты изложил свои мысли так ясно, что я вижу их правильность. Чтобы ты мог посмеяться над моими математическими трудами вместе со мной, напишу тебе в одном из следующих писем, как я усердствую шествовать под твоим руководством по пути математических открытий.
Но в одном из следующих писем; когда случится так, что почтовая оказия представится через немного дней после какой прежней, с которой уже отправлено уведомление мое о себе, что я здоров так же, как всегда. — А теперь довольно давно не было такой случайности, промежуток времени от предыдущего письма велик, и я забочусь лишь о том, чтоб это письмо принесло поскорее тебе, моя голубочка, обыкновенное мое известие о себе, что я совершенно здоров и живу очень хорошо.
Я живу очень хорошо. Ты напрасно сомневаешься в этом, моя голубочка. Когда одно письмо мое будет писано скоро после другого, я попробую доказать тебе подробно, что я живу очень хорошо. А пока прошу: верь этому моему уверению.
571
Тогда напишу поподробнее свои мысли и о неприятностях, которые ты испытываешь от моих родных; мысли те же самые, разумеется, какие уж сообщал я тебе раза два по поводу прежних твоих слов об этом: напрасно ты огорчаешься пошлой болтовней глупых людей; надобно, чтобы дети наши прекратили всякие сношения с этими глупыми людьми; повторяю тебе, Саша, и тебе, Миша, мою просьбу об этом.
А тебя, моя милая радость, прошу: не принимай к сердцу пустяков, которыми стараются досаждать тебе мои глупые родные.
Целую Сашу и Мишу.
Крепко обнимаю тебя, мой милый друг, тысячи и тысячи раз целую твои руки. Будь здоровенькая, и все будет прекрасно.
Твой Н. Ч.
539
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
15 января 1875. Вилюйск.
Милый мой дружочек Оленька,
Я получил письма твои от 8 и от 10 ноября. Благодарю тебя за них. Благодарю Сашу и Мишу за их приписки к этим письмам.
Ты говоришь, моя радость, что твоей поездке в Италию представляются два затруднения: во-первых, это стоило бы дорого; во- вторых, ты не знаешь, каков был бы официальный ход дела об этом твоем желании.
Об официальной стороне дела могу уверить тебя, что она будет нимало не затруднительна. Распространяться об этой моей уверенности я не хочу; довольно того, что я имею ее, и прошу тебя не сомневаться в основательности этого моего убеждения.
Но, говоришь ты, поездка эта стоила бы дорого. Нет. Когда ты, проживши несколько месяцев в Италии, сведешь счеты своим расходам, ты увидишь, что у тебя за это время вместе со всеми издержками на проезд израсходовалось меньше денег, нежели издерживалось в такой же период времени жизни в России. — Во многих местностях России дешевле, чем где-нибудь в остальной Европе, хлеб и мясо; поэтому и говорят, что жизнь в России дешевле, чем где-нибудь. Но это говорится лишь о людях, у которых главный расход — покупка хлеба и мяса; о людях из самых низших классов простонародья. Только о них это и справедливо. Уж и для ремесленников не то: как скоро человек живет получше самых бедных людей, покупка мяса и хлеба уж не очень важная часть его расходов; чай или кофе, сахар, одежда, обувь, квартира и тому подобные надобности обходятся ему гораздо дороже, чем те сорты пищи, которых не больше ест он, чем простолюдин бедного класса, и которыми почти исключительно ограничиваются расходы беднейшего слоя простолюдинов. А одежда, обувь, квартира, мебель, порядочное кушанье, какое имеет ремесленник, — все это в России дороже, нежели в Западной Европе. Положим,
572
человек расходует в месяц в Петербурге или в Москве двадцать рублей; в Берлине, Париже или Лондоне он может жить не менее хорошо рублей на пятнадцать в месяц; а во всяком другом европейском городе (западном) жизнь обойдется ему еще дешевле. Это о людях, расходующих в Петербурге или Москве по двадцати рублей в месяц. Люди цивилизованных классов не могут расходовать так мало; их привычки лучше; издержек у них по необходимости больше. Для них разница еще значительнее. В Париже или Лондоне на пятьсот рублей в год можно жить так же хорошо, как в Петербурге на тысячу рублей. А жизнь в провинции для них — в русской провинции еще дороже, чем в Петербурге; в Западной Европе наоборот: в провинции какой-нибудь страны дешевле, чем в столице той же страны.
Это вообще о всей Западной Европе. А в частности, Италия — одна из самых дешевых стран ее; гораздо дешевле не только Франции или Англии, но и Германии.
А доехать до Южной Италии дорого ли? — Это лишь на двадцать или, много, на тридцать рублей дороже, чем съездить из Петербурга в Саратов, если сосчитать, кроме платы собственно за место в вагоне, все путевые издержки; поедешь, сосчитаешь и увидишь, что так.
Я выражаюсь: «поедешь», потому что хочу не сомневаться в этом: ты порадуешь меня, моя милая голубочка, отправишься в эту поездку, необходимую для прочного восстановления твоего здоровья. Умоляю тебя об этом.
Радуюсь, что наши с тобой дети такие хорошие, как ты пишешь о них и как я сам вижу из того, что пишут они. Лицом некрасивы, жалеешь ты; это сходство с отцом; я относительно себя принял с молодости прекрасное средство: не смотреть никогда в зеркало. Помнишь, когда я брился, то брился даже без зеркала. Посоветуй и детям делать так: не водить знакомства с зеркалом.
Писать им отлагаю до другого раза. Целую их.
Да, само собой разумеется: я здоров, как нельзя лучше и желать.
Крепко обнимаю тебя, моя милая радость, и целую и целую твои руки. Будь здоровенькая и отправляйся в Италию, и все будет прекрасно.
Твой Н. Ч.
540
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 21 января 1875.
Милый мой дружочек Оленька,
Несколько дней тому назад отправилась отсюда почта, и я послал тебе письмо. А вот опять отправляется почтовая корреспонденция; и я пользуюсь этим случаем близкого расстояния вре-
573
мени между прошлым и нынешним моим письмом, чтоб отвечать Саше на те письма, в которых он сообщает мне о своих занятиях математикою. — Отдай ему прилагаемые листки.
Я живу попрежнему очень хорошо. Подробности об этом отлагаю до другого раза, чтобы письмо не было слишком изобильно количеством листов. Но когда напишу о моей здешней обстановке, ты увидишь, что я не напрасно называю ее очень хорошею.
Денег у меня много; ни в этом, ни в следующем году не буду иметь надобности в них; и прошу тебя, моя радость: не присылай мне их нисколько. У меня их больше, чем требуется моими расходами, хоть и довольно расточительными, по моему неуменью и нежеланию экономничать.
Тоже и о белье, и обо всяких вещах, нужных для жизни: всего у меня много.
Я совершенно здоров. Погода стоит хорошая; потому я довольно много гуляю.
Заботься о своем здоровье, моя голубочка, и все будет прекрасно.
Целую Мишу и Сашу.
Крепко обнимаю тебя, моя радость, и тысячи раз целую твои ручки.
Твой Н. Ч.
541
А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
Вилюйск. 21 января 1875.
Милый мой Сашенька,
Попробую исполнить свое намерение отвечать тебе на те письма, в которых ты говоришь о своих попытках работать для развития науки.
Мои знания в математике скудны до смешного и жалкого. Я с трудом разбираю и самые простейшие формулы; не умею разобрать даже и уравнения первой степени, если оно многосложно. А когда хочу разрешить какой-нибудь вопрос, превышающий первую степень уравнений, я должен прибегать к приемам, какими руководились люди, жившие до времен Пифагора.
Кстати, о Пифагоре. Недавно я вздумал припомнить, как доказывается, что сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы. Часа два или три чертил фигуру неудачно; как? — вот как:
 разумеется, не выходило никакого
толку. Таков-то я геометр и алгебрист. Но ты излагаешь свои мысли так ясно, что
я понял их; понял, разумеется, при помощи соображений и приемов, свойственных
египетским и вавилонским временам математических знаний.
разумеется, не выходило никакого
толку. Таков-то я геометр и алгебрист. Но ты излагаешь свои мысли так ясно, что
я понял их; понял, разумеется, при помощи соображений и приемов, свойственных
египетским и вавилонским временам математических знаний.
Чтобы ты мог посмеяться вместе со мной надо мною, изложу эти мои соображения.
574
В первом письме ты говоришь: «сумма арифметической прогрессии всегда число сложное» и доказываешь это формулами; я рассматриваю эту теорему таким способом:
Берем какую-нибудь арифмет. прогрессию; например: 1; 5; 9; 13; 17.
Слагаем попарно с обоих краев, будет: 1 + 17 = 18; 5 + 13 = 18 — пары эти равны; в средине остается член 9, которому нет пары; я вижу: он равен половине каждой из тех пар. А сумма ясно = 9 × 5 = 45.
Что это? Случайность? Беру другую прогрессию, для пробы; при этом пишу столько членов, чтобы опять в средине оставался одинокий член, потому что в этом-то и сущность вопроса, который хочу я разъяснить себе; итак, другая прогрессия с нечетным числом членов; но число членов беру не 5, как прежде, чтобы видеть, не от этой ли случайности зависел тот вывод, или число членов индиферентно, лишь было бы попрежнему нечетным — 7; 16; 25; 34; 43; 52; 61; 70; 79;
слагаю: 7 + 79 = 86; 16 + 70 = 86 и т. д.; все пары равны, как прежде; и опять средний одинокий член равен половине каждой пары: 43 × 2 = 86, а сумма = 43 × 9.
Ого! — начинаю я думать: должно быть, это не случайность; однако, сделаю еще несколько проб. Делаю. Выходит все то же: лишь бы число членов было нечетное, сумма прогрессии равна среднему одинокому члену, помноженному на число членов прогрессии.
Когда сделано много таких проб, я вижу: вывод — результат какого-то общего закона; но этот какой-то еще неизвестный мне закон, простой ли какой-нибудь, или запутанный, являющийся простым лишь потому, что случаи, в которых я наблюдал его проявление, были очень просты?
Для разрешения этого пробую перейти от арифметических задач к алгебраическому пониманию их общего смысла; это при моем алгебраическом невежестве трудное для меня дело. Соображаю, как бы это мне найти общую формулу арифметич. прогрессии; держусь среднего члена; формула выходит:
a
a — q; a; a + q
a — 2q; a — q; a; a + q; а +2q.
Вижу, сколько ни удлинять в обе стороны, будет все то же: приставочные количества к среднему члену «а» на равном расстоянии от него будут иметь одинаковую форму, на одной стороне с знаком плюса, на другой — знаком минуса: итак, слагая попрежнему, всегда буду иметь
(a — nq) + (a + nq) = 2а
в каждой паре членов;
575
итак, имею:
число пар = числу членов минус единица, разделенному на два;
каждая пара равна всякой другой паре;
каждая равна среднему члену, умноженному на два;
итак:
Сумма прогрессии равна числу членов, помноженному на средний член.
Как написать это алгебраически? — Вспоминаю, что знак «а» принято употреблять для выражения количества, которым начинается ряд; а мне нужен знак среднего члена; «средний» по-латыне mеdius; хороша бы мне буква m; но вспоминаю, что она уж захвачена для употребления в показателях степеней; поэтому беру две первые буквы (как делают химики, когда недостает им букв, взимаемых по одиночке); пишу:
положим, средний член = me,, — пишу две запятых или что другое, еще не взятое для других надобностей; а особый знак нужен, чтобы было видно, что это те не обыкновенное алгебраическое те = mхе, что оно специальный знак в роде sin., cos., или вроде Ʃ и т. д.
Итак, имею формулу:
S = me,, n
обозначая через п членов.
Это о прогрессии с нечетным числом членов. У прогрессии с четным числом членов среднего одинокого члена нет; все члены слагаются в пары; например:
1; 5; 9; 13; 17; 21;
1 + 21 = 22; 17 + 5 = 22; 9 + 13 = 22; остатка нет, все сложилось в эти пары.
Назовем число пар т или, чтобы был особый знак для этого am (ambo, латинское), первый член а, последний l, будем иметь для арифм. прогрессии с четным числом членов
S = m(a + l)
или S = m(b + k) или S = (c + l)
или, чтобы употребить особый знак:
S = am,, (с + l)
Я умел суммировать арифмет. прогрессию обыкновенным способом; но из него не видно, что сумма ее всегда число сложное; это я узнал лишь от тебя. Теперь вижу: да, так; это всегда число сложное.
Это понадобилось тебе для разрешения другой теоремы, которую ты излагаешь так:
«Если равные шары уложены на плоскости так, что соприкасаются, и если касательные к наружным краям этих шаров образуют какую-нибудь прямолинейную фигуру, то,
576
«если площадь этой фигуры может быть разделена на треугольники, состоящие по всем направлениям более чем из двух рядов шаров,
«сумма всех шаров, составляющих фигуру, необходимо будет число сложное».
Само собою, эта теорема была неизвестна мне.
Ты пишешь, что профессор Чебышев, читающий в Петерб. унив. математику, говорил: «кроме того способа, каким я (Чебышев) доказываю эту теорему, никаким другим способом доказать ее нельзя».
Чебышев — хороший математик; это я знаю. В чем состоят его математ. открытия, я не знаю; но кажется, он сделал довольно много довольно важных открытий. Не принадлежит ли эта теорема к числу открытий, сделанных лично им самим? — Если да, то естественно и очень извинительно, что он выразился о ней таким образом. Своими личными открытиями каждый ученый справедливо дорожит так, что нельзя ему, по общей человеческой слабости, говорить о них без ошибок против правил строгого, холодного, чисто научного языка.
Итак, я не могу осудить Чебышева за то, что он выразился так. Но он выразился в этом случае несообразно с правилами науки.
Правила эти таковы:
Каждая истина связана с бесчисленным множеством других истин бесчисленными тесными соотношениями; доказывать какую-нибудь истину значит разъяснять какие-нибудь из ее соотношений с какими-нибудь другими истинами, уж ясными для нас.
Итак, наш путь доказывания этой истины всегда бывает лишь один из бесчисленных путей, способных довести до нее.
По субъективным случайностям наших знаний и наших мыслительных привычек путь, найденный нами, быть может субъективно удобнейшим для нас; быть может и для всех, подобных нам; а быть может, все люди подобны нам в этом случае; и быть может, найденный путь наилучший для всех людей. — В математических делах это последнее бывает даже и не очень редко. По всей вероятности, некоторые из разъяснений (доказательств) найденных такими людьми, как Лаплас, Лагранж или Эйлер так хороши, что никому из людей нельзя найти ничего лучшего для доказательства той же данной истины. Но не только эти люди, но и сам Ньютон все-таки никогда не мог иметь уверенности в том, что не найдется для какой-нибудь открытой им истины доказательства еще более хорошего, чем (прекрасное; у Ньютона, и даже у Лапласа, оно прекрасное) найденное им.
Итак, всегда остается неизвестным, не существует ли пути к истине, более хорошего нежели самый лучший (прекрасный) из путей, известных нам. Мы можем знать только «то, чем мы уж обладаем, очень хорошо», — и любить это прекрасное.
37 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
577
А если оно открыто лично нами, то и иметь личную радость о нашей заслуге перед истиной; и все люди с хорошим сердцем будут сочувствовать нашей этой радости.
Но наш путь к истине, — наилучший ли, или нет, — всегда лишь один из бесчисленных путей, могущих вести к этой истине.
Возвращаюсь к теореме о фигуре из шаров.
Если она делится на треугольники, имеющие по воем направлениям более двух шаров в крайнем ряду, сумма шаров число сложное, говорит теорема.
Ты говоришь: число шаров в каждом треугольнике, на которые делится она, число сложное; потому что шары этих треугольников — арифметич. прогрессии. Это так, я понимаю.
Но каковы законы отношений между этими прогрессиями, разобрать этого сам я не могу; мои знания в математике слишком скудны. Беру такую, например, фигуру, отмечая точками места центров кругов:
Фигура из двух теугольников .
А и В; треугольник А — 10 шаров . .
В — 9 шаров; 10 — число сложное; . . .
. . . .
9 — тоже.Сумма 19; число простое . . . . .
. . .
.
Из этого следует — дело в теореме идет о том, чего я не понимаю. Вероятно, фигура, которую я составил, неправильна; но почему она неправильна, я не понимаю: она, по-моему, состоит из двух треугольников.
Полагаю, надобно мне изменить ее так:
![]() А = 15 шаров
А = 15 шаров
сумма 24 шара .
В = 9 шаров . .
. . . А
. . . .
. . . . .
. . . . .
. . . В
.
Но почему дело идет лишь о таких фигурах, как вторая, а о таких, как первая, теорема не говорит — я не умею различить.
Перехожу к твоему второму письму. В нем ты предлагаешь мне задачу: почему 2n + (— 1)n 17 делится на 3. Формула очень милая; сам я не сумел бы написать такой задачи. Но разобрать ее достало у меня смысла.
Теорема, к которой ведет эта формула, была совершенно незнакома мне, разумеется само собой.
Я стал разбирать твою формулу таким способом:
578
Цифра 17 поставлена лишь потому, что она на 2 единицы больше или на одну единицу меньше числа, делящегося на 3.
17 = 5 × 3 + 2 или
= 6 × 3 — 1.
Итак, чтобы 2n делилось на три, надобно во всех степенях делать то же, что происходит в первых двух:
21 + 1 = 3; или 2 — (+ 5) = — 3;
22 — (+1) = 3. 22 + ( + 5) = 9.
Пробую до десятой или двенадцатой степени; так; все нечетные степени с прибавкой единицы делятся на три: все четные с вычетом единицы — тоже.
4 — 1 = 3 Вот любопытная штука! — думаю: да этак, может быть, будет и с
8 + 1 = 9 возведением числа 3 во всяческие степени, относительно
16 — 1 = 15 делимости на число 3 + 1 = 4 и т. п.
32 + 1 = 33
Пробую:
3 + 1 = 4
9 — 1 = 8
27 + 1 = 28 и т. д. все выходит так.
Пробую другие числа в том же порядке относительно числа, принимаемого за делитель, например:
10 + 1 = 11
100 — 1 = 99, делится на 11
1000 + 1 = 1001; = 990 + 11; делится на 11,
и все числа во всяческих степенях удаются.
Думаю: а попробую наоборот, взять делителем число на одну единицу меньше возводимого в степени.
3 — 1 = 2
9 — 1 = 8
27 — 1 = 26
И все так; но этого не стоило и пробовать, думаю: нечетное число во всех степенях дает нечетное число; стало быть 3n + 1 всегда будет делиться на 2.
Беру 4. Имею 4 — 1 = 3
16 — 1 = 15 = 5 ×3
64 — 1 = 63 = 21 × 3
256 — 1 = 255 = 85 × 3
Вижу: по числу 3 нельзя было разгадать, в чем дело: там я менял поочередно + на — и — на +. А здесь видно, что дело идет еще проще: без перемены знака.
Пробую другие числа:
5 — 1 = 4
25 — 1 = 24 = 6 × 4
125 — 1 = 124 = 31 × 4 и т. д.
37*
579
Сделавши достаточное
число таких проб, прибегаю к алгебраической проверке найденного:
![]()
![]() и т. д. остаток всегда будет с знаком +
и т. д. остаток всегда будет с знаком +
Попробую тоже с делением:
![]()
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
— an—3 знак остатка будет поочередно + или —
Думаю: а что, если делить
аn|a 2 или an |a — 3 и т. д. и т. д.
Выходит: если мы возьмем какое-нибудь число и будем возвышать его в степени, то все нечетные степени будут иметь надобность в одинаковой прибавке, все четные в вычитании того же количества, какое пибавлялось к нечетным, — для того, чтобы делиться на какое-нибудь число, которое больше возводимого в степень; этот поочередный плюс или минус = числу единиц, которым делитель превышает первую степень возводимого в степени.
Например: 10 + 7 = 17
100 — 72 = 51 = 3 × 17
1000 + 343 = 1343 = 79 × 17
Да, забыл: прибавочное число тоже возвышается по степеням, как это видно из твоей формулы.
А если делитель меньше числа, возводимого в степени, знак остается без перемены во всех степенях; например:
20 — 3 = 17
400 — 9 = 391 = 340 + 51 = 23 × 17
8000 — 27 = 7973 = 469 × 17
Вот до каких правил я достиг.
Итак, правила для разрешения задачи, которую предложил ты мне, я нашел; но выразить их алгебраическою формулою я едва ли сумел бы; так скудны мои знания и так мало у меня привычки к употреблению алгебраических знаков.
Посмеявшись вместе со мною над моими допотопными приемами разрешения математи[ческих] задач, ты, в качестве любящего сына, подумаешь: «Однако ж, у этого человека, моего почтен-
580
ного родителя, была от природы порядочная доза математич. способностей»; да, мой милый, была. Но дело не обо мне, а о тебе.
Обе теоремы, излагаемые в твоих письмах, относятся, сколько я могу судить, к той части математики, которая называется теорией чисел. Я знаю, что теориею чисел очень усердно занимался Фермат; это был человек гениальный. После него математика вообще ушла далеко вперед. Если кто из людей, подобных ему по силе ума, занимался усердно теориею чисел в прошлом или нынешнем столетиях, то труды Фермата по этой теории, конечно, далеко превзойдены. Но занимался ли этим, например, Лаплас, или Лагранж, или Эйлер? — Я не знаю. О Ньютоне и Лейбнице мне воображается, будто бы я знаю, что они не работали над этою отраслью математики. Если так и если тоже Лаплас, Лагранж, Эйлер и немногие люди подобного им размера умственных сил, жившие после этих или живущие теперь, не работали специально для теории чисел, то, быть может, ты нашел бы у Фермата пособия для своих соображений более хорошие, нежели какие представляются трудами второстепенных ученых. Само собой, Фермат не знал и десятой части того, что знает всякий современный порядочный математик. Но гениальный ученый хорош тем, что итти вперед вместе с ним — дело более легкое и успешное, чем сопутствовать другим руководителям, хоть и более знающим, но не одаренным той силой мысли, как он.
О Фермате я говорю лишь потому, что мне вздумалось, будто бы ты особенно заинтересовался теориею чисел. Но вообще, если ты не обращал внимания на старые математические книги, то я советовал бы тебе изучать Лапласа; Ньютон жил давно, и сделанное им переработано в достойном науки виде Лапласом. Но после Лапласа еще не было человека такой силы ума. Об этом могу судить даже и я, хоть невежда в математике. Поэтому изучение трудов Лапласа до сих пор первая необходимость для человека, желающего работать для развития математики; так мне кажется.
Если ошибаюсь, посмейся. Жму твою руку, милый друг.
Когда будет опять такой случай написать письмо лишь через немного дней после отправленного, — как это теперь, — напишу тебе опять такое же длинное и ученое рассуждение. Жму твою руку.
Н. Ч.
542
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
25 января 1875. Вилюйск.
Милый мой друг Оленька,
Я получил твое письмо от 24 ноября. Целую тебя за него.
Как наступил холод, подверглась ты опять болезни. Которая уж это зима, что каждую зиму все так?
581
Ясно: тебе необходимо жить по зимам в Италии; на юге Италии, где и декабрь и январь теплы.
В Италии. Даже и Греция не годится. Зимой там холодно. (Хоть летом жарче, нежели в Италии.) Чем восточнее местность, тем холоднее она зимой (и жарче летом). Это доказывается в каждой порядочной книге о физической географии. Потому Крым или Кавказ еще менее удобны для тебя, чем Греция. Необходим юг Италии.
Что могу я сделать для доставления тебе возможности жить по зимам в Италии? — Вот уж не один год я все думаю об этом.
Дело имеет две стороны. Об одной ли только из них будет на этот раз моя беседа с тобой, или об обеих, пусть будет, как случится тому быть.
Год назад я имел хороший случай отправить к тебе письмо, которое могло, как мне казалось, быть полезным для тебя в этом отношении. Через несколько недель я имел другой такой же хороший случай и воспользовался им, чтобы послать письмо такого же рода к одному из очень дальних моих родственников.
Теперь снова представляется такой же прекрасный случай. Пользуюсь им, чтобы объяснить тебе мое прошлогоднее письмо к тебе.
Содержание того письма было таково.
Есть в каждой стране, есть и в России, глупцы, делающие разного рода нелепости. Мне кажется, что некоторые из нелепостей, делаемых некоторыми из русских ли, или не-русских глупцов, порождают слухи, которые могут тревожить тебя за мою жизнь или по крайней мере за мою безопасность. Потому (говорил я тогда) я даю тебе честное слово, что не поеду отсюда иначе, как таким же спокойным и удобным способом, каким я приехал сюда.
Получив это письмо, ты отвечала: напрасно я успокаивал тебя этим обещанием, и безо всякого уверения от меня ты не сомневалась в моей рассудительности.
Конечно, ты не сомневалась. И не только ты, но и никто из людей, близко знающих меня, не мог и не может сомневаться. Я знал это.
Но чтобы написать уверение, излишнее лично для тебя, я выбрал форму письма к тебе, потому что нашел эту форму наиболее достоверной в глазах всякого постороннего нам с тобой рассудительного человека.
Кому бы ни было дано слово, оно должно быть соблюдаемо. Обманывать не следует никому никого. Так по-моему. Так и по-твоему. Мы с тобой знаем друг о друге, что по-нашему с тобой это так. Но никто из людей, посторонних мне, не обязан знать, что мое правило таково.
Но о слове, которое даю я тебе, всякий умный человек, по какому-нибудь обстоятельству имевший обязанность прочесть то
582
письмо, мог рассудить, что это обещание очень серьезно и совершенно достоверно.
Поэтому, я полагаю, что и теперь делаю наилучшим образом, излагая в форме письма к тебе то, что нахожу нужным написать.
Пользуюсь случаем повторить и повторяю:
Даю тебе честное слово, что не поеду отсюда иначе, как обыкновенным, ни от кого никак нескрываемым, спокойным способом, с соблюдением всех форм и правил.
Нужно ли что-нибудь еще от меня для того, чтоб официальная сторона твоей поездки в Италию не представляла никаких затруднений? — Я не знаю. — Но само собой разумеется, что некому не нужно от меня ничего, противного совести. Об этом не может быть и речи ни с чьей стороны. А из того, что может казаться нужным от меня кому-нибудь, нет ничего такого, на что я не согласился бы с удовольствием.
Потому, чтобы не было лишней проволочки времени, даю вперед честное слово тебе, что буду строго соблюдать какие бы то ни было правила или условия, могущие казаться нужными от меня для устранения всякого официального неудобства тебе жить по зимам в Италии.
Твой Н. Чернышевский.
Целую тебя, моя милая.
P. S. Я совершенно здоров.
————————
Пишу вторую половину письма на другом листе. Быть может, покажется, что для твоей же пользы надобно оставить эту вторую половину не отданной тебе. Я не мог бы никого осудить за такую мысль. Я имею полное доверие к твоей скромности. Люди посторонние не обязаны иметь его.
На первом листе я писал об официальной стороне твоей поездки. Дело имеет и другую сторону, денежную.
У тебя мало денег для такой поездки, говоришь ты. Сама по себе она — расход незначительный. О нем не стоило б и рассуждать, если бы вообще было у тебя столько денег, сколько нужно для безбедного образа жизни.
Много виноват я перед тобой и нашими детьми, что был в прежние годы слишком беззаботен о приобретении денег. В годы, когда был жителем Петербурга, я успел бы приобрести обеспеченное состояние тебе. Не позаботился.
Могу ли сделать что-нибудь для исправления этой моей вины перед тобой и нашими детьми?
Попробую.
С официальной точки зрения может казаться соединенным с некоторыми неудобствами единственный способ, каким я способен зарабатывать деньги, литературный труд.
583
Это потому, что и официальный мир и публика знают меня лишь как публициста. Я был публицистом. Так. И не имел досуга писать как ученый. Но, более чем публицист, я ученый. И кроме того, что ученый, я умею быть недурным рассказчиком; от нечего делать я сложил в своих мыслях едва ли меньшее число сказок, чем сколько их в «Тысяче и одной ночи»; есть всяких времен и всяких народов; сказки — это нимало не похоже на публицистику. А ученость давно признана и у нас в России делом не мешающим ровно ничему.
Попробую. И прошу, чтоб об этом было подумано так: «Посмотрим, что такое это будет». — А я уж и знаю, разумеется, что такое это будет: будет все только такое, что нисколько не может относиться ни до каких-нибудь русских дел, ни до каких-нибудь не-русских кому-нибудь неудобных.
Мне понятно, разумеется, что надобно мне будет соблюдать некоторые формальности, касающиеся моей фамилии. Я вижу, что мое имя не упоминается в русской печати. Мне ясно, что это значит. — Но не из авторского же самолюбия стану я писать. Конечно, лишь для того, чтобы получались за это деньги и передавались тебе. А когда так, то разумеется, что все нужные формальности будут соблюдаемы мною с безусловною строгостью.
Целую тебя, моя милая Оленька
Твой Н. Чернышевский.
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
12 февраля 1875. Вилюйск.
Милый друг Оленька,
Пишу лишь несколько строк, чтобы повторить мои обыкновенные известия о себе: я совершенно здоров; живу хорошо; даже очень; в самых добрых отношениях ко всем.
Я собрался, наконец, подвести счет своим деньгам по фактурам (коммерческим запискам) о закупках, сделанных для меня.
У меня остается денег в запасе больше, чем на два года вперед.
А живу я не без расточительности даже. Впрочем, не по влечению роскошничать, а просто по небрежности к расходам. Но от этой невнимательности есть в моей жизни довольно многое похожее на роскошь. Попался сорт товара лучше, нежели мне нужно, я покупаю. И чуть не половина моих расходов такая. Словом, я живу в изобилии.
Будь здоровенькая, моя милая радость.
Целую Сашу и Мишу.
Крепко обнимаю тебя, моя милая; целую твои руки без счета.
Будь здоровенькая, моя радость, и все будет прекрасно.
Твой Н. Ч.
584
544
М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ
[Середина февраля 1875 г.]
NB Само собою разумеется, что это письмо о приложенными к нему тремя листками (6 полулистов) пойдет к Вам официальною дорогою. Тоже и о следующих письмах.
Милостивый Государь
Михаил Семенович,
Прежде всего прошу извинить, если пишу Ваше отчество неправильно. В нашу жизнь мы с Вами видывали иногда друг друга в обществе; но, кажется мне, никогда не случалось нам обменяться ни одним словом. Поэтому очень простительно, если Ваше отчество нетвердо в моей памяти. А в объявлениях на обертке «Русского вестника» я не нашел этого второго состава наших разговорных русских имен.
Иметь дело с Чернышевским не может быть приятностью ни для кого на свете. Но Вы и не будете иметь ровно никакого дела с Чернышевским или до Чернышевского. Вы имеете дело с мистером Дензилем Эллиотом, автором «Гимна Деве Неба».
Это маленькая поэма. Русской публике известно, что Чернышевский никогда не напечатал ни одного стиха.
Потому Дензиль Эллиот и дебютирует поэмой. — Кто он, Дензиль Эллиот? — Поэт.
И догадки по необходимости идут в направлении, по которому не может встретиться фамилия Чернышевского.
Кто ж, однако, этот Дензиль Эллиот?
Из английских, еще здравствующих писателей, самое популярное у русской публики имя Эллиот; Джордж? Чарльз? Джон? — в таких именах сбивается память: они чрезмерно привычны и потому слабо врезываются в память.
Но Дензиль, — нет, тот Эллиот, Джордж ли он, или Чарльз, ни в каком случае не Дензиль
Итак:
не тот, а другой Эллиот; очевидно, тоже англичанин.
Кстати: Дензиль — старая, в среднем классе англичан еще не совсем неупотребительная английская форма имени Денис, Дионисий. Пишется по-английски это Denzil; так ли? — Вы, слыхивал я, хорошо знаете английский язык; я полагаю, лучше, нежели я.
Итак, вот кто Дензиль Эллиот. Англичанин; однофамилец (уж и не родственник ли?) известного, милого, чуждого всяким мудреным мыслям, но милого английского романиста.
Можно ожидать, судя по фамилии, и этот стоит того, чтобы читать его. Попробуем.
Читают. «Гимн Деве Неба». — Что такое? Удивительно, что такое. Хорошее; правда; но что-то небывалое на нашей памяти.
585
Серьезная оратория в славу Артемиды! Не в шутку, а на самом деле апотеоза Артемиды!
Ясно: Дензиль Эллиот до того сжился с миром понятий древней Греции, что, вероятно, мелки и скучны ему мысли даже и английской обыденной газетной жизни.
Да. Это так.
Не то, что о России или Германии, странах чужих ему, даже об Англии он забывает для преданий старины; для дивной природы юга; для вечных интересов мысли.
Таков он. И, как человек неглупый, выбрав для дебюта «Гимн Деве Неба», он будет продолжать свою деятельность в прозе. Он пишет для денег. Только проза дает серьезные суммы денег.
Что такое «Гимн Деве Неба»? — Эпизод из прозаического рассказа «Внука Эмпедокла».
Это гимн процессии, идущей по улицам Акраганта из храма Артемиды и обратно в храм ее.
Мелкие заметки о гимне написаны на полях самой поэмы.
А что такое рассказ «Внука Эмпедокла»? — один из бесчисленных рассказов в: «Академии Лазурных Гор». — А что это, Лазурные горы? Справьтесь на карте Ост-Индии.
Neil-Giri, Blue Mountains, Голубые Горы. Хребет, соединяющий близ южного конца полуострова Восточные Гаты с Западными Гатами.
Для поэзии нужно же маленькое преувеличение красоты. Потому, из Голубых Гор один кусочек возведен «Академией» в «Лазурные Горы».
А что эта Академия?
Герцогиня Кентершир отправляется с компанией светских своих друзей на яхте «Геллада» из Англии через Суэзский канал в Ост-Индию, посетить свое маленькое царство там, у Лазурных Гор, близ Гольконды; она наследница мага-раджи Фирдавс-Абадского (Фирдавс, знаете? — по-персидски: сад); фирдавс-абат:
город (вернее: обиталище; на деле оказывается: дворец) в саду.
Плывя к Суэзскому каналу, яхта герцогини спасает другую яхту другой компании английских великосветских людей; были знакомы и прежде; дружатся; и — кому есть охота, остаются на яхте герцогини и плывут в ее голькондское владение, и —
там занимаются тем, чем занимаются умные и добрые светские люди; между прочим, литературой, — то есть,
тем, что будет в следующих пакетах от Дензиля Эллиота редактору «Вестника Европы».
Ваш Н. Чернышевский, до которого нет Вам никакого дела; и который просит Вас не отвечать ему.
P. S. Выбираю именно Ваш журнал потому, что полагаю: его
586
денежные дела лучше, нежели других журналов. Передайте все деньги моей жене. Адрес ее узнайте от Терсинского в Синоде.
P. P. S. Прошу дать моей жене вперед несколько денег. Со мною не бывает неприятных расчетов. Я в денежных делах человек хороший.
545
О. С. и А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
8 марта 1875. Вилюйск.
Милый мой дружок Оленька,
Я получил твои письма от 6 декабря и от 1 января; благодарю тебя за них, моя голубочка. Особенно утешила ты меня тем, что решилась, наконец, пожить в климате, более теплом.
Лучше всего для тебя было бы, кажется мне, остаться в Крыму до осени; а в конце сентября или — это крайний поздний срок, — в половине октября сесть на пароход и отправиться на зиму в Италию. В Крыму зима недостаточно мягка и ровна для тебя. В октябре там уж начинаются сильные бури с холодом. Собственно говоря, дольше первых чисел сентября не следует оставаться в Крыму, если ехать морем. С 5 или с 10 сентября погода уж ненадежна; за эти месяцы Черное море у греков называлось в их старину «негостеприимным»; а когда они рассмотрели периодичность бурь, имя переменилось в «гостеприимное» (то есть море). Тише, чем летом Черное море, нет ни одного маленького озера.
Весна и лето хороши в Крыму. Но с осенью отправляйся в Италию. Иначе я не буду спокоен.
Итальянский язык ничего не значит: в две недели будешь говорить порядочно; по крайней мере, достаточно, чтобы весело было болтать с тем народишком, самым пустейшим и самым милейшим в целой Европе; особенно в Южной Италии и Сицилии, они отличаются от сорок, воробьев и т. д. только тем, что ростом побольше. Сходство и относительно туалета: как родились, так остаются одеты на всю жизнь; и точно: экономнее; одежда — это глупость.
Любопытно бы смотреть ценителям красоты, если б эти милые и скромные девицы мылись; а то, хоть и без одежды, не разглядишь: вроде того, как будто обросли лубком подобно липе.
Но, кроме смеха над ними, это очень добрый народ, южные итальянцы; их считают разбойниками; бывает; но не по злому умыслу, а по младенчеству; как ласточки, заклевывают друг друга, — и греха им нет.
Удивительный народец; весело посмотреть на их беззаботность. Слухам о разбоях не верь; это или сказки, или раздуванье мухи в слона, по расчетам разных интриг; на самом деле, даже и в Сицилии очень смирно и тихо.
587
Я совершенно здоров. Живу хорошо. — Саша прислал мне 100 рублей. Это лишнее. У меня много денег. Целую его и Мишу. Ему пишу на оборотном полу листке.
Будь здоровенькая и веселенькая, моя милая радость. Крепко обнимаю и тысячи раз целую тебя.
Твой Н. Ч.
Милый мой Саша,
Благодарю тебя за деньги (100 рублей), которые ты прислал мне. Лишние они для меня, мой друг: у меня много денег; больше, нежели вы воображаете; серьезно, очень много. Но тем больше благодарю тебя. Жму твою руку, мой друг.
Будь здоров. Целую тебя. Твой Н. Ч.
P. S. Если вздумаешь отложить на год университетский экзамен, не смущайся этим: экзамены — формальности, важные для формы, но и только. Знаешь ты, Гегель — он ныне вышел из моды и, точно, устарел; но по силе ума и громадности знаний, никто из нынешних ученых в подметки не годится ему — знаешь ли, что ему написали в аттестате? — «Посредственных способностей человек». И добро бы он был небрежен в школьных предметах; ошибка была бы не так смешна; но он был аккуратен и прилежен, как бык. Наверное, когда его так аттестовали, в целой Германии было мало стариков, таких ученых, как этот юноша; — эти формальности тоже, что сапоги: для удобства жизни полезны; от ума и знаний так же далеки: в самом низу, как нельзя дальше.
Целую тебя. Целую Мишу. Будь здоров.
Жму твою руку.
546
А. Н. ПЫПИНУ
8 марта 1875. Вилюйск.
Милый Сашенька,
Прошу прощенья у тебя, у сестер и у Сережи за то, что напрасно огорчил вас. У сестер, то есть и у Юленьки, целую руки с просьбою о прощеньи. Виктория моложе, то может и подождать такой чести.
С каждым словом твоего письма я совершенно согласен. Все твои суждения чистая правда. Но я знал, что все это так, когда писал те грубые обиды вам. Я знал, что такое пишу. — Теперь ясно тебе? — У меня просто-напросто было намерение искоренить из ваших чувств всякое расположение ко мне.
Жалею, что не удалось. Начало было хорошо. Но оно было только начало. Продолжению следовало быть таким:
Когда по расчету времени стало бы резонным, то есть еще месяца через два после нынешнего, я обратился бы к сыну, Саше, в таком вкусе:
588
«Ты не разорвал сношений с ними?» — А я знаю, что это невозможно даже и материально, не только нравственно; что, не говоря о чувствах и рассудке самого Саши, не может быть это допущено и Ольгой Сократовной; она может «ссориться» с кем ей угодно каждую минуту и со мной, когда мы жили вместе, ссорилась беспрестанно; но я придаю этому еще несравненно меньше важности, чем ты; я даю этому ровно столько же важности, сколько дает она сама; но о ее серьезных чувствах к вам после; здесь пока довольно того: она не может ни сама серьезно разойтись с тобой, ни допустить сына до этого; я знаю это как нельзя лучше уж много лет: она и наши дети живут на твои деньги; без тебя они давным-давно умерли бы с голода. — Ты говоришь, что у нее есть и свои доходы; приятель, я посильное тебя в арифметике; не обсчитаешь: то копейки; того не достало бы на один ржаной хлеб для нее только; а их три человека.
Они живут лишь благодаря тебе. — И по одному этому ни Саша не мог бы, я знал, исполнить требование, с которым я обращался к нему, ни Ольга Сократовна допустить этого. — А в апреле, в мае я уже имел бы по расчету времени резон обратиться к Саше с такими словами:
«Ты не слушаешься? Ты, когда так, не сын мне» — и это, в выражениях еще более грубых, чем обращенные к вам.
Это была бы вторая часть. А третью и самую важную для меня написала бы для меня уж Ольга Сократовна:
«Когда ты стал таким скверным человеком, то ты перестал существовать для моих детей и для меня», — она написала бы так; это верно, как 2 × 2 = 4.
А в этом и было бы для меня самое важное облегчение моей совести. Совесть у меня есть. Хотелось бы перестать быть вредным для близких ко мне.
Несколько лет тому назад при свиданьи за Байкалом я упрашивал Ольгу Сократовну выйти за кого-нибудь из благородных людей, которых было много, не смевших, разумеется, и думать ни о чем подобном, но из которых каждый считал бы себя счастливейшим на свете человеком, если бы услышал от нее то, что я просил ее сказать кому-нибудь из них. Лично я не знал их.
Не мог я убедить ее. — Дал пройти нескольким месяцам и перестал писать ей. Не писал целый год. Она не могла выдержать этого. — Как быть? — Я нашел себя в необходимости опять начать переписку с нею.
Несколько лет я не решался возобновлять этой борьбы с нею. Не потому, разумеется, что мне это тяжело; для меня это обязанность совести, которую исполнять для меня очень легко и приятно. Но для нее вышло это тяжело. Я был очень надолго в боязни возобновить.
И вот собрался опять с силами. Теперь, я полагал, думать о втором ее замужестве поздно. Будь она совершенно здорова, было
589
бы не поздно. Справься, скольких лет была Нинона дель-Анкло, когда стрелялись и зарезывались и отравлялись ядом из-за нее. Лета, мой милый, не так рано проходят, как пишется в романах. — Но здоровье у Ольги Сократовны все остается хилым.
Да и что замужество? — Собственно, не в том важность, чтобы не носить мою фамилию. Однофамильцы у меня есть; я полагаю, никому из них не было никакого неудобства от пустых звуков фамилии. Дело лишь в том, чтобы не иметь расположения ко мне. Тогда можно жить хорошо, как требует здоровье.
Кстати. В ее письме, полученном одновременно с твоим, она пишет, что поедет в феврале в Крым.
В феврале, — как это в феврале? Февраль это начало зимы? — Я писал ей о начале каждой зимы. Я не медик; но это понятно и не медику: зима, зима тяжела ее здоровью.
В феврале; в Крым; — как это, Крым? Разве о Крыме я писал? Я не медик; но учение о климатах понятно всем. В Крыму зима еще не годится для здоровья. Даже в Греции мало годится. Ближе Италии нет теплой зимы.
Милый друг, она пишет, что это она сама так странно исполняет мои просьбы к ней. Я верю безусловно в ее слова; но не в такие. Они, может быть, и совершенно верны правде. Но есть отношения и положения, в которых человек не имеет права верить ничему, кроме факта.
Пусть письма от Ольги Сократовны будут из Неаполя, Салерно, Палермо, только почтовые марки имеют для меня убедительность в этом деле. Никакие ничьи уверения ровно ничего не значат для меня в этом деле; ни даже удостоверения Ольги Сократовны.
Вот тебе и мотив моих грубых обид вам: зима в Италии для Ольги Сократовны.
Милый мой, я очень больно огорчил вас. Но, конечно, вы простите меня.
Пересматриваю подробно все мысли твоего благородного, истинно благородного письма ко мне, чтобы ты видел положительно о каждой из них: я судил всегда о ваших отношениях так же, как вы сами понимаете их, или более выгодно для вас, чем судите о себе вы сами.
«Ольга Сократовна жаловалась тебе на нас», — пишешь ты. Конечно. Тот раз, к которому прицепился я, был пятьдесят первый или сто первый в ее письмах ко мне за эти три года, которые живу я здесь. И за предыдущие годы было такое же изобилие жалоб.
Мой милый, я безгранично люблю Ольгу Сократовну. Но что ж из того о ее «ссорах» с вами? — Не мешает же мне моя любовь к ней судить о вас, как судит она сама. — И о ее характере могу же я судить так, как судит она сама.
Одно письмо — она жалуется на кого-нибудь из вас; следую-
590
щее письмо: «Я писала то в минуту досады; ты знаешь мой вспыльчивый характер; это мне так показалось, а этого вовсе и не было».
Какое-то из «обвинений», которые ты опровергаешь, было в том ее письме, которое дало мне предлог начать то, что я начинал с вас; почему с вас? Я остаюсь боязливым за ее силы; надобно было подходить к ней постепенно, чтобы привыкала и ждала: «надобно будет разорвать все сношения с таким скверным человеком, каким стал он». — Итак, было какое-то из «обвинений», опровергаемых тобой; какое именно, я не помню хорошенько; но, кажется, то, что Виктория холодна к ней. Викторию я очень мало знаю лично. Но ты судишь о ней слишком плохо. Ты говоришь, она добрая и милая женщина. Нет. Она ангел. В этом она, Сережа и все вы остальные, не спорьте со мной: переспорю. Да не в шутку это; серьезно; насколько возможна серьезность в подобных спорах. Откуда у меня это мнение, — серьезно, более выгодное для Виктории, чем ее собственное, Сережино, твое?
Загадка; разрешайте: откуда?
Кстати, об ангеле. У меня был портрет Виктории большой и хороший. Все мои молодые сожители в Забайкалье были влюблены в этот портрет: «Выньте его, дайте на время»; и уносят в свои комнаты. Это не диво. Но один влюбился очень сильно; это была в самом деле страсть. Я подарил ему ее портрет. Это человек с благородными и чистыми чувствами по вопросам о любви. Женщине не стыдно, когда ее портрет в таких руках. Целую ее; она действительно, очень добрая женщина.
Остальных «обвиняемых» я и сам знаю. Но Ольга Сократовна постоянно наполняет свои письма такими же выражениями нежных чувств и к тебе, и к остальным сестрам, и к Сереже. Вспышки, сами по себе; а серьезные чувства совсем иное дело.
«Ссоры бывают всегда с ее стороны», — да с чьей же могли бы они быть, если не с ее стороны? — из нас никто не имеет воинственного духа. — Смешно, мой милый, смешно.
Когда мы жили вместе, я не вмешивался в ее ссоры с вами, пока она сама не начинала осуждать себя или смеяться, судя по характеру «ссоры». — Я не вмешивался в ссоры ее с вами, потому что не вмешивался и в ее ссоры со мною; «мы с тобой в ссоре», — говорила она; а то говорила даже: «Я с вами, Ник[олай] Гавр[илович] в ссоре»; — это по нескольку раз в неделю. Хорошо; в ссоре, то в ссоре; — и не вмешиваюсь; ссора со мною и идет, как может итти без моего пособия, идет превосходно. Ольге Сократовне не нужно ничье пособие.
После смеется, разумеется.
«Неужели ты простирал свою ожесточенность даже на стариков наших?» — спрашиваешь ты. — Старики — это то не «вы». То совсем иное. Старикам, я полагаю, я не вреден прямым образом. Да и как же можно было тебе распространять смысл моих грубо-
591
стей на моих дяденьку и тетеньку? — Они не отец и мать мне, это правда; но когда две сестры живут вместе и любят друг друга; и мужья их тоже; то дядя и тетка не очень много рознятся от отца и матери в чувствах, с которыми вырастает человек.
И притом даже и с формальной стороны смысл моих слов не мог быть распространяем на дяденьку и тетеньку; «ссор» с ними, «жалоб» на них не было никогда в письмах Ольги Сократовны; если когда она и досадовала на них, я этого не знаю, и полагаю, что этого не было. Думаю, что ее манера говорить с ними не совсем такая, как относительно вас и меня.
Кажется, все, что у тебя в письме, получило положительный ответ: «совершенно так, мой милый». — Да, еще: ты говоришь не следует сообщать о твоем письме Ольге С[ократов]не; не следует; и не буду упоминать ей о нем.
Надеюсь, вы простите меня; — и откровенно тебе скажу: быть может, не вас мне должно винить за то, что мое начало хорошего дела оказалось неудачным, и дело должно быть, к моему сожалению, брошено мной. Следовало писать обиды вам еще грубее и еще хуже по смыслу. Но я полагал, что и таких достаточно; в особенности, казалось мне хорошим то, что я прицепил к грубостям даже денежные вопросы. Я полагал, достаточно: даже в деньгах виноваты вы и особенно ты; «пользуются моими деньгами и досадуют на то, что эти деньги не так велики, как было бы приятнее пользоваться ими». — Согласись, можно было ожидать, что ты плюнешь и посоветуешь другим ограничить свое огорчение тем же: плюнуть.
Но что испорчено, то испорчено.
Если не сумел я сладить с вами, нечего и надеяться сладить с сыном; и тем еще менее с Ольгой Сократовной.
А ее здоровье и спокойствие ее жизни? — Не умею придумать ничего, кроме того, что начал делать для этого.
Одно — разорвать связи — оказалось невозможным. Другое, надеюсь, не встретит затруднений.
Попытку разорвать связи я начал летом; начать другое, на успех чего надеюсь, я отлагал с осторожностью, в которой немногие люди на свете равны мне; с осторожностью, которая в тысячи раз больше того, что было бы совершенно довольно для посторонних судей дела, — отлагал до такой поры, когда будет то, что нужно для осторожности, — нужно только по моему собственному мнению, которое превышает всякий возможный чей бы го ни было способ понимать, чего достаточно для совершенного удобства дела чисто денежного, дела, имеющего медицинскую цель.
Медицина — это нечто достойное внимания, я полагаю. О медицине очень много во всяких серьезных юридических книгах, от Юстинианова кодекса до русского Свода законов. — Впрочем, это лишь для полноты мысли; это лично мне вовсе не нужное дело, ссылаться на законы.
592
Я никогда ни с кем не входил ни в какие рассуждения о соблюдении законов по отношению к вопросам, которые принадлежат — не в одной России, везде; и в Англии и в Соединенных Штатах, и в Швейцарии, — не юридической области, а области надобностей правительственной жизни. Habeas corpus отменяется и в Англии, когда то считается нужным.
Лично я не имею ровно никаких причин чувствовать неудовольствие против кого бы то ни было. — И кроме того, я совершенно добровольно постоянно даю достаточные средства отвечать мне: «лжешь», если бы в моих словах было когда выражено то, чего я не намерен никогда выражать, — неудовольствие за себя, которого я вовсе и не имею. Я постоянно пишу Ольге Сократовне, что мои отношения превосходны, и употребляю всяческие допускаемые приличием выражения моей признательности к людям, от которых зависит это мое превосходное положение; кому я признателен? — Это для меня все равно; я не любопытен, но я полагаю, что это дело — не исправника, а кого-нибудь повыше.
Но те лица, образ жизни которых не имеет ровно никакого значения ни для чего и ни для кого за пределами маленькой группы их родных, могут, я думаю, пользоваться тем, что необходимо им для их здоровья.
И я надеюсь, что по отношению к Ольге Сократовне это не будет представлять затруднений.
Тут, между прочим, очень важен денежный вопрос. Ты, мой милый, не жалеешь своих денег для нее. Но сколько же людей сидит на твоих плечах? — Кстати, сколько у вас с Юленькой детей? — Воображаю. Эта коллекция мила, конечно. Но она имеет тоже свои надобности. Это наименее блистательная сторона юных херувимов.
И, кроме всех других, еще трое моих сидят у тебя на плечах.
А одна Ольга Сократовна, чтобы она не раздражалась, ей нужно много тысяч рублей в год. А раздражаться — вред здоровью.
Итак, давно мне следовало позаботиться о денежных ее делах.
Но по чрезмерной для суждений всякого постороннего человека осторожности я отлагал до начала нынешнего года, — приблизительно до половины февраля — занятия, против которых, — я вижу это все годы после моего отъезда из Петербурга, вижу по бесчисленным фактам, — никто ничего не имеет, потому что я достаточно прочно утвердил за собой справедливую репутацию в Петербурге, состоящую в том, что я не охотник допускать моему перу владеть моей рукой и руке владеть моей головой.
И с половины февраля (приблизительно; нельзя же помнить чисел) я начал вести корреспонденцию, имеющую денежный характер.
Тебе известно начало ее? — Надеюсь.
38 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
593
Но довольно. Довольно вот почему: я не считаю полезным, чтоб об этой корреспонденции знал кто-нибудь, кроме лиц, обязанных знать.
Здесь ни одного такого лица нет. Здешние люди не могут нести на себе ответственность за вещи, значение которых выше их привычек и обязанностей, приходящихся по их силам.
В Якутске есть одно лицо, на котором лежит ответственность за такие мои поступки, которые не относятся к формальностям моего образа жизни.
Я не считаю полезным для моего денежного дела, чтобы оно было знакомо кому-нибудь в Якутске, кроме этого одного лица.
Я не знаю, в Якутске ли оно теперь. И спрашивать о том не хочу. Я вообще никого ни о чем не спрашиваю.
Но когда я услышу — не услышать невозможно, — что это лицо в Якутске, тогда я адресую на твое имя, что адресовал прежде на имя одной очень почтенной фигуры, кот рая едва ли в состоянии обходиться в подобных вещах без тебя; — хоть бы для поправления ошибок в корректурных листах.
Это будет приблизительно через месяц после отправления нынешнего моего письма.
Прежде я не хотел писать тебе; по твое письмо дошло до меня со всей физически возможной скоростью; из того я вижу: мои отношения лично к тебе не кажутся никому затруднительными для предоставления им полного простора.
Кстати, о деньгах. Я постоянно прошу Ольгу Сократовну не присылать мне денег. Саша прислал-таки. Не получи я одновременно с тем твое письмо, я воспользовался бы этим обстоятельством, чтоб нанести моему сыну подготовительную к следующим тяжелым, маленькую обиду.
Но серьезно, присылка денег мне вредит мне. — Как это? — Например, хоть бы так:
Я вижу, что мне следовало бы попросить у кого-нибудь денег. Я и не стеснился бы. Но невозможно же, когда у меня и без того довольно много лишних денег.
Отношения мои несколько оригинальны, как видишь даже из этого. И по этой их оригинальности невозможно мне иметь какие-нибудь неприятные мысли относительно кого бы то ни было.
О многих, сравнительно неважных, вещах напишу, когда будет досуг. Теперь я занят с утра до ночи. Даже чай пью — помнишь, как ты делывал ребенком, спеша в гимназию? — холодный, для выигрыша времени.
Снова прошу прощенья у сестер и у Сережи и у тебя, мой милый. Целую руки сестер.
Письмо твое исполнено высокого благородства души. За него стоило бы поцеловать и твою руку; это неприлично, но я с некоторыми людьми не стеснялся в этом, когда был молод.
Будь здоров.
594
Без надобности не пиши мне; не по другому чему-нибудь, а просто потому, что у тебя и без [того] работы чрезмерно много.
А то, что я очень много лет не писал никому, кроме Ольги Сократовны, и просил ее, чтобы она посоветовала тебе не писать ко мне, — это моя собственная чрезмерная метода держать себя. Никому, кроме меня, не было это нужно, и, вероятно, никому не нравилось. Но мне так нравилось.
Целую тебя.
Твой Н. Чернышевский.
547
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
18 марта 1875. Вилюйск.
Милый мой друг Оленька,
С неделю или с полторы я отправил тебе письмо, а вот опять случай писать к тебе. Из этого ты можешь видеть, во-первых, что маленький городишка Вилюйск все-таки город, в котором существует возможность жить не как в пустыне какой-нибудь, а как в городе с удобствами обыкновенной цивилизованной жизни; во- вторых, что здешние люди очень любезны со мной и любезны на деле, а не на словах только; само собой разумеется, я при моей беззаботности обо всем не узнавал бы о каждом случае отправки почтовой корреспонденции отсюда; но никогда не забывают прийти сами или прислать слугу сказать мне; «отправляется почта». Согласись, моя милая: это в самом деле искреннее расположение ко мне; при отправке почты, натурально, эти люди (здешние чиновники) завалены своими делами и, однако же, никогда не забывают доставить мне удовольствие. Действительно добрые, честные, милые люди. Я бываю у них реже, нежели они у меня; не по чванству, разумеется; при всех моих недостатках и характера и привычек этой пошлости, по крайней мере, никогда не было во мне. Но я всегда был ленив одеваться; и теперь ленив. Итак, я бываю у них не очень часто; но с какой радостью, с каким искренним радушием встречают меня их семейства, это можно вообразить себе, только припоминая, что я при всей своей неловкости всегда держал себя с простыми людьми приятным для них образом: они видят, что «русский» или даже «российский» человек, — о, русский человек всегда образец утонченных привычек и великосветского тона! — не насмешник; за это нельзя им не любить меня. Я «русский» здесь для людей, которые не менее русские, чем я; но «русские» начинаются для них с Иркутска; в «России» — вообрази: дешевы огурцы! И картофель! И морковь! А здесь овощи недурны, правда; но чтобы выросли они, за ними ухаживают, как в Москве или Петербурге за ананасами. — Хлеб родится хорошо, даже пшеница. — Удобства жизни здесь заметно увеличиваются. Лет двадцать тому назад огородов вовсе не было. А теперь все русские овощи есть свои
38*
595
здесь. — И в нравах тоже много улучшений. Водка выходит из моды. Семейная жизнь довольно чиста от грубости и пороков. Это противоречит ходячим по России мнениям. Я и сам сначала не верил, что женщины не пьяницы, мужья их не буяны. Но увидел: напрасно обижал в своих мыслях русских Якутской области. Дурное, что думают о нравах этих небогатых, но радушных людей, могло быть более или менее справедливо лет пятьдесят тому назад. А теперь далеко недурные это люди. И не глупые.
Для меня, разумеется, они до крайности неинтересны с своими вечными рассуждениями о цене кирпичного чая, белки, «дабы» (плохой крашеный каленкор), о своих успехах или неудачах в грошовой игре в «стуколку»; — не мог я еще понять этой игры, хоть иногда сматривал на нее. Для нее они забыли и преферанс, и вист. — А я для них тоже скучный человек, разумеется; но говорить со мною приятно им, — скучно, очень, но приятно.
Так и проводим мы с ними время, когда видимся. Я от души благодарен им за их расположение ко мне.
Живу хорошо. Денег у меня много. Совершенно здоров, разумеется.
В день твоего рождения делал я себе праздник; себе одному, разумеется. В чем был праздник? — Писал поздравительные стихи тебе. Уверяю. Хочешь доказательств? — Изволь. — «Лейла» въезжает в столицу Персидского царства, Шираз. Ее встречает хор «девушек, служительниц в храме Солнца» и поет:
Волоса и глаза твои черны, как ночь;
И сияние солнца во взгляде твоем,
О, царица сердец и в царстве солнца святом,
В стране гор, стране роз, равнин полночи дочь
и так далее. А стихи в самом деле недурны. Пришлю тебе, когда написана будет вся поэма. Поэма будет такая, что от нее не отказались бы ни Лермонтов, ни Пушкин.
Целую тебя, моя милая радость. Будь здоровенькая, и все будет прекрасно. — Целую детей. — Крепко обнимаю и целую тебя тысячи раз.
Твой Н. Ч.
548
О. С. и А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
25 марта 1875. Вилюйск.
Милый мой друг Оленька,
Я получил твое письмо от 8 января. Благодарю тебя за него и детей за приписки к нему. — Я, по обыкновению, совершенно здоров и живу хорошо.
Благодарю Мишу за то, что он сообщает мне о ходе своих гимназических занятий. На другом полулисте пишу ему несколько строк — тоже и Саше.
596
Я надеюсь, мой милый друг, что теперь ты уж в Крыму; надеюсь, останешься там до сентября или, лучше, до второй половины августа, когда погода на Черном море начинает становиться ненадежна; и как только начнется ее непостоянство, отправишься в Южную Италию на осень и зиму. Пожалуйста, моя радость, исполни эту мою просьбу. Я только о том и тревожусь, что ты до сих пор не могла исполнить ее. Насколько это зависит от недостатка денег у тебя, я не могу, разумеется, судить с совершенною точностью в расчетах, — до рублей и до копеек. Но, моя милая радость, я знаю цены всему на свете настолько, чтобы понимать: каковы бы ни были твои доходы и расходы в Петербурге или в Саратове, переезд в Италию оказался бы и в денежном отношении не убытком, а выгодой. Там все дешевле, нежели в России.
Итак, денежных отговорок твоих я не могу принимать за важнейшие из причин, по которым ты не могла до сих пор исполнить мою просьбу. Я очень хорошо знаю, что денег у тебя не чрезвычайно много; и это одно из моих неудовольствий на меня же самого, не озаботившегося приобрести для тебя и детей изобильные средства к жизни. Но мое неудовольствие на самого себя — одна вещь, а расчеты расходов на переезд твой в Италию — другая вещь; это ничтожная мелочь; десятки рублей только. Об этом не могу же я думать, как о серьезном затруднении для тебя.
Прошу тебя, моя голубочка, поезжай в Италию в половине августа или, крайний срок, в сентябре, в половине.
Я пишу эту мою просьбу к тебе с такой серьезностью, на какую только способен я. — Я не хочу и думать, что она, эта моя чрезвычайно серьезная просьба к тебе, останется не исполненною.
Будь здоровенькая, моя милая радость, и все будет прекрасно.
Целую твои ручки тысячи и тысячи раз; обнимаю тебя крепко, моя радость. Поезжай в Италию, если хочешь радовать меня. Целую тебя.
Твой Н. Ч.
Милый мой друг Саша,
Благодарю тебя за твои заботы о присылке книг мне. Я получил ту посылку их, в которой были вложены «Unsere Zeit» и русские книги. — Получил и Атлас Ильина. — Конверсационс Лексикон Брокгауза и Атлас Штилера еще находятся, вероятно, на пути ко мне. Они для меня нужны. Очень нужны. Надеюсь, что скоро получу и их. Благодарю тебя, мой друг.
По поводу книг я хотел написать тебе, какие еще справочные издания вроде Брокгаузова были бы полезны для моих занятий. Но рассудил в этот раз написать Мише. Я виноват перед ним, что редко пишу ему. Мои просьбы к тебе о книгах отлагаю до другого раза. Прошу помнить одно: я ученый, поэтому книги, не имеющие цены для ученых — не русских ученых недорослей, а для серьезных ученых, — бесполезно присылать мне. Я благода-
597
рен за них; но они служат мне лишь для пустой траты времени; трата эта приятная, но пустая. — Прибавлю: я интересуюсь только вопросами, интересными для ученых всех цивилизованных стран; местные дела какой-нибудь страны, — Франции ли, Германии ли, России ли, все равно, интересны для меня лишь настолько, насколько важны для ученых не собственно той страны, а всех других цивилизованных стран. Поэтому, например, Атлас Ильина довольно мало занимателен мне.
Целую тебя, мой милый, и жму твою руку. Будь здоров.
Твой Н. Ч.
549
М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
[25 марта 1875 г.]
Милый мой Миша,
Благодарю тебя за твои письма ко мне; извини меня, мой друг, за то, что я редко отвечаю тебе на них. Дело, между прочим, в том, что я совершенно незнаком с нынешними гимназическими порядками, и мои советы по твоим учебным занятиям едва ли могли бы оказываться идущими к надобностям переходить из класса в класс, получать хорошие баллы и проч. Одно я понимаю: ты любишь заниматься историей; это сходно и с моими личными склонностями Ты уж не ребенок; потому поймешь мои мысли об истории. Напишу важнейшие выводы из моих — очень серьезных — занятий ею.
Источники, по которым пишутся исторические книги, имеют почти все один общий недостаток: незнакомство с законами человеческой природы; это все похоже на разговоры профанов о медицине: кое-что справедливо, но масса суждений невежественна.
Законы человеческой природы: ум и честность это одно и то же; ум и доброе сердце это одно и то же. Бойкость речи, бойкость характера не ведут ни к чему полезному для людей, если мотивом слов и поступков бывает не чувство любви к людям.
История вся сплошь набита похвалами фактам, которых не может оправдывать добрый, честный, неглупый человек. Все эти похвалы — невежество, перенесенное авторами исторических трактатов в их книги из невежественных источников; все эти похвалы — вздор, нелепость.
Например. Больше всего говорится в истории о военных делах. Никогда никакая наступательная война не была полезна нации, которая вела ее. В исторических книгах очень часто — не то; но во всех таких случаях авторы ошибаются. Беру первый факт большого размера в этом роде, хорошо известный нам, — войны греков с персами. Отбивши у персов греческие города в Малой
593
Азии, — греки Европ[ейской] Греции не ограничились этим честным делом. Они увлеклись расчетами выгод; завоевать области, которые желали оставаться под властью персов, стало целью войны против персов; это и было истинной причиной погибели Греции: она обессилила себя; сначала Афины пали, потому что персы, доведенные ими до отчаяния, обратили все богатства Азии на наем дисциплинированных армий и хороших флотов против афинян; это и есть то, что называют второй половиной Пелопоннесской войны. Спартанцы были тут наемниками персов. И послужили персам так усердно, что истощили свою кровь на пагубу Афин. Вот в чем и причина погибели Греции. Прежде чем греки успели оправиться от Пелопоннесской войны, Греция была подавлена нашествием иностранцев, — македоняне были не греки; — вот в чем сущность дела. — Историки любят рассуждать о других причинах падения Греции; эти причины — или мелочи, сравнительно с гибельностью Пелопоннесской войны, или — и это, по большей части, — фантазии самих историков, опровергаемые внимательным изучением фактов. Например, очень много толкуют о противоположности, врожденном противоборстве дорийского и ионийского племенного элемента. Это чистый вздор. Коринф ничем не отличался от Афин; он был дорийский город; сицилийские города ничем не отличались от Афин; это были дорийские города. Множество ученых и поэтов, художников и всяческих знаменитых людей, которые считаются представителями афинского племенного (ионийского) элемента, были дорийцы. Сам Геродот, какого другого ионийца и на свете не было, был родом из дорийского города. На чем основано недоразумение историков? — Спарта много отличалась от Афин. Но это было просто различие по степени образованности. Разница между ионийцами и дорийцами вся ограничивается филологическими пустяками, вроде разницы между голландцами и соседними немцами. Но обстоятельства жизни различны; потому история шла помимо сходства соседних немцев с голландцами, помимо разницы их от каких-нибудь тирольцев. Взгляни тоже на филологическую карту юго-запада Европы; жители Галисии (испанцы) говорят тем же языком, как португальцы, каталонцы (испанцы) говорят тем же языком, как (французы) лангедокцы. Филология вещь важная, но — когда сапожник рассуждает о перчатках, он невежда в том, о чем рассуждает. Вся история наполнена подобными рассуждениями. Держись одного: все доброе полезно; все дурное вредно. Все, что противоречит этому простому правилу честных и добрых людей, занесено в исторические книги из невежественных источников учеными, не имевшими основательного знакомства с законами человеческой природы.
Будь здоров, мой милый. Целую тебя и жму твою руку.
Твой Н. Ч.
599
550
А. Н. ПЫПИНУ
28 марта 1875. Вилюйск.
Милый мой друг Сашенька,
Прошу у тебя, у сестер, то есть и у Юленьки, и у Виктории, также и у Сережи прощенья за напрасную обиду, которую нанес вам; — это было начало моего первого письма к тебе, отправленного недели две тому назад; по принятому мною правилу писать не один раз то, что хочу сообщить, — правилу, которого постоянно держусь в переписке с Ольгой Сократовной, повторю, коротко, то, что было дальше в первом письме; после прибавлю о моей жизни здесь, о чем не было подробностей в том письме.
С каждым словом твоего письма ко мне я совершенно согласен. Отношения всех вас, и в особенности твои, к Ольге Сократовне я понимаю точно такими, какими ты изображаешь мне их.
Точно так я думал о них всегда и в те минуты, когда писал обиды вам.
«Ссоры» Ольги Сократовны с вами, по ее собственному мнению, то же самое, что ее «ссоры» со мной. Ты помнишь, когда мы с нею жили вместе, она беспрестанно была в «ссоре» со мной. — Милый друг, ее характер вспыльчив. Но и сама она умеет судить об этих вспышках. — В ее письмах ко мне очень часто бывают «ссоры» с вами, жалобы на вас. — «Это писано было в минуту досады, — говорит она о таких местах своих писем; — мне тогда так показалось; но ты знаешь мой характер; я сердилась напрасно!» — Милый мой, конечно, я безгранично предан ей. Но это не мешает мне, разумеется, находить ее серьезные чувства к вам и ее серьезные отзывы о ваших отношениях к ней совершенно справедливыми. Ее серьезные чувства к вам — нежные; ее серьезные суждения об отношениях ваших к ней — совершенно те же, как твои.
Ясно тебе, что такое были те мои письма, обидные вам? — Я имею совесть, мой милый, я желал бы перестать быть вредным для вас — и писал те письма. Вам следовало плюнуть и перестать думать обо мне. Я желал этого. Не удалось. Жаль.
Тем более, что это было лишь начало. Когда прошло бы столько времени, сколько нужно по интервалам почтового сообщения, я написал бы Саше, своему сыну: «Я давно жду уведомления, исполнил ли ты мое требование; оно давно пришло бы, если бы требование было исполнено. Итак, ты не сын мне». — Что дальше? — За вас Ольга Сократовна могла бы и не разрывать со мною; но за сына она непременно разорвала бы всякие свои отношения ко мне. А это и было целью всего.
Я много раз делал попытки убедить ее отречься от меня. Много раз. Однажды даже разорвал всякие мои сношения с нею. И держался этого целый год. Ее здоровье расстроилось от моего
600
молчания. Как быть? — Я возобновил переписку с нею. А мои другие попытки тоже были отвергаемы ею. Это было много раз, мой милый. И вот, наконец, я придумал путь, который казался мне более верным: муж не мог принудить жену отречься от него; то — мать не в силах будет простить обид и страданий, наносимых ее сыну. — Она несравненно дороже для меня, чем даже наши с нею дети; мысль о ее пользе была для меня главною. Но и для моих детей, и для вас это было бы полезно. — Не удалось. Жаль.
Твое письмо ко мне сделало для меня невозможным продолжать то, что было начато мною; оно причина тому, что хорошее дело, начатое мною, оказалось напрасным.
Это было содержание моего первого письма к тебе. Там я обещал прибавить подробности о самом себе.
По какому поводу делал я новую попытку перестать быть вредным для Ольги Сократовны? — Повода не было никакого в моих здешних делах. Мне показалось, что после предыдущей моей попытки прошло достаточно времени, чтобы приняться за новую, только и всего.
И перехожу к моим обстоятельствам.
Мои письма к Ольге Сократовне — непрерывный ряд уверений, что все в моих обстоятельствах прекрасно. Вы все (и она тут тоже) — а теперь, вероятно, уж и Миша, не только Саша, — вы понимаете, что если бы что-нибудь было и не совсем прекрасно, я все-таки писал бы ей: превосходно. Итак, до какой степени мои уверения ей соответствуют фактам? — Соответствуют вполне, все, кроме одного, — да и об этом одном я был до вчерашнего дня убежден, что оно — чистая правда.
Живу я в изобилии — это чистая правда.
Я не имею ни малейших неприятностей ни от кого и ниоткуда, — чистая правда.
Я в самых лучших отношениях со всеми, с кем считаю нужным иметь какие бы то ни было отношения, — и, все без исключения очень милы ко мне, — чистая правда.
Я совершенно здоров, — вот это одно требует оговорок; до вчерашнего дня я был убежден, что оговорки, какие соответствуют приведению несколько через меру сильного уверения к размеру чистой правды, совершенно ничтожны.
Правда, у меня ревматизм по всему телу, и особенно по всей левой стороне тела; правда, ревматизм в левой стороне груди не может не расстраивать важнейших органов кровообращения; правда, это ведет к аневризму; правда — что хуже ревматизма, — у меня малокровие. — Все так, но все это не очень важно. Смерть от аневризма, когда придет, то придет; а пока все это не мешает моему здоровью быть очень хорошим.
И до вчерашнего дня я знал о своем здоровье только это. Не тревожься: то, что я узнал вчера, не особенно важно.
601
Медика здесь нет. Изредка бывает какой-нибудь по какому-нибудь делу о какой-нибудь заразительной болезни, — этим болезням в здешнем климате счета нет. Ни с одним из этих приезжавших на время медиков я не хотел видеться. У меня правило: по возможности не видеться ни с кем.
Недавно приезжал медик с важным чином; по своему чину он вправе был считать себя человеком выше возможности испортить свою репутацию знакомством со мною. Он зашел ко мне. Я сказал ему, что лечиться мне не от чего. Чтобы не обидеть человека, взял у него что-то вроде летучей мази (от ревматизма, который изобразил я ему в пустом, смешном виде). Тем дело кончилось.
Но третьего дня приехал сюда (ревизовать аптеку, сделать на месте соображения об увеличении числа фельдшеров по округу и тому подобное), безо всякой надобности до меня, разумеется, инспектор Якутской врачебной управы. Я сидел у одного из здешних администраторов, когда сказали, что он приехал и придет в это семейство пить чай. Я встал и ушел. Здесь люди простые. Я должен был объяснить им, почему это я ухожу, между тем как еще не допил до конца то количество стаканов чаю, какое следует по их знанию о моей невоздержности в употреблении этого — бесспорно — «горячего» напитка. — «Я не имею желания видеть гостя, который приедет к вам». — И это — вежливое ли? — мое объяснение не удержало доброго человека от знакомства со мною. На другое утро, — вчера, — он приехал ко мне с обыкновенным, не медицинским, обыкновенным светским визитом. Мы сидели, пили чай, говорили о вещах, вовсе не медицинских: о латинских поэтах, о греческой истории. Я сидел в халате; следовательно, без галстуха. Случайно его взгляд попал на шею мне, — раскрытую, по домашней моей небрежности, — и, взглянув на нее, он вдруг перерывает нашу ученую беседу и говорит: «У вас растет зоб». — Я смеюсь: — «Не может быть». — «Да». — Я возражаю: это, вероятно, маленькая опухоль от простуды. Нет; оказалось правда, зоб.
Ты видишь, я смеюсь, говоря об этом. И, конечно, в сущности все пустяки, в том числе и эта скверность, зоб. Но сам по себе гадость ничтожная, он разочаровал меня в моей уверенности, что, благодаря моей чрезвычайной гигиенической осторожности, здешний климат не действует на меня. Действует, как видно по зобу. Мой гость медик сказал, что это было у его супруги, было у его детей (они недавние приезжие в Якутске), но довольно хорошо излечилось у них; излечится и у меня. — Я в этом и не сомневаюсь. Следовательно, все-таки мое здоровье очень хорошо.
Чтобы не оставлять тебя под впечатлением этого хоть и смешного, но, как бы то ни было, не очень прекрасного произведения моей шеи, зоба, в заключение письма возвращаюсь к «ссорам» и «жалобам» Ольги Сократовны.
602
Откровенно тебе скажу, мне и тогда, когда я писал первое письмо, и теперь не вполне ясно, какая из «жалоб» Ольги Сократовны послужила мне поводом написать обиды вам. Не помнить же этого несколько месяцев. А справиться лень. Но полагаю, не ошибаюсь, думая, что это была жалоба на Викторию за ее холодный прием; ты пишешь, Виктория была тогда больна; это было бы понятно мне, если б и не было после объяснено самой же Ольгой Сократовной; было ли объяснено? — не ручаюсь; но, вероятно, было. И кстати, о Виктории. Серьезное чувство Ольги Сократовны к ней нежная любовь. Я сам Викторию почти не знаю. Но по отзывам Ольги Сократовны о ней люблю ее.
Других я сам знаю и любил бы их и без рекомендаций Ольги Сократовны.
Прошу прощенья у сестер и у Сережи за обиду, которая оказалась, к сожалению моему, неудачной.
В частности, о тебе. Я знаю, мой милый, что лишь тебе Ольга Сократовна и наши дети обязаны тем, что не умерли от голодной смерти.
Разорвать Саше сношения с тобой, — да разве я не знал, что он не мог этого исполнить, — между прочим и потому, что Ольга Сократовна не могла допустить этого? — На том все было и основано, чтобы потребовать от Саши нелепого и невозможного.
В прошлом письме я говорил тебе в довольно неопределенных выражениях о некоторых моих денежных предприятиях. По той причине, по которой отлагал в том письме, отлагаю и теперь разъяснять тебе их, если они еще неизвестны тебе. Но надеюсь, известны. — Как я держу себя? — вот как, мой милый: вчера провел весь день с инспектором врачебной управы и не спросил его, застало ли бы какое-нибудь мое письмо — например, хоть бы о присылке мне книг, — в Якутске то лицо, — через которое я объясню тебе после мои денежные предприятия; и не допускал инспектора распространяться ни о чем в городе Якутске, и ни о ком; — латинский язык, успехи медицины и все тому подобное гораздо интереснее мне, чем допустить возможность для меня узнать то, что нужно было бы мне узнать, но о чем я успею услышать когда-нибудь и после.
Это чрезмерная осторожность, скажешь ты. Разумеется. Но я считаю полезным держать себя в этих моих денежных предприятиях именно так.
Твое письмо, мой милый, письмо чрезвычайно благородное. Я писал тебе в первом моем ответе на него, что стоило бы поцеловать за него твою руку. Разумеется, это лишняя церемония. То и забудь, что я, не стесняясь приличиями, в мыслях своих исполнил ее.
Будь здоров. Без какой-нибудь деловой, денежной надобности не пиши мне. Я не полагаю, чтоб это было неудобно в каком бы то ни было отношении тебе писать ко мне. Но у тебя и без того
603
много работы. Потому без необходимости не делай себе лишнего обременения.
Целую Юленьку, других сестер, Сережу.
Целую тебя, мой друг.
Твой Н. Ч.
P. S. Я забыл повторить, что говорил в первом письме: я согласен с тобой и в том, что о твоем письме ко мне Ольге Сократовне нет пользы знать.
551
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
3 мая 1875. Вилюйск.
Мой милый дружок Оленька,
Я получил твое письмо от 12 февраля. Ты порадовала меня тем, что поселилась в Крыму. Поживи там. Но ты должна ехать в Южную Италию. Крым для тебя еще недостаточно хорошая по климату страна.
Истинно хороший климат не ближе от России, как в Южной Италии.
Интервал в отправлениях почт отсюда был долгий: снег тает, проезд чрезвычайно труден. Мое правило: когда интервал от предыдущего моего письма был долгий, то писать лишь несколько строк, чтобы новое письмо скоро шло по дороге к тебе.
Так делаю и теперь.
Я получил письмо Саши с обучением меня математике. Поучусь. И представлю на усмотрение Саши мои математические будущие подвиги. Благодарю его.
Целую его и Мишу.
Я стал получать газету «Неделя». Благодарю за нее.
Крепко обнимаю тебя, моя милая голубочка, и тысячи раз целую твои руки. Будь здоровенькая и веселенькая, и все будет прекрасно.
Твой Н. Ч.
552
А. Н. ПЫПИНУ
3 мая 1875. Вилюйск.
Милый друг и брат Сашенька.
В половине февраля я отправил Стасюлевичу маленькую поэму «Гимн Деве Неба». По расчету времени она в настоящую минуту уж напечатана, я убежден. Ошибаюсь ли я? Если я ошибаюсь, то всякому умному человеку понятно само собой: результат не мог бы не быть очень серьезен. В чем состоял бы он, я в свое время предуведомил бы всех, кого должен был бы предуведомить, — мое правило: не делать ничего, не предуведомивши; я предуведомлю, если то будет нужно. Но я хочу думать, что я не ошибаюсь: моя поэма напечатана.
604
И пусть будет довольно о том. Я человек миролюбивый, как очень немногие из людей. Пусть первый встречный якутский ребенок ударит меня, я стерплю; и не раз в Петербурге дворники, принимая меня по моей небрежной одежде за простолюдина, давали мне пинки, — я переносил, бывши юношей; тем более кроток я теперь, старик.
После отправления письма к Стасюлевичу я получил твое письмо, благородное, но с первого слова до последнего — напрасное. Я отвечал на него двумя письмами к тебе.
Не сомневаюсь, что ты получил их.
Пишу третье письмо к тебе. Оно, как и те два, отправляется обыкновенным путем — через руки якутского губернатора. Короче и проще было б адресовать мои письма к тебе прямо на имя шефа жандармов с просьбой о передаче тебе. Я буду делать так, если увижу надобность в том. Но пока желаю думать, что этой надобности нет.
К этому письму прилагаю шесть листков литературного содержания.
Надеюсь, что все дойдет до тебя без промедлений. Та же мысль повторена несколько раз в пробелах тех литературных листков.
Серьезно ли я надеюсь? — очень серьезно. Потому что если б я обманулся в моей надежде, то это было бы дело очень серьезное.
Видишь: два, и три, и четыре раза, и десять раз, и двадцать раз я твержу все одно и то же.
Уж из этого всякому умному человеку должно быть ясно:
Мое желание быть полезным моему семейству должно быть уважено.
Иначе — но я и думать не хочу, чтобы оно не было уважено.
Целую тебя. Твой Н. Чернышевский.
Р. S. Это письмо должно быть получено тобой через два месяца — в начале июля; через два месяца, в начале сентября, должен быть получен мною твой ответ на него.
Пиши все без лишних церемоний, по правде, — я говорю, без лишних церемоний — перед лицами, которые по дороге от твоей комнаты к моей.
Твой Н. Чернышевский.
Приложение к письму Чернышевского к Пыпину от 3 мая 1875. Шесть листков.
Н. Чернышевский.
Должно быть получено Пыпиным приблизительно через два месяца; ответ Пыпина мне должен быть получен мною приблизительно через четыре месяца.
Чернышевский надеется, что все это будет передано Пыпину безо всякого замедления. Он очень серьезно надеется
605
на это немедленное исполнение его желания. — Н. Чернышевский.
Это переписано разборчивее в конце письма.
АКАДЕМИЯ ЛАЗУРНЫХ ГОР
Дензиля Эллиота
Часть первая
О том, как возникла Академия Лазурных Гор,
Многим, от друга; и, немногим, от друзей.
Несколько слов для предисловия.
Some words, for many friends. And, A few words, for some friends. By a friend; And, by a few friends.
Вы помните; Академия, это был сад подле Афин; и, вероятно, вы помните, что такое был этот сад в славные времена Афин, и пока были времена людей, мысли которых сформировались в славные времена Афин. Впрочем, очень возможно и не помнить, что такое был он тогда; это плохо помнят многие известные ученые, авторы переполненных ученостью книг об истории древней Греции или греческой философии. Но вы, вероятно, помните. А во всяком случае, это легко припомнить.
Славные времена Афин, вы помните, были: от Маратонской битвы до Пелопоннесской войны.
Была ли тогда Академия знаменита? — Не была; и не имела никаких прав быть знаменитой.
Знаменитость приобрела она от Платона. Платон начал учить в ней лет через пятнадцать после конца Пелопоннесской войны; более чем через сорок лет после того, как миновали славные времена Афин. Он и родился, когда уж миновали славные времена Афин.
В славные времена Афин, и во времена людей, образ мыслей которых установился в славные времена Афин, об Академии нельзя было сказать ничего эффектного. После мало и вспоминали о ней, тогдашней, не эффектной. И теперь, если бы вы желали знать о ней много, это было бы желание несбыточное: ваши источники знания о ней очень скудны. — Но, хоть не без прибавки предположений, — впрочем, совершенно простых, и, благодаря тому, или близких к истине, или вовсе совпадающих с нею, — вам можно иметь, и, вероятно, вы имеете достаточно ясное понятие о характере и значении Академии в те времена; — вы будете так добры, потрудитесь помнить: в те времена, в славные времена Афин и во времена людей славных времен Афин.
Сад, Академия в те времена и была, просто: сад. Большой и хороший, это правда; но обыкновенный тогдашний сад; с многочисленными, хорошими, просторными, это правда, но тоже обыкновенными тогдашними, садовыми постройками, с обширными, хорошими, это правда, но тоже обыкновенными тогдаш-
606
ними, приспособлениями и построек и самой местности к тому, дл» чего хорошо годятся сады, чему хорошо быть в саду. И только. Обыкновенный сад. Просто; и только. Хороший, это правда. Но обыкновенный. Не один такой тогда; и, не более хороший, чем другие такие же. Но, хороший. Хороших садов, нельзя не любить; потому что хорошо, пользоваться ими: приятно. Конечно, если пользоваться ими хорошо, как сообразно с природою садов, как должно по здравому смыслу. — И афиняне тех времен любили Академию, свой сад, один из своих хороших садов; как другие свои такие сады; за то, что она хороший сад. Только. И пользовались ею, как хорошим садом. Только. Пользовались хорошо. Как именно, — вы, по всей вероятности, знаете.
В тени аллей и под навесами колоннад весело готовились там юноши к трудам дел жизни играми, разумными и благотворными, как труд. Приходили туда, гулять, отдыхать, деды, отцы, возмужавшие братья юношей. Они приходили: для прогулки, для отдыха; но — разумеется: останавливались Полюбоваться на игры своих милых младших. Останавливаясь, они хотели быть только зрителями, эти старшие. Но из этих зрителей, солидных людей, старших, бывало, кто помоложе, увлекались, засмотревшись: принимались сами играть вместе с юношами. Случалось это с иными и старшими из старших. По-тогдашнему это не было предосудительно; как не предосудительно это и ныне, по мнению огромного большинства умных и добрых людей. — И, вероятно, вы расположены думать: «Да; из тех старших, которые играли вместе с юношами, многие начинали играть, только засмотревшись. Но, без сомнения, были и такие, которые прямо с тем намерением и шли в Академию, чтоб играть. И, конечно, они не скрывали этого: по-тогдашнему в том не было стыда. Неглупые люди были афиняне тех времен. Понимали они, что быть простыми людьми, это умно». — Ваша правда: было так; без сомнения.
И играли, не стыдясь, — и, вообще говоря, очень успешно, потому что от полноты усердия душевного, — вместе с сыновьями отцы, со внуками деды, у кого сохранилась свежесть сил и была охота.
А другие старшие, постоявши, посмотревши, вспоминали, что пришли не затем, чтобы стоять и смотреть; отходили в другие аллеи, под другие колоннады, где нет шума и беготни. Любители ходить прогуливались; группами, чтобы разговаривать; для того, чтобы приятнее шло время. — А те, кому было довольно и той прогулки, что пришли в сад, располагались отдыхать; тоже, группами; тоже, чтобы раговаривать; а это тоже: для того, чтобы приятнее шло время. — Гулявшие, нагулявшись; игравшие, наигравшись, — присоединялись к отдыхающим. И все шли, все оживляясь, разговоры в увеличивающихся группах отдыхающих. Разговорами, вызывались рассказы; рассказы давали новые материалы для разговоров.
607
Так отдыхали; и приятно шло время отдыха.
— «Приятно шло время отдыха»; — и, будто бы, в самом деле, только? Вопрос важен. Говоря серьезно: в самом деле, только?
Серьезно говоря: в самом деле, только.
Ваша озабоченность относительно интересов учености, сама по себе, похвальна. Но она — анахронизм. Вы сами видите, что ваше сомнение было ошибочно. Это все равно, как если бы вы усомнились в том, что ни Перикл, ни Геродот, ни Эсхил и никто из их современников не слушал лекций Платона. Быть может, они очень много теряли от того, что не слушали Платона. Но — они не слушали его. Правда? Вы вспомнили, что дело идет об Академии славных времен Афин и людях славных времен Афин.
Неглупые люди были афиняне тех времен. Но простые люди были они. Не охотники были они, говорить одно, а думать и делать другое. Это было бы слишком мудрено для них. А слишком мудреное было, по их мнению, глупо. Им не могло бы понравиться, чтобы по названию было: «сад, открытый для публики», а на деле — экзамен из геометрии; и кому экзамен? — Если продолжать в манере вашего анахронизма, то: — и Периклу, и Геродоту, и Эсхилу, и Фемистоклу, и Аристиду, и Мильтиаду: увольнения не дается никому, и снисхождения не получает никто, ни за какой ум, ни за какие заслуги. — Нетверд в геометрии? — то не достоин, не только беседовать с Платоном, но и быть немым, почтительным слушателем его мудрости; да, не смей и подходить к нему близко. — Помните? — «Кто не знает геометрии, не входи». — Да к чему ж тут геометрия? Разве математику преподавал Платон? И где хоть маленькие следы пользы ему самому от его геометрии? Это, вероятно, по геометрии придумал он, что существуют где-то камни, которые не камни, а идеи камней, — деревья, которые не деревья, а идеи деревьев, — и все на свете, так? — И по геометрии, вероятно, убедился он, что если он поедет в Сицилию, то будет законодательствовать там; поехал; — там взяли его и отдали пирату, на продажу в рабство. — Как мог гениальный человек не понимать, что в тех отраслях знания и исследования, которыми занимался он, не могло быть, и у него самого не было, никакой речи ни о чем, сколько-нибудь похожем на геометрию? — Положение дел в Афинах, да и во всех просвещенных, не полудиких, как Спарта, государствах Греции было такое тяжелое, что могли путаться мысли и у гениальных людей. Одним из проявлений этой путаницы мыслей была знаменитая надпись: «Кто не знает геометрии, не входи»; — была и вся деятельность Платона в Академии.
В славные времена Афин и во времена людей, рассудок которых успел окрепнуть в славные времена Афин, не было поклонения неведомому тогда богу кабинетного сора.
Саду, открытому для публики, следует ли быть в самом деле
608
садом, открытым для публики? — По своему нехитрому пониманию вещей афиняне тех времен полагали: следует, чтобы в самом деле было так. И, сад для публики, Академия в их времена была, в самом деле, сад для публики; место, предназначенное для развлечений и для отдыха, не место для наведения скуки на людей ученостью.
Правда, во всяком многолюдном собрании бывают люди, которым вовсе не зачем тут быть и которые без особенной потери для приятности общества могли б и не делать ему удовольствия своим присутствием в нем. И, без сомнения, бывали в Академии тех времен охотники до учености в часы отдыха, мастера наводить на людей скуку своими рассуждениями. Но ни у кого не было желания разделять с ними их наслаждение тем, что скучно для всех, кроме них.
Конечно, иной раз иному мастеру скуки и удавалось составить около себя группу для ученых рассуждений, захватывая в плен неопытных, неосторожных или слишком добрых к нему людей. Но какая ж и была эта группа? — Малочисленная; маловажная, сравнительно с другими; ничего не значащая для них. Да и та не могла долго удержаться. Кругом шли живые разговоры, интересные рассказы. Пленники мастера скуки завистливо поглядывали на другие группы; кто из них похрабрее, дезертировали; мастер скуки смущался духом, и, пользуясь упадком его мужества, остаток пленных окончательно разбегался.
Что ж это было для Академии? — Смех, когда это замечали; а по большей части, и смеха над этим не было; потому что и не замечала того Академия. — Ваши чувства относительно мастеров скуки справедливы. Но напрасно вы вспоминали об этом почтенном классе людей. Не стоило того.
Совершенно другое дело, конечно, поговорить о тех группах, в которых время шло наиболее приятно. Эти группы росли; другие группы примыкали к ним. Ими определялся характер Академии; они одни имели значение в ней. — В них что было целью разговоров и рассказов? — Отдых, приятность отдыха. Только это. Как сомневаться в том? Иначе и быть не могло, по самой сущности дела.
Правда, участвуя в этих разговорах, слушая эти рассказы, можно было, довольно часто, довольно многим из бывших тут, узнать что-нибудь такое, чего не знали они прежде; и, почти всегда, многим, а иногда, быть может, и всем, кроме очень немногих, научаться яснее прежнего понимать вещи, всегда известные всем. Это было; правда. Но это было лишь потому, что не могло не быть. Люди научаются, когда идет у них обмен мыслей. Это неизбежно. Это непременное качество, ежедневный и вечный результат разговоров и рассказов отдыха. Везде и всегда было так. И везде, всегда так будет, пока будут существовать люди. Это закон человеческой природы.
39 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
609
Потому было это в той Академии. И, конечно, это составляло не совершенно ничтожную долю пользы, какую получали от своей Академии афиняне тех времен. Но это было без всякой заботы о том, чтоб это было. И польза от того была лишь благодаря тому, что не было заботы о пользе от того. Забота, чтоб это было, убивала б это. Забота душит отдых. А убит отдых, то убита и польза от него, разумеется; всякая; в том числе и эта, не ничтожная, но далеко не самая значительная польза от него. Он существует лишь при отсутствии всякой заботы; в том числе и всякой заботы о какой бы то ни было пользе от него. Но в самом его существовании великая его польза.
Нужен людям труд. Нужен людям и отдых. Много людям нужно отдыха, много.
Это знали афиняне тех времен. И пользовались для отдыха всем, что может служить для него. И, в числе всего другого, садами; и, в числе других своих садов, Академиею. — И тому, чтобы отдых был приятен, помогали разговоры и рассказы отдыха. Когда время отдыха идет приятно, люди отдыхают дольше, лучше, чем было бы без того. В том и была важнейшая польза их разговоров и рассказов в их садах; и, как в других их садах, в их Академии.
Такова была первоначальная Академия, доплатоновская, не знаменитая. Знаменита она не была. Но любима она была.
Это было очень давно. Обычаи цивилизованных наций теперь во многом из того, в чем одинаковы у всех, не сходны с тогдашними греческими. И, некоторые из разниц, бесспорно, в честь и в добро цивилизованным нациям нашего времени. Об одной из таких, надобно сказать здесь. О какой, вы знаете вперед. Но вы согласны: надобно же сказать.
Ныне у цивилизованных наций, в том числе и у людей всех стран нашего языка, многолюдные собрания для развлечений и отдыха — собрания не одних только мужчин, а людей в цельном составе семейств и семейных кругов родства, дружбы и близкого знакомства.
Этим отличалась наша Академия на Лазурных Горах от той первоначальной, подле Афин.
А во всем, чего не касается эта разница, было у нас то же, что в той, и, приблизительно, так же, как в той.
Наша Академия тоже была сад. Тоже большой и хороший; тоже с хорошими садовыми постройками, с хорошими приспособлениями и построек и самой местности ко всему тому, чему хорошо быть в саду по хорошим обычаям нашего времени. Мы собирались в этом саду для развлечений и отдыха или — некоторые из нас — только для отдыха. И, в часы отдыха, время шло у нас приятно, в разговорах и рассказах отдыха.
Так было. Можно надеяться, что и будет все так, как было до сих пор.
610
Сад остается. И будут продолжаться собрания в нем.
Отъезд трех семейств из числа нескольких семейств не произведет расстройства в Академии Лазурных Гор. Так можно надеяться.
Но, во всяком случае, то, что будет, будет вторым периодом существования Академии Лазурных Гор. Первый период ее существования закончен.
Решено, что будет составлен и издан сборник рассказов нашего отдыха и разговоров, относящихся к ним. Такому изданию можно предсказать, что оно будет хорошей книгой отдыха.
Это качество будет принадлежать ему тем полнее и непрерывнее, чем неуклоннее будет при составлении книги соблюдаемо правило: не брать в нее ни одной тетради, ни одной страницы, ни одной строки из — достохвальной, конечно — груды «Отчетов и рукописей Беседки скуки», Reports and Papers of the Bore Bower.
Скрыть нельзя: в одном из боскетов сада нашей Академии была устроена Беседка Скуки. Но она была безвредна для Академии. Если собиралась в ней по временам группа скуки, это было лишь доброй уступкой со стороны нескольких ученых своеобразному характеру человека, которого любили они за то, что он любил, как продолжает любить, или их, или людей, которых они любят. А с его удалением из соседства Академического сада Беседка Скуки стала никому в Академии не нужна, и двери ее заперты на ключ и запечатаны тем человеком, которому одному было приятно проводить в ней часы отдыха.
Этот человек уж наскучил вам. Он знает. Но перестать наводить скуку не так легко для него, как понимать, что он наскучил. Об Академии Лазурных Гор он сказал вам все, что хотел. Но о вас самих, люди английского языка, он еще не говорил с вами. Он поговорил бы с вами о вас. Но ему сказали, что ему пора кончить.
(Стенографировано.)
В час разлуки с друзьями, яхты которых ждут их, чтобы возвратиться с ними к берегу, мы, остающиеся на этой яхте, выражаем твердую нашу уверенность, что нашим друзьям будет так же легко хозяйничать в их саду без нас, как было при нас; и что так же легко будет им хозяйничать в деле составления сборника, которому решили они дать имя их и нашей Академии.
Надеемся, что если не в Мельберне, то в Сан-Фрэнсиско мы уж найдем первый том их издания; и имеем несомненную уверенность, что везде, где после того будем в странах людей английского языка, будем читать и слышать: сборник Академии Лазурных Гор — хорошая книга отдыха.
И когда — если когда — мы, остающиеся на этой яхте, готовой плыть на восток, возвратимся с Запада к нашим друзьям, остающимся на Лазурных Горах, — мы найдем, мы надеемся, со-
39*
611
брания в саду наших друзей такими же чуждыми всяких претензий, как было до сих пор, и еще более прежнего многолюдными.
Эльджернон Голлис.
Яхта «Элида»
В виду Porto Novo.
———————
Довольно на этот раз. Надобно прибавить объяснения для тебя, мой милый, и для Стасюлевича, какие необходимы, чтобы вы не считали меня ленивым.
В три месяца я окончательно устроил в своих мыслях многосложную «Академию Лазурных Гор» и многое написал в черновом виде.
Я составил словарь английских рифм, чтобы написать несколько песен по-английски. Это нужно, чтобы сборник имел специально английский характер.
Вот начало первой песни:
(Это в честь примирения Англии с Америкою по делу об Элебеме в годовщину заключения Вашингтонского трактата):
We all who sing this song of Love
We all are of the same, great. Nation
Our blood is one, our language one
The same our feelings’inclination
и тому подобное, патриотическое английское и американское.
Перевод:
Мы все, поющие эту песню любви, люди одной великой нации; мы от одной крови; у нас один язык; наши склонности одинаковы.
Мало ли труда, составить словарь рифм?
Легко ли писать английские стихи мне, не знающему английского выговора?
Нет нужды. Пишу. Из этого ты можешь заключать, что я непременно хочу того, чего хочу:
исполнять мою обязанность семьянина, —
и надеюсь, никто не отважится мешать мне в том.
Я продолжаю писать и русские стихи, чтобы поддержать мнение о Дензиле Эллиоте, как охотнике писать стихи, — за Чернышевским, этой слабости не было, то известно всем образованным людям в России.
И, кстати, о стихах.
Я пишу поэму Эль-Шемс Эль-Леила Намé, то есть.
«КНИГА СОЛНЦА НОЧИ»
Вот страница из нее, которая будет хороша в печати и отдельно от поэмы. Напечатай в «Вестнике Европы».
612
Из Видвесты*
(Дензиля Эллиота)
Виденье Вистара,
В девятое лето,
Правленья Джемшира
На праздник весны;
В столице Ирана,
Ширазе прекрасном,
В саду Дайриары
Джемшира жены.
——————
Весна наступает. Иран, веселися:
Последней твоей это праздник весны.
Сплошной от Байкала до Инда ордою
Несутся на запад пустыни сыны.
От скудости стран их тела их — скелеты;
И сквозь их лохмотья их ребра видать.
Широки их лица, и плоски черты их;
На плоских чертах их бездушья печать.
Как гривы коней их, жестки волоса их;
И взгляд их прижмурен, хищенья искать.
Костлявы их руки; как когти их пальцы,
И цепки и крепки добычу хватать.
Шумит их дыханье порывами бури,
И ветр от той бури тлетворней чумы:
Траву иссушает, и зверя он бесит,
И, ужасом, в людях мрачит он умы.
От вопля томленья их жажды до крови
И топота коней, и грома литавр,
Волнуются реки, и море бушует,
Дрожат Гималаи, колеблется Тавр.
Весна наступает; Иран, веселися:
Последней твоей это праздник весны —
Сплошной от Байкала до Инда ордою
Несутся на запад пустыни сыны.
Это — из первой части поэмы. А вот для примера моего уменья писать во вкусе персидских поэтов средних веков (Джами́, Джелаль-Эддина, Саади).
Посвящение поэмы
Эль-Шемс Эль-Леила Намé
(Дензиля Эллиота)**
То the Country of the Roses
Says the Daughter of the Rose
Гюлистану*** Гюльзадé,
Стране Роз, Розы Дочь
После долгих плача лет,
Истощив источник слез,
Гюльзаде свой шлет привет
Из чужбины, Стране Роз,
Милой родине своей,
Залитой потопом бед.
Омраченной от скорбей.
Солнце Мочи даст ей свет.
—————
По книгам Царей, где легенды былого,
И книге Видвесты, где вещие сны,
Рассказ Гульзадé об Эль-Шемс Эль-Леиле
Внемлите. И будете тем спасены.
—————
Шлет Эль-Шемс Эль-Леила Намé
Гюлистану Гюльзадé,
Стране Роз, Розы дочь.
Ободряя свой народ,
Просвещая скорби ночь.
Книгу Солнца Ночи шлет.
У меня под руками нет Фирдавси; если бы был, я пользовался б его Шах-Намé, Книгою Царей; — но при недостатке материалов для прямого заимствования я принужден сам изобретать легенды; потому Гюльзадé и говорит не о «Книге Царей», — одной — а о множестве подобных книг; и потому — Гюльзадé женщина из семейства, владевшего старыми рукописями, неизвестными никому, кроме этого семейства; это семейство — потомство Джафара, великого везиря при Гаруне-ар-Рашиде.
Гюльзадé, дочь владетеля части Ларистана, Рустема-Мирзы, он был друг Шаха Фет Али и его сына Аббаса Мирзы. Все ее семейство погибло во время смут, следовавших за смертью Фет Али. Ее спас один из эмиров синдских, родственник ее матери; он, вместе с другими эмирами, подвластен англичанам; он часто бывал в Калькутте; там увидел Гюльзаде Мага-раджа Салемский (это город подле Лазурных Гор) он женился на ней. Теперь она вдова и царствует в Салеме. Местность, где Академия Лазурных Гор — часть ее царства. Она — друг герцогов и герцогинь, основывающих английскую колонию на Лазурных Горах: ныне пора туристам ездить для прогулки подальше Италии, думают (справедливо) эти герцоги и герцогини; и они все, и сама Гюльзадé, натурально — одарены очаровательнейшими красотами телесными и душевными. Рассказы Гюльзадé — один из главных ингредиентов «Академии Лазурных Гор».
Итак, вот я исписал уж четыре листка, проведя для этого ночь без сна (собственно, три с половиной — предыдущая страница осталась белой). Повидимому, этих четырех листков должно бы быть достаточно для всякого неглупого человека в административном мире, чтобы увидеть: с административной точки зрения, Дензиль Эллиот человек, о котором не стоит думать; его
614
произведения должны быть отдаваемы в редакцию «Вестника Европы» (Пыпину) без предварительного просмотра в рукописи. Это произведения высокого литературного достоинства, но с административной точки зрения они совершенно индиферентны. — По-видимому, так должно быть. И я надеюсь, что так будет.
Сколько ночей работал я напролет в эти три месяца, я не считал. Не было ни одних суток, в которые работал бы я меньше пятнадцати часов. А я не молод; и здоровье мое хило. И я помню, что я должен беречь его — пока то может быть полезно моему семейству. А все-таки я так работал. Из этого ясно, что я не могу допустить мысли, что кто-нибудь отважится мешать мне быть полезным моему семейству. Я терпелив. Но — я надеюсь, что никто не имеет мысли мешать мне работать для моего семейства.
Возвращаюсь к моему роману.
Мои приготовительные работы почти кончены. Я думал, что приймусь писать для печати дня через три, четыре. Мне сказали вчера (или ныне, как разберешь, когда просидел за письменным столом всю ночь?) — мне сказали, что «завтра» — то есть, в настоящую минуту, уж «ныне» отправится почта. Я бросил докончиванье приготовительной работы, и начал писать для печати.
Успел написать те страницы «несколько слов для предисловия» — и увидел, что до времени отправления почты остается уж не много часов. И, прекративши писанье для печати, написал вот эти заметки.
После того, как отдам письмо на почту, лягу спать, и просплю — долго; я много суток перед нынешним днем спал лишь по четыре, по три часа; а часто не спал двое суток с ряду. Когда высплюсь, докончу подготовительные работы; а потом приймусь писать для печати.
Обзор того, что будет следовать за «несколькими словами» Эльджернона Голлиса.
Те семейства, которые решили издать сборник, проводивши уехавших на яхте «Элида», принимаются за работу.
Из «нескольких слов» Эльджернона Голлиса не видно: кто эти люди, собирающиеся в Академическом саду; и как могла устроиться такая удивительная Академия, в которой вся забота лишь о том, чтобы не было ученой глупости, какой блистают со времен Платона все Академии. Семейства, издающие сборник, видят надобность прибавить к «нескольким словам» Эльджернона Голлиса (разросшимся у этого словоохотливого человека в несколько страниц) — прибавить к этим «нескольким словам» — «несколько страниц»; натурально, эти «несколько страниц» разрастаются в целые сотни страниц; история, несколько подобная той, какая случилась с Тристрамом Шэнди, — помнишь? — который начал писать свою автобиографию, написал несколько томов и все-таки не успел дописать свою автобиографию до дня своего рождения. Но,
615
разумеется, не стану ж я подражать кому бы то ни было, хоть бы даже и самому Стерну. Я только посмеялся над собой, по своей привычке. В сущности, «первая часть Академии Лазурных Гор» будет стройный ряд рассказов, в которых не будет, конечно, ни одного слова, не нужного для цельности впечатления.
И, кстати, о моей манере писать. Я знаменит в русской литературе небрежностью слога. Натурально, это было лишь пренебрежение к слогу. Когда я хочу, я умею писать и всякими хорошими сортами слога. Не пугайся, мой милый, удивительной дикости языка, которым пишет Эльджернон Голлис; одно и то же слово он твердит пять раз на одной строке. Ему, так следует писать; он — основатель «беседки скуки», остальные рассказчики и рассказчицы — обыкновенные светские люди, и будут писать обыкновенным языком.
И, кстати. Кроме нескольких английских песен, будут в «Академии Лазурных Гор» целые страницы английских каламбуров. Так нужно, для того чтобы видно было: да, Дензиль Эллиот — англичанин; — но, само собою, это будет делаться кстати, чтобы не было тут никакой натяжки, нарушающей поэтическое правдоподобие.
Возвращаюсь к «предисловию» первой части «Академии Лазурных Гор».
Труд составления сборника приняли на себя семейства, живущие в самом саду Академии. Этих семейств — восемь. Все они родня между собой. Они объясняют, кто они. Они — люди богатые; но не миллионеры; впрочем, так богаты, что у них есть две великолепные яхты, пригодные для плаваний по океану вдоль и поперек.
Но эти великолепные яхты — ничто перед яхтой «Элида». «Элида» ходит по 25 узлов в час. — Это небывалое отношение силы машины к величине корабля. Невелики машины на «Элиде», но они — чудо механики. И все на «Элиде» так. Например, где на других яхтах бронза, на «Элиде» — золото. «Элида» — подарок принцессы Кастель-Бельпассо (англичанки, из знаменитого рода Невиль, Neville — помнишь? — Варвик Невиль; его дочери — жены герцогов Клэренсского и Глостерского и т. д., — из этого что следует? — вся средневековая история Англии уж и втянута в роман) — подарок принцессы Кастель-Бельпассо ее кузине, герцогине Мильтонлэнд.
Герцог и герцогиня Мильтонлэнд — превосходные люди. И богаты, страшно. Есть герцог Гастингсфорд; он завистник Мильтонлэнда; он занимается всякими дикими английскими головоломными забавами. Он прослышал о яхте «Элида»; у него есть прекрасная яхта «Дельфин». — Он решил: Дельфин обгонит Элиду. (Это задолго до основания Акад[емии] Лаз[урных] Гор, — за полгода.) Мильтонлэнды с своими родными и друзьями собираются плыть в Америку — для прогулки. Дельфин сторожит
616
Элиду в устье Эвона (где Бристоль; оттуда поплывет Элида) — Мильтонлэнды и их общество замечают намерение Гастингсфорда. Переговоры. Гаст[ингсфорд] не урезонивается: «Дельфин перегонит Элиду», — и т. д., — ход дела ты предвидишь. Элида, воспользовавшись туманом, ушла. Дельфин сторожит ее в гавани Нью-Йорка и т. д., и т. д.; — развязка? — Дельфин таки поймал Элиду и пошел обгонять ее. Элида пошла тихо. Дельфин стал кружиться около нее. Это длится часов двадцать. — Мильтонлэнды и их друзья и их капитан не выдержали бы так долго такой наглости, дали бы полный ход Элиде, и пусть бы Дельфин подвергал себя взрыву паровика, если так угодно Гастингсфорду. Но на Элиде — Леила Голлис (жена Эльджернона Голлиса), она женщина непреодолимой силы характера. Она прежде отказывалась от прогулки с Мильтонлэндами; но услышала о нелепом намерении Гаст[ингсфорда], и согласилась участвовать в прогулке Миль[тонлэ]ндов, чтобы не допускать их принимать глупый вызов наглеца. Она велала мужу взять револьвер и стоять подле капитана Элиды; и капитан не давал машине быстрого хода. Так длилось 20 часов. И Элида выдержала: не приняла вызова от Дельфина. Наконец, Гастингсфорд — в неистовстве — направил Дельфин пробить бок Элиде. Тогда Леила Голлис скомандовала капитану Элиды «уходите» — а он хотел, конечно, пробить бок Дельфину. — Нечего делать, к стыду своему, капитан Элиды уклонился и от боя, как уклонялся от состязания в быстроте; — и т. д., и т. д., — пока дело кончается тем, что Дельфин все-таки взлетел на воздух, и Мильтонлэнды спасают Гастингсфорда с его удалыми приятелями.
У Гастингсфорда есть секретарь; он чуть не погиб при взрыве Дельфина. Он переходит из службы сумасброду на службу к одному из аристократов Элиды. У этого секретаря, Шиллера, несметное количество родни. Это — одна из будущих долей населения английской колонии Лазурных Гор.
Жена сумасброда, герцогиня Матильда, тоже привязывается всею душою к Мильтонлэндам. Она — одна из будущих хозяек Академич[еского] сада.
А ее муженек будет в Индии заниматься — натурально, чем: избиением тигров, слонов и всяких чудовищ; это похвально. Но — владетельница округа, где лежит «Долина Радуги», — местность, где Акад[емия] Лаз[урных] Гор, — владетельница этого царства — Гюльзадé, персидская патриотка. Гастингсфорд сбивает ее с толку. Снаряжается экспедиция: гнать Туранцев из Ирана; кстати, заменить мусульманство той религиею, какую сочинила себе Гюльзадé, по «Книге Видвесты» — нечто в роде очень возвышенном, во вкусе идеализированного учения Зороастры, с примесью учения персидских благородных мыслителей, подобных же мыслителей Гиндустана и Декана, и всего на свете, что благородно — понятно, что и тут должна вмешаться в дело Леила Гол-
617
лис, образумить бедняжку Гюльзаде и принудить Мильтонлэндов прогнать сумасброда.
Но это, по основании Академии, конечно. А возвращаясь к порядку рассказа о ее основании, надобно сказать тебе, мой милый, что после взрыва Дельфина, и по возвращении Элиды в Англию, Мильтонлэнды едут гостить к мистеру и миссис Голлис: они страшно богаты, но они люди умные, скромные и непрочь на месяц, на два пожить вдали от блеска, в идиллической простоте. У Голлисов гостит и принцесса Кастель-Бельпассо (англичанка, ты помнишь). Туда является и Гюльзаде, советоваться с Мильтонлэндами и Голлисами, что ей делать: муж ее умер; она желала бы передать свою область в непосредственное управление англичан; но ост-индское правительство, ты знаешь, старается сохранять туземных князьков; и, от нее, не хотят англичане брать ее княжества. Результат совещаний — основание английской колонии на Лаз[урных] Горах; а результат основания колонии — Академия.
Но довольно. Пора отдать письмо на почту.
Целую тебя, мой милый. Н. Чернышевский.
P. S. Чернышевский очень серьезно надеется, что благоразумие административных людей не допустит никого мешать ему печатать произведение человека постороннего всему русскому, Дензиля Эллиота; он подавляет в себе всякую мысль о том, что кто-нибудь будет мешать ему в исполнении его обязанностей семьянина. Это очень серьезно. Н. Чернышевский.
553
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 10 июня 1875.
Милый мой друг, радость моя Оленька.
Давно не было отправки почты по весеннему непроездному состоянию дорог; больше месяца.
Поэтому пишу лишь несколько строк, чтобы это письмо шло скоро, без промедлений.
Живу попрежнему.
Получил твои письма от 27 февраля и 15 марта. Благодарю тебя за них. Благодарю детей за их приписки.
Повторяю и повторяю мою просьбу к тебе: береги свое здоровье. А чтобы оно сберегалось, тебе необходимо жить в Италии.
Ты видишь, вероятно, и сама теперь: Крым еще недостаточно хорош для поправления твоего здоровья. Но Италия поправит его.
Поезжай туда, умоляю тебя.
Целую и целую твои руки.
618
Целую детей.
Целую и целую твои руки снова и снова и крепко обнимаю тебя, моя милая.
Твой Н. Ч.
554
А. Н. ПЫПИНУ
Вилюйск. 10 июня 1875.
Милый друг, брат Сашенька,
Посылаю тебе первые семь листов беловой рукописи моего громадного комплекса рассказов и разговоров «Академия Лазурных Гор» и листок заметок о них для тебя и типографии.
Ты помнишь мою манеру работать, основанную на моем характере.
Я очень строго сужу о себе; то, что я пишу, всегда кажется мне написанным плохо. Потому, помнишь, бывало все, что пишу, я рву: «плохо», — пока фактор из типографии не начнет требовать «оригинала». Тогда смешная странность отбрасывается, и работа идет как следует.
Характер мой тот же и теперь. И результат точно такой же.
Пишу и бросаю лист за листом. И буду продолжать так, пока увижу, что «Гимн Деве Неба» напечатан.
Увижу ли? — Об этом я писал в прошлый раз.
Увижу. И тогда буду посылать массы. Я попрежнему неутомим в работе.
А пока кончил приготовительные работы, и — вот, еще уцелели не изорванными эти первые листы беловой рукописи. — Недели через три, вероятно, пойдет опять почта. С нею пошлю еще. Думаю, что отсылка этих семи листов все-таки поубавит мою склонность рвать и рвать, пока терпит время. Думаю: к той почте уцелеет побольше. Но это все равно. Как увижу, что «Гимн Деве Неба» напечатан, пойдут к тебе массы.
Целую тебя и твоих, то есть моих.
Твой Н. Чернышевский.
555
О. С. и А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
Вилюйск. 25 июня 1875.
Милый мой дружок Оленька,
Я получил твое письмо от 19 марта; раньше того получил твои письма от 27 февраля и 15 марта, о чем, помнится, уже уведомлял тебя. — Благодарю тебя за них и детей за приписки к ним.
Повторяю тебе, моя голубочка, мою просьбу: отправься на зиму в Южную Италию.
Я живу попрежнему, то есть во всех отношениях хорошо, даже очень хорошо.
619
С отправки прежней почты прошло довольно много времени; потому, чтоб это письмо дошло до тебя скорее, ограничиваю его, как всегда делаю после продолжительного интервала, несколькими строками.
Пишу на втором полулистке два-три слова Саше.
Целую твои ручки, моя радость. Целую детей.
Будь здоровенькая и веселенькая, моя милая, — и все будет прекрасно.
Тысячи раз обнимаю тебя, моя радость.
Твой Н. Ч.
Мой милый друг Саша,
Ты пишешь, что хочешь послать мне математических книг. Благодарю за намерение. Но не исполняй его. Это была бы совершенно напрасная трата денег. Я никогда не знал и не хотел изучать математики. Если я говорил, что занимался когда-нибудь сколько-нибудь ею, это было лишь в шутку над собой.
Те отрасли знания, которыми случилось мне заняться, еще остаются и, вероятно, долго останутся неподдающимися математ[ическому] анализу. Даже статистика — пустая забава, когда имеет претензию искать точных величин. Тем более те науки, которые относятся к фактам, еще многосложнейшим, чем статистические.
Тут все вопросы — нечто вроде формул с бесконечным количеством неизвестных, из которых еще ни одна не измерена и которые все находятся — каждая, в процессе изменения по закону, еще не уловленному никем, и все во взаимодействии, тоже не уловленном никем; то есть не уловленном с тою степенью точности, какая нужна для математ[ического] анализа.
Присылать мне математ[ические] книги — то же, что присылать книги на каком-нибудь языке, которого я не знаю, и о предметах, которыми я никогда не занимался и не способен заниматься.
Целую тебя, мой милый. Извини за отказ. Благодарю. Но это были бы деньги, брошенные в печь.
Будь здоров. Жму твою руку.
Твой Н. Ч.
556
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
9 июля 1875. Вилюйск.
Милый мой друг Оленька,
Буду послезавтра праздновать день твоего ангела. Надеюсь, что ты проведешь его в хорошем настроении духа и будешь постоянно заботиться о том, чтобы оно поддерживалось в тебе. Хорошо было б, если бы ты так же неизменно, как я, пользовалась приятным и спокойным расположением мыслей. У меня только одна забота: каково-то поживаешь ты, моя голубочка? — А собственно моя жизнь идет прекрасно. Напишу несколько слов о
620
том, как проходит у меня время; я, кажется, уж довольно давно забывал говорить об этом.
Ты знаешь, что я всегда был беспечен относительно комфорта; и само собою разумеется, что с летами это качество у меня развивается. Но все-таки я устроился здесь очень комфортабельно.
Дом, который я занимаю, самый лучший в целом городе; да и помимо сравнения с другими хорош. Комнаты в нем просторные, довольно высокие, чистые, очень теплые. В прошлую зиму, например, не больше, вероятно, раз четырех приходилось велеть топить печи по два раза в день; и стекла в окнах ни разу во всю зиму не замерзали нисколько. Даже и на полу всю зиму была не холодная температура.
Относительно стола мои дела давно стали совершенно удовлетворительны. Здешние русские позаимствовались кое-чем в своих гастрономических понятиях от якутов. Особенно нравится им поедание коровьего масла в неимоверных количествах. С этим довольно долго не мог я сладить: кухарка считала необходимостью совать масло во всякие блюда мне. Я переменял этих старух, по имени русских; не помогали перемены, каждая следующая оказывалась в кормлении меня маслом непоколебима в якутском кухонном правоверии. Наконец отыскалась старуха, жившая когда-то в Иркутской губернии и имеющая на коровье масло обыкновенный русский взгляд. С той поры, как она стала готовить мне кушанье, оно хорошо, вкусно и здорово. Это уж давно.
В прошлые годы я по своей беспечности оставался небогат овощами. Здесь они считаются более роскошью, лакомством, нежели необходимою составною частью пищи. В нынешнее лето мне случилось не забыть принять меры, чтобы у меня было столько овощей, сколько нужно по моему вкусу: я сказал, что покупаю всю капусту, все огурцы и т. п., сколько будет у здешних огородниц для продажи. Здесь все знают, что я расплачиваюсь в ту же минуту, как беру вещь; это здесь диковинка, разумеется; потому все продают мне с большею охотою, чем друг другу. И я буду снабжен овощами в количестве, без сомнения, превышающем мои надобности.
Вообще я имею все, что нужно мне, в избытке, гораздо более изобильном, чем было бы достаточно даже и такому неэкономному хозяину, как я.
Перехожу к другой стороне моего образа жизни.
Здешние зимние морозы очень сильны, об этом нечего и толковать. Но с первой же зимы я убедился, что они, в сущности, нисколько не страшны прогуливающемуся в достаточно теплой одежде. В две первые зимы я ходил гулять решительно каждый день, два раза в день, часа на два каждый раз. После я увидел, что доводить до такого неуклонного педантства заботу о моционе — вещь излишняя. А ты знаешь, что я не охотник ходить. Поэтому в эту и в предыдущую зиму я иногда и позволял себе
621
несколько пренебрегать моционом. Вреда от этого не было моему здоровью никакого. — Впрочем, очень сильные холода длятся не больше трех месяцев в зиму. До декабря и с начала марта в тихие и ясные дни воздух бывает настолько мягок, что гулять не составляет неприятности даже для меня, одного из людей, наименее расположенных к этому, по-моему, очень скучному препровождению времени.
С началом весны я провожу время на открытом воздухе не для простого гулянья, а с целями более возвышенными, в занятиях, наполняющих меня самого уважением к себе, в подвигах, повергающих в изумление якутов, издали созерцающих мои труды. — В нескольких десятках шагов от моего дома, стоящего на довольно высоком и сухом месте, начинается поросшая жиденьким кустарником сырая низменность. По ней из лужицы в лужицу текут ручейки. Я беру щепку и прилагаю свои познания в гидростатике к расчистке этих ручейков; то самое занятие, которому усердно предаются деревенские ребятишки в русских селах. Здешние мальчишки чужды этого похвального влечения; и тем большее недоумение чувствуют их отцы при виде моих упражнений. — Не подумай, что я только смеюсь; нет, совершенно серьезно: я осушил несколько десятков квадратных сажень сырой низменности моими достопочтенными трудами. Не работать же, в самом деле, на огороде, как я думал было в первую весну: на это у меня нехватило бы терпенья. Но взять щепку, сбросить ею с десяток щепотей песку и потом полчаса смотреть, как углубился от этого ручеек — это годится, чтобы проводить время на открытом воздухе.
Есть у меня и другое занятие такого же характера: собирать грибы. Само собою разумеется, что дать бы какому-нибудь якутскому мальчику две копейки, и он набрал бы в один день больше грибов, чем сумею я в целую неделю. Но для того, чтобы шло время на открытом воздухе, брожу по опушке леса в тридцати шагах от моего дома и собираю грибы: их здесь много.
Общественные мои сношения менее многоразличны и занимательны. Здешние люди — добряки, и я в наилучших отношениях с ними. Но говорить мне с ними ровно не о чем, и я с каждым годом более и более бесцеремонно объясняю им, что мне с ними скучно. Растолковать это им до совершенной понятности для них не могли бы, конечно, ни Цицерон, ни сам Демосфен. Но вот я уж достиг, однако же, до того, что почти никто из них не приходит сидеть у меня: уж довольствуются тем, что зовут меня в гости к себе. Я постепенно отучаю их от доставления мне и этого удовольствия. — Двух здешних священников я уж приучил довольствоваться тем, чтобы обмениваться со мною дружескими чувствами при встрече на улице. Кроме них, есть здесь два чиновника; этих еще не довел я до такого обуздания их дружбы ко мне. Но уж и они довольно мало в тягость мне. — Часто проходят
622
целые недели так удачно, что я успеваю не видеть в лицо никого, кроме слуги, подающего мне самовар и кушанье.
Этим очень хороша моя жизнь здесь: никто не надоедает мне, и живу я в мире моих книг.
Если бы не мысли о тебе, моя милая радость, да немножко о детях, то я мог бы сказать, что я совершенно счастлив. Я родился быть кабинетным человеком и полагаю, что мои здешние ученые занятия не останутся совершенно бесполезными для ученых, занимающихся теми отделами знаний, которыми интересуюсь я. Читая нынешние книги, вижу, что результаты моих трудов, когда будет возможность издать их, будут приняты ученым миром с сочувствием. Лет пятнадцать тому назад на это еще нельзя было рассчитывать; потому моя литературная деятельность и была обращена исключительно на мелочи, о которых я мог писать, не рискуя оставаться без читателей. Теперь, когда будет возможность, надеюсь с успехом излагать мой образ мыслей не о пустяках, интересных только для русской публики, а об ученых вопросах, действительно важных для развитых людей между учеными.
Вот я написал довольно длинное письмо, благодаря тому обстоятельству, что эта почта отходит лишь через немного дней после прежней и что поэтому не будет причиною беспокойства для тебя, если нынешнее мое письмо несколько и запоздает дойти до тебя. А в следующие разы буду, вероятно, опять ограничиваться лишь несколькими строками.
Но и в этот раз повторю мою постоянную просьбу к тебе: поезжай на зиму в Южную Италию; это необходимо для восстановления твоего здоровья. Когда оно поправится, тебя будет радовать прекрасная природа той милой страны, и, кроме пользы здоровью, ты будешь иметь наслаждение от своей поездки.
Будь здоровенькая и старайся быть веселенькой, моя милая радость, и все будет прекрасно.
Целую детей.
Крепко обнимаю тебя тысячи и тысячи раз и целую твои руки, моя милая Оленька.
Твой Н. Ч.
557
О. С. и А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Вилюйск, 18 августа 1875.
Милый мой друг Оленька,
Я получил твое письмо от 13-го, 16-го и 29-го апреля. Благодарю тебя за них, моя радость. — Получил также книги от Саши и письмо его о них. Пишу ему на втором полулистке.
Со времени отправления предыдущего моего письма к тебе прошло, кажется, месяца полтора; по трудности летней дороги отсюда в Якутск сношения с ним в теплое время года бывают ме-
623
нее часты, чем зимою. Ты помнишь мое правило: когда промежуток времени от прежнего письма до нового велик, я пишу лишь несколько строк, предполагая, что эта краткость письма поможет ему дойти до тебя скорее. Так делаю и теперь.
Я попрежнему здоров; и живу попрежнему хорошо.
Повторяю тебе мою просьбу: поезжай на зиму в Южную Италию.
Благодарю Мишу за его приписки к твоим письмам. Целую его.
Будь здоровенькая и старайся быть веселенькая, моя милая голубочка, и все будет прекрасно. Крепко обнимаю тебя, моя радость, и тысячи и тысячи раз целую твои руки.
Твой Н. Ч.
Милый дружок Саша,
Я получил математические книги, посланные тобою мне. Благодарю тебя за желание сделать мне удовольствие ими. Но, мой милый, я не имею и не желаю иметь никаких сведений в математике. Деньги на эти книги — деньги, брошенные в печь.
О том, какие книги было бы мне надобно иметь, напишу тебе когда-нибудь в другой раз.
Благодарю тебя за твою любовь ко мне. Целую тебя и жму твою руку.
Твой Н. Ч.
558
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
9 сентября 1875. Вилюйск.
Милый мой друг Оленька,
Я получил твои письма и письма детей от 27 мая, 4 июня и 26 июня. Получил и твою карточку, вложенную в одном из них.
Ты все прежняя, моя милая радость; какою была пятнадцать лет тому назад, такая и теперь. И долго еще останешься такою же, если будешь заботиться о своем здоровье, меньше огорчаться и меньше скучать. Целую тебя за твою карточку, моя милая Лялечка.
По твоему желанию перестану наскучать тебе моими просьбами о поездке в Италию. Но перестану лишь на несколько времени, чтобы не показаться тебе непослушным. Через несколько времени примусь опять упрашивать.
Саша кончает курс в университете. Поздравляю его. Желаю ему хорошо устроиться в жизни.
Миша хочет поступить в морское училище. Конечно, я не могу судить о том, насколько это — случайная фантазия юноши, еще не умеющего понимать даже и свои собственные склонности, желания, способности, и насколько — выбор удачный, основательный. Поэтому никаких мнений об этом проекте Миши не могу
624
иметь. Все, что могу сказать, состоит в отцовском желании счастья сыну.
Со времени отправки моего прежнего письма к тебе прошло, кажется мне, довольно много времени. Потому, держась моего правила, пишу лишь несколько строк, чтобы без задержек шло к тебе, моя милая, мое обыкновенное известие о себе, что я живу хорошо и что я совершенно здоров.
Будь здоровенькая и старайся быть веселенькая, и все будет прекрасно.
Целую детей.
Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая радость Лялечка. Твой Н. Ч.
559
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
30 сентября 1875. Вилюйск.
Милый мой дружочек Оленька,
Пользуюсь новым случаем отправки почты, чтобы сообщить тебе обыкновенные мои известия о себе; я совершенно здоров и живу очень хорошо.
Денег у меня много. Все, что мне нужно для комфортабельной жизни, я имею в изобилии, даже в излишке. Поэтому прошу тебя, мой друг, не присылать мне ни денег, ни белья, ничего совершенно. Передай эту мою просьбу и Саше. Он иногда делает напрасный убыток себе, посылая мне белье и тому подобные вещи, которых у меня и без того так много, что хоть открывать лавку и торговать ими. Не шутя, у меня очень большие запасы всяческого этого добра. Действительно, я живу в изобилии, даже с такой роскошью, которая далеко превышает мои надобности.
Я был бы совершенно счастлив, если бы был уверен, что ты, моя радость, пользуешься хорошим здоровьем. Заботься о нем, умоляю тебя.
Целую детей. Напишу им в другой раз, когда-нибудь. Я виноват перед ними, что редко пишу им. Прошу их простить мне это.
Крепко обнимаю тебя, моя милая радость, и тысячи и тысячи раз целую твои ручки. Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою, моя милая Лялечка, и все будет прекрасно.
Твой Н. Ч.
560
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
14 октября 1875, Вилюйск.
Милый мой дружочек Оленька,
Пользуюсь новым случаем отправления почты, чтобы сообщить тебе мои обыкновенные известия о себе.
Я совершенно здоров и живу очень хорошо. Денег у меня много; всяких служащих для комфорта вещей тоже. Поэтому
40 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
625
прошу тебя, моя милая голубочка, не присылать мне ничего и передать детям такую же просьбу мою к ним.
Каково-то устроится их жизнь? — Думаю немножко об этом. Но, вероятно, устроится хорошо.
Гораздо больше думаю о твоем здоровье, моя милая. В сущности, только мысли о нем и составляют содержание моих раздумий.
Прошу детей простить меня за то, что не пишу им. Напишу, когда будет случай, что почта пойдет лишь через немного дней после прежней. Зимою такие случаи бывают здесь. А пока ограничиваюсь этими несколькими строками, чтобы письмо шло к тебе быстрее.
Целую Сашу и Мишу.
Крепко обнимаю тебя, моя милая радость, и тысячи и тысячи раз целую твои ручки.
Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою, моя милая Лялечка, и все будет прекрасно.
Твой Н. Ч.
561
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 25 ноября 1875.
Милый мой друг Оленька,
Я получил твои письма от 24 июля и 9 августа; благодарю тебя за них, моя радость. Получил, разумеется, и приписки детей к ним. Благодарю Сашу и Мишу.
Я живу очень хорошо, в совершенном изобилии. Денег у меня много. Тоже и всяких вещей, какие нужны мне. Потому прошу тебя, моя голубочка, и детей, не присылайте мне ничего.
По своему обыкновению я совершенно здоров.
Промежуток времени с отправки прежней почты был довольно большой. Потому, держась своего правила на такие случаи, пишу лишь несколько строк, чтобы скорее шло к тебе мое уведомление, что мое здоровье превосходно.
Заботься о своем здоровье, моя милая голубочка. В письме от 9 августа ты говоришь, что думаешь на зиму ехать в Симферополь. Мне кажется, что это хорошая мысль. Климат в Симферополе все-таки гораздо менее суровый, чем в Петербурге или Саратове, и я надеюсь, что эта поездка подкрепит твои силы.
Целую Сашу и Мишу. Напишу им когда-нибудь в другой раз, когда почта будет отправляться через недолгий интервал после прежней. А теперь пока пусть простят меня.
Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою, моя милая радость, и все будет прекрасно.
Крепко обнимаю тебя, моя Лялечка, и тысячи и тысячи раз целую твои ручки.
Твой Н. Ч.
626
562
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 23 декабря 1875.
Милый мой дружочек Оленька,
Я получил твои письма и приписки детей к ним от 24 июля, 11 августа и 12 октября. Благодарю за них тебя, моя голубочка, и детей.
По поводу того, что письма твои ко мне получаются мною иногда за два или даже, как в этот раз, за три месяца почти одновременно, прошу тебя не думать, что какие-нибудь из них испытывают какое-нибудь лишнее промедление в дороге: нет, все они пересылаются ко мне со всею физически возможною скоростью. Разница в том, что иные остаются в дороге месяца два больше, чем другие, происходит лишь оттого, что почта из Якутска в Вилюйск отправляется один раз в два месяца. Поспело письмо в Якутск к ее отправке, то идет ко мне тотчас же; а пришло оно в Якутск скоро после отправки почты, то по физической необходимости, надобно ему ждать следующего отправления пять или шесть, иной раз и целых восемь недель.
И кстати, о почте. Я совершенно аккуратно получаю «Русский вестник», «Отечественные записки» и «Неделю», которые посылались мне в этом году: ни одного нумера не затерялось, ни один не был разбит или истерт в дороге; за это я отдаю полную справедливость почте; также и за то, что посылки эти довозит она до меня со всею физически возможною скоростью, подобно и твоим письмам.
Со времени отправки прошлого моего письма к тебе миновало уж около месяца, если не обманывает меня память. Поэтому пишу лишь несколько строк, чтобы без промедления шло к тебе, моя голубочка, мое, к счастью, неизменное уведомление о себе:
Я совершенно здоров и живу очень хорошо.
Денег у меня много. Прошу тебя, не присылай мне их. Тоже и о вещах: всего у меня очень много, и ни в чем я не нуждаюсь.
Твои письма порадовали меня тем, что твое здоровье хорошо. Заботься о нем, моя милая голубочка: в нем все мое счастье.
Прошу детей простить меня за то, что не пишу им. Целую их.
Поздравляю тебя с Новым годом. Пусть твое здоровье в его продолжении совершенно восстановится, и он будет прекрасным для меня, когда будет таков для твоего здоровья.
Крепко обнимаю тебя, моя милая Лялечка, и тысячи и тысячи раз целую твои ручки.
Твой Н. Ч.
40*
627
563
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
12 февраля 1876. Вилюйск.
Милый мой дружочек Оленька,
Я получил твои письма от 24 июля, 11 и 24 августа и 12 октября и приписки детей к ним. Благодарю тебя, моя радость. Благодарю Сашу и Мишу.
Меня очень радует то, что твое здоровье поправляется. Заботься о нем, моя милая голубочка. Когда ты здорова, то я совершенно счастлив.
Сам я по обыкновению здоров, как нельзя и желать лучше, и живу очень хорошо.
С отправления прошлой почты прошло довольно много времени, — кажется, около двух месяцев. Поэтому, желая, чтоб это письмо шло к тебе скоро, пишу лишь несколько строк.
Целую твои ручки, моя милая радость.
Целую детей.
Заботься о своем здоровье, и все будет прекрасно.
Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая Оленька.
Твой Н. Ч.
564
А. Н. ПЫПИНУ
13 марта 1876. Вилюйск.
Милый брат и друг Сашенька,
Длинно ли будет это мое письмо к тебе, зависит от того, сколько успею написать к минуте отъезда губернатора отсюда. Буду писать вплоть до его отъезда.
В начале прошлого года, воспользовавшись приездом сюда прежнего губернатора де-Витте, я отправил письмо к Ольге Сократовне, не похожее на мои обыкновенные совершенно пустые письма к ней.
Я говорил ей: «Начинаю писать для печати. Все деньги за то — для тебя. У меня денег довольно. Мне не присылай ни одной копейки. — Третьему отделению собст. е. вел. канцелярии — (там, в письме не было этого прямого выражения; было: «кому-нибудь» или «правительству», или «цензуре», или что-нибудь подобное; но смысл был, конечно, ясен: Третьему отд. с. е. в. к-ии) может показаться нужным, чтоб я для возможности печатания моих произведений соблюдал какие-нибудь условия образа жизни, возложить которые на меня внешними принудительными мерами III отделение не находит удобным. Пусть же будет сообщено мне частным образом, как я должен жить. Я вперед обязываюсь добровольно и с радостью соблюдать все, что нужно для
628
возможности добывать печатаньем моих произведений деньги для тебя, мой друг».
Слова были не эти самые, конечно; нельзя же помнить год буквальный текст письма. Но смысл был этот, совершенно ясный.
Из ответов Ольги Сократовны я вижу, что это мое письмо было передано ей безо всякого промедления.
Итак, III-ье отделение согласно со мной, что я могу печатать? Следует полагать. Иначе не для чего было бы отдавать мое письмо на почту для доставки Ольге Сократовне.
Де-Витте был здесь тогда (прошлый год) около 20 января. Когда я отдавал ему письмо, у меня не было ни строки готовой для печати. Я сказал де-Витте: «буду присылать вам по мере того, как буду писать для печати».
И около 10 или 12 февраля я переслал де-Витте (в запечатанном конверте, объявив исправнику, что это секрет, до него не касающийся) «письмо по денежному делу» на имя Стасюлевича. Де-Витте отвечал исправнику, что он (исправник) не нарушил своей обязанности, взяв от меня то секретное письмо и что он (де-Витте) распорядился с письмом сообразно со своею служебною обязанностью.
Итак, я должен был полагать, что увижу в печати (в «Вестнике Европы») то, что послал Стасюлевичу.
(Он, ясное дело, не получил этого моего письма.)
В марте я получил письмо от тебя по поводу моих семейных отношений к тебе. — Я отвечал тебе двумя письмами (помнится, в марте и апреле). Ты получил их, как видно из твоего ответа. В них было очень ясно говорено: я начал писать для печати; первую посылку адресовал Стасюлевичу, потому что не желал, чтобы ты переписывался со мною; а теперь, когда ты начал переписку, то уж все равно: буду отправлять к тебе, что буду писать для печати.
Эти письма отданы тебе. — Ясно, что III-е отделение не хочет мешать мне печатать мои произведения. Иначе не переслало б оно к тебе уведомления о моем намерении.
Но я знал, что у нас во всех ведомствах дела ведутся по канцелярской рутине, и полагал, что надобно обратить внимание людей, стоящих выше канцелярской рутины, на мое дело о печатании. Как сделать, чтобы оно не укрылось от внимания шефа жандармов или его помощника и не осталось бесконечное время лежать под канцелярским зеленым сукном? Я рассудил: единственное средство — послать третье письмо к тебе, наполненное суровыми выражениями, оскорбительными для де-Витте (ни в чем не повинного передо мною ни по этому, ни по какому другому делу) и для шефа жандармов (я полагаю, тоже не повинного ни в чем передо мною). Мой расчет был: пусть это письмо произведет канцелярскую бурю, которая не могла бы разрешиться грозою без содействия шефа жандармов, — грозою против меня, ко-
629
нечно: я буду подвергнут каким-нибудь стеснительным мерам, но зато шеф жандармов вникнет в сущность дела и велит двинуть мои произведения в типографию Стасюлевича. И было вложено несколько листов для печати; они были пустые (начало сказки) и посылались лишь для того, чтобы было на чем сделать резолюцию: «то, что будет присылать Черн., должно быть отсылаемо по адресу». Это было в начале мая.
Нет-таки, и это все погрязло в канцелярской рутине: мне за то не было никаких неприятностей, а то, что я послал Стасюлевичу и тебе, осталось-таки лежать под зеленым сукном.
Я не ожидал, что так будет. Но я не считал невозможным, что так будет. Писать для печати я перестал по отправке того (третьего к тебе) майского, обидного де-Витте и шефу жандармов, письма. Но, чтобы не пропадало без пользы моему делу время, я сделал вот что:
Я давал (в январе, — прошлого года — в письме к Ольге Сократовне) обещание, что для возможности печатания моих произведений, буду добровольно исполнять все, что покажется нужным для того. Что может быть нужно? Чтоб я не выходил из моей комнаты, — так я думал; и чтоб я не виделся ни с кем, — так я думаю.
Около половины прошлогоднего (1875) лета я засел в моей комнате; не абсолютно безвыходно, но почти безвыходно. Я выходил раз в месяц на полчаса отдать деньги двум старухам за обед и за молоко. Только. И понемногу довел дело до того, что перестал принимать в свою комнату кого бы то ни было, кроме якута, подающего мне самовар и обед и не умеющего говорить по-русски (а я по-якутски не знаю ни одного слова). Приезжал сюда зимой архиерей, хотел видеть меня, — я и ему отвечал, что не могу его видеть.
Почему ж не хочу и не могу я ни выходить из комнаты, ни видеть кого-нибудь у себя? — Я употреблял разные отговорки, понятные для здешних простых, добрых, но совершенно бестолковых людей: «я сердит на вас»; — за что? — скажу добряку, за что: какая-нибудь небывальщина. И бессмыслица, подходящая к степени его умственного и общественного развития. Например, исправнику я объявил, что он слишком много шпионит за мною. Бедняга исполнял, разумеется, свои служебные обязанности относительно меня. Но шпионить, не шпионил нисколько, потому что в этом нет надобности; это известно и III-ему отделению; за мною нечего надзирать, знает оно: я держу себя с осторожностью, делающею напрасным всякое подсматриванье. — Итак, неповинного ни в чем передо мною добряка исправника я объявил ненавистным для меня шпионом. Только этим и отбился, наконец, от его (обыкновенных, добродушных и честных) объятий. Подобными средствами отбился и от всех других живущих здесь.
И более чем полгода добровольно просидел в одиночном за-
630
ключении. более строгом, чем правила, какие соблюдались при мне в Алексеевском равелине.
Это — для доказательства, что я серьезно говорил и повторяю: все, что нужно для печатания моих произведений, я готов исполнять и имею силу исполнить.
В начале марта я рассудил: проба длилась довольно времени. Стал попрежнему выходить и гулять и в гости, стал принимать к себе добрых здешних людей.
Губернатор уезжает. Пора отдавать письмо.
Прилагаю поэму
«Гимн Деве Неба»
и маленькую пьесу «Из Видвесты».
Подробности о них в письме (прошлогоднем) к Стасюлевичу и в (майском) письме моем к тебе.
Целую тебя. Твой Н. Чернышевский.
565
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 15 марта 1876.
Милый мой друг Оленька.
Праздную ныне день твоего рождения. Надеюсь, что ты здоровенькая и веселенькая.
Обо мне не грусти: я счастлив мыслью, что ты, моя милая радость, пользуешься теперь здоровьем, довольно хорошим.
Я получил твои письма от 6, 15 и 24 декабря с приписками детей и письмо Саши и Миши от 30 декабря, — письмо, при котором Саша послал мне деньги. Благодарю тебя и детей за письма и Сашу за деньги. Надобности в них я не имел. Но, разумеется, присланы они, то присланы; благодарю.
А надобности в них действительно я не имел. У меня оставалось еще очень много денег из прежнего моего запаса. А живу я роскошно. Не сомневайся в том, моя милая. Будь я поэкономнее, я мог бы расходовать лишь половину денег, которые трачу, и все-таки жил бы в изобилии. Но по моей беззаботности о деньгах делаю множество лишних расходов; и действительно: живу роскошно. Напрасно ты сомневаешься в том, моя голубочка. Прошу тебя, не сомневайся.
Здоровье мое превосходно.
Целую детей.
Тысячи и тысячи раз обнимаю тебя, моя радость, и целую твои руки. Будь же здоровенькая и веселенькая.
Твой Н. Ч.
631
566
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
17 марта 1876. Вилюйск.
Милый мой друг Оленька,
Два дня тому назад я послал тебе письмо обыкновенной моей коротенькой формы: поздравлял тебя с днем твоего рождения, сообщал, что я здоров и живу хорошо, и только. А вот опять есть случай отправить письмо, и я напишу — все то же, но поподробнее; напишу что-нибудь и детям; так что, думаю, наберется много листов. Но если чтение такой массы написанного и займет по дороге несколько дней лишних, то это не будет важным для тебя промедлением: известия о моем здоровье уж дошли до тебя в прежнем коротеньком письме.
Ты сомневаешься, мой друг, в том, действительно ли я живу здесь хорошо. Напрасно сомневаешься. Чтобы могла судить ты сама, расскажу тебе о моем образе жизни пообстоятельнее. Я делал это и прежде. Как именно описывал я тебе мою обстановку, я не могу помнить, разумеется. Но, сличивши мои прежние письма с этим, увидишь, я уверен, что разноречий между этим и теми нет. Значит, ни в тех не было прикрас, ни в этом нет, убедишься ты, я надеюсь. Прикрасы бывают разноречивы. А если несколько рассказов согласны между собою, то, значит, они не прикрашены.
Дом, в котором я живу, — большой, чистый, теплый, хороший. В нынешнюю зиму при всей силе здешних морозов на окнах у меня ни разу не было льдяных узоров; стало быть, дом действительно тепл и хорош. — Мёбель у меня простой работы, правда; но это от моей собственной беззаботности о подобных, не интересующих меня вещах. Я мог бы выписать более изящную мёбель из Якутска: летом товары возят по реке, стало быть, мёбель доехала бы цела, и обошлось бы это дешево. Но для меня изящество мёбели — пустяки. Та, которая есть у меня, удобна и достаточно хороша для меня.
Мой день обыкновенно проходит так: встаю я очень поздно, часу в двенадцатом. Уж готов самовар. Часа в три обедаю; после обеда опять пью чай. Часов в девять опять пью чай. В час или позднее ужинаю и опять пью чай. Кушанья у меня — не французской кухни, правда; но ты помнишь, я терпеть не могу никаких блюд, кроме как простого русского приготовления; ты сама была принуждена иметь заботу, чтобы повар готовил для меня какое-нибудь русское кушанье, и кроме этого блюда я не ел за столом почти никогда, почти ничего. Ты помнишь, когда я бывал на пирах с гастрономическими блюдами, я оставался за столом вовсе не евши ничего. А теперь мое отвращение к изящным блюдам
632
дошло до того, что я положительно не могу выносить ни корицы, ни гвоздики. Случается изредка, что старушка, готовящая мне обед, забывши мой вкус, вздумает приготовить мне что-нибудь модное (она умеет хорошо готовить), — я взгляну и отдаю модное блюдо слуге, а старушку прошу не готовить его вперед.
Первое лето здесь я с месяц терпел, как все здесь, недостаток в свежем мясе. Но и тогда была у меня рыба. А научившись опытом, в следующее лето я сам позаботился о мясе, и оно с той поры в каждое лето есть у меня свежее. — Тоже и об овощах: теперь я не имею недостатка и в них. Здесь изобилие дикой птицы, разумеется. Рыба — летом, как случится: иногда по нескольку дней нет ее; но вообще и летом ее у меня — сколько угодно мне; а зимою она всегда есть хорошая: стерлядь и другие роды рыбы такого же хорошего вкуса, как стерлядь.
По приезде сюда я не скоро умел найти, кто из здешних хозяек умела бы готовить кушанье хорошо. Здесь есть привычка лить во всякое кушанье масло, чего я терпеть не могу. Из-за этого я вел несколько времени безуспешную борьбу с первой из почтенных женщин, взявшеюся готовить мне обед. Но оказалось, что есть здесь несколько семейств, в которых хозяйки и умеют готовить кушанье по-русски и непрочь готовить для меня. После того мои затруднения относительно стола прекратились. Я ем не хуже, чем ел в Петербурге.
Я люблю молоко. Да оно и хорошо действует на меня. Молока здесь мало: коров много; но кормят их плохо, и здешняя корова дает молока чуть ли не меньше, чем коза в России. А главное: держать скот в городе, при всей скупости на корм для него, все-таки стоит расходов; и здешние зажиточные люди предпочитают держать свой скот на «заимках» — хуторах в нескольких верстах от города. А в городе у них так мало коров, что им самим недостает молока. Потому после своего приезда сюда, месяца четыре или больше, я жил без молока: нет ни у кого на продажу; у всех для самих себя недостает. (Я говорю о свежем молоке. В Сибири морозят молоко. Но оно не имеет уж вкуса. Мороженного молока здесь — сколько угодно. Но я не могу пить его.) Пришла весна, стало дешевле зимнего держать скот в городе, и нашлось, наконец, молоко на продажу для меня. А когда здешние простые люди убедились, что я в денежных расчетах не такой кляузник, какими привыкли они быть сами между собой, то, разумеется, и молоко для меня есть, сколько мне угодно. Я пью его фунтов по пяти в день.
Я все пишу о простых людях, за услуги которых расплачиваюсь деньгами. Само собою, когда у меня денег много, то что мне за охота принимать одолжения от моих здешних добрых знакомых? А денег у меня много. Но кроме простых людей, здесь живут несколько чиновников, два священника. Все они люди хорошие. Все они мои добрые знакомые. Когда случился бы у
633
меня недостаток в чем-нибудь, чего нет в здешних лавках и что не выписал я заблаговременно из Якутска, — никто из моих этих добрых знакомых не отказался бы поделиться со мною своим запасом — например, чая или табаку до нового привоза из Якутска. Раз или два это случалось с табаком. И вперед было бы тоже, если бы случилась надобность мне в чем. Сообрази сама, друг мой: это несколько семейств; правда, все они — люди небогатые; но живут они — не в бедности же, не без комфорта же: жалованье у них порядочное; привычки их — обыкновенные привычки русских провинциалов среднего сословия; у них есть все, что нужно для удобств жизни.
Стало быть, возможное ли дело, чтоб я имел недостаток в чем-нибудь нужном для жизни, когда денег у меня много и когда я в хороших отношениях со всеми здешними жителями? Сама ты согласишься, мой милый друг: напрасно тебе сомневаться в справедливости моих уверений тебе, что я живу здесь хорошо.
Но довольно обо мне.
Единственная, по временам беспокоящая меня мысль — о твоем здоровье. Но это в каждом моем письме. И нечего говорить еще и здесь о том же. Все мои мысли — мысли все о тебе. Разумеется, я люблю детей. Но даже и это мое чувство — далеко, далеко не имеет такой силы, чтобы можно было назвать его подобным чувству моему к тебе. О детях я думаю часто, разумеется, и много. Но без мысли о тебе нет у меня ни одной минуты. Надобно, однако, удержаться от рассуждений о моем чувстве к тебе, потому что ты смеешься над моими мнениями о тебе. Поговорим же о детях.
Саша кончает или кончил курс. Что будет он делать теперь? Найдет ли себе кусок хлеба? Пригодится ли ему для этого его математика? От нее единственный возможный доход — должность преподавателя. Найдется ли она для него? Я написал ему письмо, в котором забавляю его насмешками над моим невежеством в математике; это потому, что он вздумал — учить своей милой математике меня, никак не бывши в состоянии уразуметь, что эта приятная наука ровно настолько же знакома и интересна его отцу, насколько и его матери. Или он и тебя учит математике? Смешной юноша. Но пристрастие его к науке — вещь хорошая. Только будет ли эта наука кормить его? — Дело, несколько сомнительное для меня. Или он думает быть инженером (например, по постройке железных дорог), а не то механиком (например, при каком-нибудь заводе, делающем локомотивы), а не то пристроиться к Пулковской обсерватории? — Эти карьеры все дают кусок хлеба. А быть преподавателем — занятие скучное и, е сущности, пустое. Например, и должность университетского профессора — пустое толчение воды. Ты вообрази себе, в самом деле: из году в год твердить все одно и то же, как попугай; и для кого это в самом деле нужно слушать это попугайство? — Все, что преподает
634
профессор, изложено гораздо полнее и лучше в книгах. Но я высказываю это лишь на тот очень вероятный случай, если не будет находиться для Саши преподавательская должность; если будет так, пусть не огорчается и не медлит выбирать себе какую-нибудь другую карьеру из названных ли мною, родственных с математикою, или хоть бы и вовсе посторонних ей. Будет хлеб, то будет и досуг. А будет досуг, то может любитель математики употреблять его и на математику, если не надоела она ему. Для учености доводов можешь напомнить ему, что ни Архимед, ни Декарт не были преподавателями математики по профессии: Архимед был, говоря по-нашему, принц; Декарт — военный, великосветский человек. Это шутка, на случай надобности утешить Сашу, если не представится ему университетская кафедра. Но и серьезно это правда.
Миша скоро кончит курс в гимназии. Что будет дальше делать он? Конечно, поступит в университет? Это, вообще говоря, самое лучшее. А впрочем — и без университета обойтись очень невеликая беда. Не стесняй его в этом вопросе: как ему вздумается, так пусть и будет по-нашему с тобою лучше всего и умнее всего. Правда, он еще вовсе ребенок. Но все-таки не маленький и не глупый ребенок. — Написал я и ему длинное письмо.
Я пишу о Саше и Мише «кончают» или «кончили» курс — один в университете, другой в гимназии. Но случалось нашим с тобой деткам иной раз и оплошать на экзаменах. Эти неудачи тяжелы для самолюбия мальчиков или юношей. Но в сущности экзамены — пустая формалистика; успех на экзамене ровно ничего не доказывает в пользу успевшего на этом вовсе не деловом, не рациональном испытании; неуспех ровно ничего не свидетельствует в невыгодную сторону об уме или знаниях или дельности потерпевшего неудачу. Это я говорю на случай — очень возможный, что Саша или Миша может иметь надобность в ободрении, утешении после какого-нибудь неудачного экзамена. Но говорю это я не в виде утешения только: таково действительно мое искреннее мнение.
Но с удачами ли только, или с примесью неудач, наши с тобою дети успеют же, наконец, выдержать все, какие нужны им, экзамены, и после того будут же как-нибудь прокармливать себя. Потому вопросами, относящимися до Саши и Миши, я нимало не тревожусь. Одна у меня беспокоящая меня мысль — твое здоровье, моя милая голубочка. Заботься о нем, заботься, — и я буду счастлив, моя радость.
Будь веселенькая, и все будет прекрасно.
Тысячи раз целую твои руки и крепко обнимаю тебя, моя милая Ляленька.
Твой Н. Ч.
635
567
А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
Вилюйск. 17 марта 1876.
Милый друг Саша,
Прежде всего прошу тебя извинить мою неаккуратность в переписке с тобой. Исправлюсь ли? — Не обещаю. Но вот собрался писать тебе.
Искренно сожалею, что по моему незнакомству с математикой не могу быть полезен для твоих занятий по избранной тобой специальности. А для смеха тебе, пожалуй, изложу результаты некоторых из моих математических подвигов. Для усугубления же твоего хохота изображу и удивительные методы, при помощи которых совершал эти подвиги.
Года два тому назад вспомнилось мне как-то, что где-то я читал новейший ученый финал солнечной системе: падают планеты на солнце, оно стынет, перестает вертеться, настанет вечный холод, мрак и вечная неподвижность. И показалось мне, будто бы мне помнится, что изобретению этого финала содействовал даже — о стыд! — Гельмгольц, заслуги которого в науке я ценю, конечно, очень высоко. — Давай-ко, я думаю, попробую, сумею ли сосчитать, какое количество теплоты развивается при данных массах и расстояниях небесных тел, когда они падают друг на друга. — Притяжение, то есть ускорение, растет по квадратам уменьшения расстояний. Буду считать, для первой пробы, как будет ускоряться движение земли при постепенном приближении ее к солнцу. Формулу не могу найти. То буду считать по десятитысячным долям большой полуоси земной орбиты. И буду считать до двадцатого знака десятичной дроби. Без логаритмов, как тебе понравится извлечение квадратных корней и возведение в квадрат до двадцатого знака? (Не вздумай прислать мне таблицы логаритмов; на что мне их?) Меня скоро это утомило. — «Достаточно будет и 15-ти знаков». — И они замучили. — «Ну, хоть 10 знаков; итого будет довольно». — С 10 знаками — сладил. И к величайшему моему изумлению, стало выходить что-то очень похожее на третий закон Кеплера. Считаю дальше; да, это она, формула третьего закона Кеплера. Так ли? — Беру другие данные — и выходит: все то же самое, третий закон Кеплера. — И успокоился я за судьбу вселенной: уж и тела, принадлежащие к системе, от взаимного притяжения к которой зависит орбита нашего солнца (тела системы Плеяд, что ли? Или это определено теперь уже точнее, чем по трудам Медлера, что ли? — или Аргеландера?) (Эти и все подобные вопросы могут без огорчения мне оставаться неразрешенными; пощади, не просвещай меня) составляют массу материи, от совпадения которой должна развиться теплота в множество миллионов градусов Цельсия, и периодичность сжимания и расширения, и круговорот химических сочета-
636
ний и разложений обеспечивается для этой массы материи уж ею самою даже, не говоря о притяжении ее другими системами масс. Это я пишу о своих вычислениях для смеха тебе. А серьезно подумай вот о чем: ясно, что до этой моей забавы цифрами, я не понимал даже законов Кеплера. А ты, мой милый, надеялся, что я стану учиться математике. Не по моей части она, хоть я и уважаю ее.
Эта забава взяла у меня две, три недели времени. Но вот другая, более ранняя, которой я потешался несколько месяцев. Это было, когда я жил за Байкалом. Там у меня были таблицы логаритмов.
«Жарко под экватором!» — пустяки это, думал я издавна; под тропиками должно быть более жаркое лето, чем сезон величайших экваториальных жаров. Как же могло бы быть иначе? На тропике солнце тоже достигает зенита, а день в это время длиннее экваториального. И вздумал я однажды: давай-ко попробую считать. Трудно пришлось мне считать. День на экваторе — половина круга. А что такое день, когда путь солнца над горизонтом не вертикален, то есть подо всякою другою широтою, кроме линии экватора? — Долго я бился над этим; понял наконец; круг, рассматриваемый наискось, это эллипс. Как же вычислять площади зон эллипса? Открыл, наконец, как: надобно умножать площадь зоны круга на синус угла наклонности этого круга, то и будет площадь соответствующей зоны эллипса. — И пошли у меня вычисления; вот какие, например.
Сумма теплоты равна сумме синусов высоты солнца над горизонтом. Я делю год на 400 частей. Это будут выходить вычисления для планеты, которая, вращаясь по земной орбите, вращалась бы около своей оси не 365 с дробью раз, а ровно 400 раз в свой год. Суммирую синусы высоты солнца для дней* этой планеты, разделяя сутки ее на 4 000 частей, — то есть суммирую — зоны синусоиды, что ли? Или у этой кривой другое имя? Но, вероятно, я не ошибаюсь: это называется синусоида?

Синусоида ли это или у нее иное имя, все равно: я высчитал ее площадь по сети в 4 000 ординат и 4 000 тысячи абсцисс для полного ее периода, вышло нечто изумительное для меня: площадь целого периода этой кривой (на моем чертеже отмечен этот период) равняется как раз половине четырехугольника, составляемого крайними абсциссами и ординатами — это, я уж смеюсь над собою; это я прямо видел бы из самой формы чертежа. Но
чертежа я не делал, и, не догадавшись, в чем дело, удивился я тому, что площадь цельного периода по моему счету вышла — цельное число, а не дробь, когда счет был веден по долям не радиуса, а диаметра, то есть от нижней точки периода кривой, а за единицу был принят радиус, помноженный на половину окружности. Я полагаю, ты уж и перестал понимать возможность такого невежества в математике. Сокращаю рассказ. Результаты работы были: вычисления хода нормальной температуры для параллелей через 5°, от экватора до полюса, при делении года на 400 периодов. Я начертил полученные кривые. Вышло нечто в таком роде (черчу половину года, от зимнего солнцестояния до летнего) до 35° или 40° количество теплоты, получаемой параллелью

около времени летнего солнцестояния, все растет с широтою; около 40° или 45° есть небольшое уклонение вниз; дальше, до самого полюса, опять количество теплоты в день летнего солнцестояния все растет по мере приближения к полюсу.
Это меня, действительно, удивило тогда: я полагал, растет разве до 30° широты, — нет, до самого полюса.
Это — количество теплоты, идущей от солнца до верхнего слоя атмосферы. Атмосфера поглощает часть света и теплоты и т. д., и т. д., — вещи, бывшие тогда хорошо памятными мне. И принялся я вычислять по каким-то данным или простеньким формулам, как нагревается, как охлаждается верхний слой твердой коры, — над этим я уж окончательно расхохотался сам своему труду и бросил его. Но забавлялся я этим несколько месяцев.
Смех смехом; но ты видишь, в чем серьезная сторона дела: я не должен учиться математике потому, что я расположен был бы заинтересоваться ею в такой степени, что отнял бы у себя слишком много времени; пожалуй, стал бы даже забывать другие отрасли знаний. А в мои лета уж поздно переменять предметы своих ученых занятий. — Извинишь ты теперь мой отказ заниматься математикой?
Но тебя я хвалю за то, что ты выбрал предметом своих занятий математику. Теперь, когда ты или кончил, или скоро кончишь курс, и надобно тебе вести свои занятия уж совсем самостоятельно, мне интересно узнать от тебя, в каком именно характере представляются тебе твои будущие труды. Думаешь ли ты быть
638
астрономом? Или будешь применять математику к разработке физики? Или тебя привлекает больше всего математика сама по себе, — «чистая математика»? — Мне кажется, что разработка даже и самой математики значительнейшие свои успехи получала от надобности применять ее формулы к решению конкретных вопросов. Например, изобретение «исчисления бесконечных» или, по-нынешнему, интегрального вычисления Ньютоном возникло из его надобностей в том для его трудов по астрономии; кажется, так? Или я ошибаюсь? — Правда, впрочем, что относительно того же открытия Лейбницем кажется мне, будто бы Лейбниц искал тут не разрешения каким-нибудь конкретным вопросам, а именно абстрактных формул. Но сказать и то: я несколько сомневаюсь, действительно ли Лейбниц сделал открытие дифференциального метода независимо от Ньютонова метода флюксий? — Я готов думать, что тут был отчасти плагиат со стороны Лейбница. — А пораньше того начало другому великому открытию, исчислению вероятностей, сделано Паскалем из желания решить чисто житейский вопрос, о шансах карточных игр. Но удачны ли эти и другие вспоминающиеся мне примеры, все равно: вообще, дело достоверное, что важнейшим мотивом к разработке чистой математики была разработка теории астрономии, или, выражаясь более отвлеченным образом, разработка теории механики в применении к вопросам о движении небесных тел. Впрочем, я понимаю, что чистая математика неизмеримо выше всех своих применений, даже и астрономических, по своей научной цене, и что поэтому она очень привлекательна. И само собою разумеется, каков бы ни был личный твой выбор, для такого невежды в математике, как я, он, в сущности — нечто неудоборазумеваемое, вроде разницы между разными наречиями китайского языка для незнающих по-китайски. — Так, правда; а все-таки я интересуюсь узнать, в каком именно роде будут, по твоему мнению, твои будущие ученые занятия.
Целую тебя, мой милый. Будь здоров.
Твой Н. Ч.
P. S. Деньги, посланные тобою, и посылку, отправленную тобой в одно время с ними, я получил. — То, что получил я в посылке, действительно нужно мне. Деньги не были нужны: у меня их много. Но благодарю тебя, мой милый, и за них. Жму твою руку.
Твой Н. Ч.
568
М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
Вилюйск. 17 марта 1876.
Милый мой дружок Миша,
Прости меня за то, что я редко писал тебе.
Ты говоришь: тебе понравилось, что однажды я вздумал высказать тебе несколько моих мыслей о твоей любимой науке, всеоб-
639
щей истории. — Изволь, продолжаю. Но прежде надобно сделать оговорку об одном из выражений того письма. — Я говорил там, между прочим, об истории Афин от начала Персидских войн до подавления Афин спартанцами, наемниками персов, в так называемую вторую половину Пелопоннесской войны.
Афины погибли потому, что не смогли воздержаться во-время от напрасного продолжения войн своих с персами. Это так. Без субсидий от персов спартанцы и во вторую половину Пелопонн. войны не одержали бы верха над афинянами, как не могли сладить с ними ни в первую половину Пелоп. войны, ни в одну из многих предшествовавших войн своих с ними. Но желая как можно короче и проще характеризовать причины союза персов со спартанцами, я выразился сжато и просто до чрезмерности, до неправильности: «Афины хотели оторвать от Персидского царства такие области, которые не имели желания отделяться от персов». Ты знаешь, это не так. Не желал разрушения Персидского царства только нынешний Фарсистан. Даже и Мидия была, конечно, непрочь отложиться от собственно Персидской земли (Фарсистана). Тем больше рада была бы отпасть Бактрия. Постоянные бунты сатрапов Бактрии и Согдианы свидетельствуют о том. А когда так относительно стран одной национальности с персами, то о Вавилонии, Малой Азии, Сирии, Египте и толковать нечего. Царство Кира и его преемников было несколько в том же вкусе, как царство Джингис-Хана, Тимура и более близкое сходство: царство Газневидов в Индии (хоть и тут разница все-таки велика: национальное зерно аггломерага в Персидском царстве Кира было сильнее, ненависть покоренных менее непримирима, чем в царстве Газневидов или Сельджуков). Но сущность дела, хотя в меньшей степени, все-таки: постройка, стремящаяся развалиться. — Но подданство персам, хоть и ненавистное, положим, для полуварварских племен прибрежной Тракии и Малой Азии, было все-таки менее ненавистно для них, чем господство афинян. Персы грабили ужаснее, чем афиняне, но не умели притеснять так непрерывно и надоедливо, как афиняне. Разница вроде того, как французы в Алжирии и турецкий паша в Триполи. — В Триполи, судя объективно, в тысячу раз хуже, чем в Алжирии. Но туземцы Алжирии чувствуют иначе и предпочли бы турецкого пашу французам. Этим объясняется погибель афинских десантов в Египте и незначительность успехов их других нападений на персидские области. Даже греческие малоазийские города, даже острова малоазийского прибрежья, даже острова Архипелага часто рады бывали поддаться персам, лишь бы избавиться от притеснения афинян. — Итак, я должен был в том письме выразиться: «Афиняне раздражили персов своею ненасытною алчностью (в форме военных дел), как тем же раздражили своих «союзников» (то есть подвластных греков). Персы, обеспеченные ожесточением своих подданных Малой Азии против Афинян, наняли спартанцев и задавили Афины».
640
![]() Ты
сам, я надеюсь, знаешь все это. И я полагаю, ты, читавши то мое письмо, сам сделал
в мыслях эту поправку тому моему неправильному выражению. — А к оговорке новая оговорка; к
поправке новая поправка. Я сейчас выразился: «Персы наняли спартанцев». — Ты наверное знаешь: это выражение
неправильное. Не персы искали союза со спарт., нет; обе воевавшие стороны, и
афиняне и спартанцы, постоянно ездили к перс. правителям Малой Азии добиваться
через этих своих патронов союза с перс. царем и выпрашивать денег из перс.
казны. — Подло
держали себя и афин. и спарт.; вроде того, как Берн и Люцерн и многие другие
кантоны в XVI и следующих столетиях перед французами и всякими другими соседами
и даже неаполитанцами, вовсе не соседами. — Все это ты сам знаешь.
Ты
сам, я надеюсь, знаешь все это. И я полагаю, ты, читавши то мое письмо, сам сделал
в мыслях эту поправку тому моему неправильному выражению. — А к оговорке новая оговорка; к
поправке новая поправка. Я сейчас выразился: «Персы наняли спартанцев». — Ты наверное знаешь: это выражение
неправильное. Не персы искали союза со спарт., нет; обе воевавшие стороны, и
афиняне и спартанцы, постоянно ездили к перс. правителям Малой Азии добиваться
через этих своих патронов союза с перс. царем и выпрашивать денег из перс.
казны. — Подло
держали себя и афин. и спарт.; вроде того, как Берн и Люцерн и многие другие
кантоны в XVI и следующих столетиях перед французами и всякими другими соседами
и даже неаполитанцами, вовсе не соседами. — Все это ты сам знаешь.
И обе оговорки сами по себе — мелочь. Но в чем их смысл, к которому я веду речь? — Помнишь (чтобы похвалиться перед тобою: еще помню немножко латинь) Noli jurare in verba magis- tri*. — Я твой отец. Твое натуральное чувство ко мне: уважение. Чувство хорошее. Но собственный рассудок — единственная коренная основа научного труда. — И перейдем к сущности дела.
Ты любишь историю. Русская научная литература по всеобщей истории очень бедна. Надобно тебе привыкнуть читать английские, немецкие и французские книги так же легко, как русские. И нужны равно все эти три языка. Даже немец, если имеет привычку изучать историю (не говорю уж: «исключительно», а хоть только) преимущественно по книгам на своем языке, не будет гроша стоить как историк. Дело в том, что почти всякая историческая книга насквозь пропитана субъективным элементом национальности автора. Поэтому постоянно надобно освежать объективную силу разума в себе чтением книг о том же предмете, писанных по другим субъективным чувствам. То есть: audiatur et altera pars*.
О субъективной окраске средневековой и новой истории нечего и толковать: у французов во всем правы французы, гнусны — от давнейшего до недавнего времени по преимуществу англичане, а с войны 1870 года — немцы. Я не читал новых франц. книг, например, хоть о крестовых походах; но теперь, вероятно, и во взятии Иерусалима неверными виноваты по-французскому немцы. Это я уж смеюсь. До таких глупостей, вероятно, не унижаются франц. историки. Но в подобном вкусе, хоть не в таком карикатурном размере, пишутся почти всеми учеными всех наций ученые трактаты по всем отраслям знания, допускающим вмешательство субъективной симпатии и антипатии. И переносится это даже в древнюю историю. Например: Людовик XIV — это Август (хоть он нимало не был Августом). Из того следует: все панегирики
Людовику XIV были переносимы, ты знаешь, на Августа. А недавно рассудили иначе: Наполеон III — это преемник цезарей. И вся желчь против Наполеона III-го изливалась и на всех цезарей от Юлия Цезаря до Тита, который даже вовсе и не цезарь (при нем уж не было прежних стремлений восстановить республику. До Веспасиана Римом правят узурпаторы. С Веспасиана идут уж цари в значении, подобном вавилонскому, ассирийскому, персидскому. Борются между собою, если идет борьба, разные лица за обладание саном; из-за формы правления борьбы уж нет. Даже это забыли французы в своей запальчивости против Веспасиана и Тита, по ненависти к Наполеону III-му). Это для примера французских ученых подвигов на поприще древней — да, даже древней! — истории. А немцы едва ли не перещеголяли их и по этой части: достаточно припомнить книгу Штрауса о Юлиане Отступнике. Ты знаешь, в этой книге Штраус (великий ученый и довольно серьезный мыслитель, не чета пустомеле Ренану, пишущему романы, а не исторические книги) — Штраус, я говорю, великий ученый и довольно серьезный мыслитель вообразил, что Юлиан похож на романтиков, наших современников, и написал ученейшую книгу с этой точки зрения! — Что за дребедень из этого вышла, уму непостижимо. Но все ученые восхитились: «прекрасная книга».
Чтобы помочь тебе помнить: Noli jurare in verba — хоть бы и отцовские, сделаю опять оговорку. Я выразился о книге Штрауса «дребедень». Выражение неудачное до несправедливости. Штраус дребедени не писал. Его книги могут иметь очень слабые стороны. Но все они — книги серьезные, очень дельные и совершенно честные. Что ж будет справедливо сказать относительно книги его об императоре Юлиане? Юлиан желал воскресить умершую старину. Того же хотели романтики. В этом сходство. Но сходство лишь наружное, формальное. Старина, которую желал восстановить Юлиан, была, даже и в этом искаженном виде, в каком она представлялась его омраченному галлюцинациями чувству, все-таки лучше нового, против которого боролся он. А романтики любили в старине по преимуществу глупые, пошлые, вредные стороны совсем иной старины, которая и вообще, а не дурными только своими сторонами была хуже нового, ненавистного им. Итак, при формальном сходстве факты существенно различны. Это упустил из виду Штраус. И тема его книги о Юлиане — ошибочна. — Это все лишь для примера. Будем говорить опять о главном предмете речи.
Немцу, чтобы не стать чрезмерно односторонним, надобно очень много вдумываться в мысли французских и английских историков. То же, mutatis mutandis*, и о французе, и о немце. Русскому необходимы все три те чужие литературы. Положение русского ученого труднее: вместо двух только ему нужны три чужих языка. Но трудно ли это, или нет, все равно: это необходимость.
Да, мой милый друг: советую тебе привыкать читать по-французски, по-английски, по-немецки. В этом едва ли не самая важная сторона ученой подготовки себя к занятиям всеобщей историею. — Теперь прибавлю, сколько успею написать, относительно понятий об истории, кажущихся мне справедливыми.
Ты видел из моих слов о Юлиане, что не все старое кажется мне хуже нового. Люди прогрессивного образа мыслей очень часто ошибаются, по моему мнению, увлекаясь основною своею темою: «старина хуже нового». Приведу два примера. У меня здесь был русский перевод книги Беджгота (Bagehot). Эта книжонка произвела на меня такое омерзительное впечатление, что я наделал из нее лодочек и корабликов и пустил их плыть по реке, протекающей под моими окнами. Серьезно, мой милый, пошалил я так над этим скотом Беджготом. — Через несколько времени получил я (немецкий — подлинник) «Историю культуры» Гелльвальда (Hellwald). У него то же самое, что у Беджгота: «всякая перемена — новая ступень прогресса». Омерзительно, но уж не ново после Беджгота. Потому я уж и не изорвал эту гадкую книгу. — В чем и откуда гадость у Беджгота и Гелльвальда? — У Беджгота из Дарвина. О Дарвине я писал года два тому назад твоему брату. Саша в ответ спросил меня: неужели я противник дарвинизма? Я рассудил, что это сомнение у него мимолетное, что он и без меня разберет в чем вздор, в чем правда у Дарвина. Дело в том, что я старик. Я сформировал свой образ мыслей о ботанической и зоологической истории по книгам XVIII века и главным образом по Ламарку. Дарвинизм для меня — не новость своими справедливыми сторонами. Но Дарвин, учившись по Кювье, не знал Ламарка (человек скромный, он сам сознается в том), и толчок к обдумыванию начавшей мелькать перед его умом истины он получил, по несчастному для науки случаю, от Мальтуса. А Мальтус — это софист, говоривший очень много очень умных вещей, но с целью очень дурною: он был противник прогресса. Гадость мальтусианизма и перешла в учение Дарвина: «Последствия дурных вещей хороши», — из зла рождается добро; и, собственно говоря, поэтому: добро есть зло, зло есть добро. Бессмысленная, гадкая путаница слов. У Дарвина она остается довольно невинною глупостью, потому что забота о благе растений и животных не составляет особенно важного элемента нашей, человеческой, совести. Но когда глупость эта переносится на историю людей, то из глупости она становится зверством, бесчеловечием. — Какие-нибудь трилобиты или аммониты вытеснены из жизни новыми зоологическими формами. Это дело нас не касается. Но негры в Африке свирепствуют друг над другом; это хорошо или нет? — По Мальтусу и Дарвину, хорошо. Значит, если мы, белые, пере-
41*
643
режем всех негров, то будет еще лучше? — Да. — Оно, быть может, и было бы точно «да», «хорошо», если б не одно обстоятельство: пока мы, белые, успеем перерезать негров, мы благодаря такому прекрасному нашему занятию сделаемся такими же варварами, скотами, подлецами, как негры. — Итак, пусть лучше остаемся мы на одном куске Африки и возделываем его, чем возделывать всю Африку, если нельзя нам расселиться по всему пространству ее без истребления негров. Правда, мы остаемся менее богаты и многочисленны, чем было б, если бы занимали мы всю Африку при сохранении нами наших нынешних качеств. Но наших нынешних качеств мы не можем сохранить иначе, как воздерживаясь от подлостей и злодейств. А потерявши эти качества, мы лишились бы того благосостояния, каким пользуемся теперь. Поэтому распространение нашей расы по Африке будет лишь настолько полезно для нашей расы, насколько оно будет итти способами честными и добрыми; а насколько оно будет совершаться дурными средствами, настолько будет оно понижать уровень нашей цивилизации и всех наших хороших качеств и, в результате, даже уровень нашего материального благосостояния.
Этого не знал Дарвин. И, пожалуй, не было его обязанностью исследовать эти истины, не относящиеся к кругу его специальных занятий. Но так как он был невежда по этим вопросам, он сбился с толку на Мальтусе, а за ним сбились с толку и историки вроде Беджгота; у Гелльвальда, кроме гадости из Мальтуса, преподанной Дарвином, есть мерзость из Шопенгауэра, или Гартмана уж? — не помню, кто из них был источником ума для Гелльвальда; оба они — равны по уму. Их мудрость: «все мимолетно; потому... все равно, умны ли будем или глупы, — и ум наш не вечен, и глупость не вечна, да и сама земля упадет со временем на солнце: то не все ли равно, как мы теперь живем на ней?» — то есть стихотворение Лермонтова «И скучно, и грустно» и т. д. — помнишь?
Что страсти? Ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка и т. д. —
размышления очень основательные для часов, когда трещала голова у бедного юноши после кутежа с беспутными товарищами. Но возводить подобные Katzenjammer’ныe ощущения в философскую систему — нелепость. Шопенгауэр совершил ее, а Гелльвальд применил эту мудрость, с похмелья сочиненную Лермонтовым, и по чрезмерно остроумному глубокомыслию, то есть по тупоумию, придуманную Шопенгауэром, — применил ее к обработке поля всеобщей истории. Результат — глупейшая мерзость.
Я говорю о новых глупостях. Но очень, очень много есть в исторических книгах и старых пошлых понятий. Столько их, что перечислять их — считать звезды млечного пути, песок на морском берегу. Но общая характеристика их всех, и старых и новых:
644
они противны правилам чести и чувствам добра. Добро и разумность — это два термина в сущности равнозначащие. Это одно и то же качество одних и тех же фактов, только рассматриваемое не разных точек зрения: что с теоретической точки зрения разумность, то с практической точки зрения — добро; и наоборот: что добро, то непременно и разумно. — Это основная истина всех отраслей знания, относящихся к человеческой жизни; потому это основная истина и всеобщей истории. Это коренной закон природы всех разумных существ. И если на какой-нибудь другой планете живут разумные существа, это непреложный закон и их жизни, все равно как непреложны наши земные законы механики или химии для движения тел и для сочетания элементов и на той планете. Критериум исторических фактов всех веков и народов — честь и совесть.
Извини, мой милый друг, если утомил тебя. — Когда соберусь с досугом, напишу еще что-нибудь. А пока желаю тебе доброго здоровья и целую тебя.
Твой Н. Ч.
569
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
3 апреля 1876. Вилюйск.
Милый мой друг Оленька,
Три недели тому назад написал я тебе довольно длинный ответ на твои совершенно напрасные сомнения в том, что я живу здесь удобно и хорошо. Пользуюсь тем, что вот почта опять отправляется через промежуток времени, сравнительно недолгий после прежнего случая отправки, прибавлю еще несколько подробностей для рассеяния твоих натуральных, но, к счастию, нисколько не соответствующих фактам беспокойных мыслей об обстановке моей жизни здесь.
Вилюйск — это городишко такой маленький, что в России не стоило бы называть его и порядочной деревнею; и большинство его немногих жителей — якуты, не говорящие по-русски, и русские, объякутившиеся до того, что или вовсе позабыли русский язык, или, меньшинство из них, говорят по-русски плохо, и то лишь с посторонними, а в своих семействах исключительно по-якутски. А якуты — неопрятные дикари; и объякутившиеся русские, конечно, таковы же. Если бы были здесь только они, коренные жители города, мне, брезгливому в пище, пришлось бы учиться стряпать самому. А при неловкости моих рук во всяком механическом занятии и, что еще важнее, при отвращении моем от вида сырого мяса и даже сырой рыбы, приходилось бы мне кормиться лишь хлебом и молоком. — Но все то, что я говорил о здешних жителях, относится лишь к коренному населению, к простолюдинам. Чиновники и священники здесь обыкновенные русские люди, ничем не хуже нас. От прежних чиновников и священников оста-
645
лись жить в городе дети, внучата. И они сохранились еще русскими со всеми нашими хорошими обычаями. Благодаря им, нет ни малейшего затруднения мне жить здесь со всеми обыкновенными русскими удобствами, из которых есть даже такие элегантные, каких, при простоте моих привычек, вовсе и не нужно мне. Например: здесь есть сардинки, здесь много разных консервов. Я сказал: «много», — нет, количество их не велико: богатых людей здесь нет; и кто имеет хорошие выписные из Якутска товары в своем домашнем запасе, расходует их экономно. Но недостатка в них никогда не бывает. И для одного человека, который со всеми в хороших отношениях, всегда найдется много всего, что позабыл бы он выписать из Якутска сам и что понадобилось бы ему. Например, однажды понравились мне за чаем в гостях какие-то крендели московского, оказалось по спросу о них, печенья. Можно иметь их? — «Извольте!» — «Сколько?» — Оказалось, что набирается фунтов 12 или 15, которые могут быть отданы мне. В каждом семействе их мало. Но у всех — с пуд, быть может. И половину готов отдать мне всякий. А пока я съем 12 фунтов печенья с моим чаем, — если бы явилась у меня прихоть есть с чаем только это печенье, то будет, разумеется, достаточно времени, чтобы успел быть выписан из Якутска новый запас того же в каком угодно количестве.
Совсем иной вопрос: съел ли [я] эти фунты печенья и выписал ли себе продолжение той же приятности? Разумеется, нет. Неужели я могу в самом деле интересоваться подобными пустяками? — Я спросил, мне отвечали; а пока отвечали, я уж и стал забывать, что мне пришла в мысль такая скучная для меня фантазия, как разбирать разные сорты печенья. Знаменита в Вилюйске моя история с лимоном. — Лимонной кислоты, совершенно заменяющей лимон, можно иметь здесь сколько угодно. Но свежие лимоны бывают не всегда. Раз пью я чай в семействе одного из чиновников. Подают свежий лимон и говорят: «Вчера мы получили пять штук. Две мы подарим вам». — Я ем лимон, но не охотник до него. Стал говорить: «не дарите». — Но от того, чтобы взять хоть один, неловко было отговориться, когда предлагают добрые знакомые с искренним радушием. Взял я лимон без малейшего сомнения в том, что съем его. Пришел, положил на окно, — и забыл. И, на грех, не случилось мне долго в другой раз подойти к тому окну. Подошел недели через три, вижу: лимон! Вспомнил. Взглянул: он высох и заплесневел. Стало мне стыдно: как я скажу тем добрым людям о таком происшествии? — Но рассказал-таки. И много было смеха.
Другая история. Присылают мне на какой-то праздник какое-то печенье с миндалем и тому подобным. Штука эта была в несколько фунтов. За чаем в тот вечер, как получил, я стал есть ее. Испечено было хорошо, по моему вкусу, и понравилось мне. Съел я много; но, разумеется, лишь незначительную долю такого
646
большого целого. Завернул всю штуку в чистое полотно и положил в ящик, где у меня сахар и чай. Но, — на грех, — в жестянке с наколотым сахаром было его много. Тоже и чаю было прежде вынуто из ящика на расход много. И недели две не пришлось мне заглянуть в тот ящик. Заглянул: «А! печенье-то!» Развертываю полотно. — Печенье было мягкое, нежное, и постигла его судьба лимона: все заплесневело. Смех.
Я пишу все о пище; потому что, я полагаю, это единственный предмет, о котором сколько-нибудь еще можно тебе сомневаться, достаточно ли удобна мне здешняя обстановка. Более удобна, чем нужно мне по моим вкусам и надобностям. А во всем остальном, в белье, платье и тому подобном, не боящемся перевозки, какой же и может быть недостаток, когда в Якутске довольно много людей довольно богатых и ведущих светскую жизнь, и потому хорошие магазины всяческих товаров, а у меня — много денег. Действительно много их. Я живу здесь, как в старину живали, вероятно и теперь живут, помещики средней руки в своих деревнях. Если бы мне была нужна итальянская опера, здешняя обстановка была бы неудовлетворительна для меня: оперы нет и здесь, как нет ни в одной русской деревне. Но ты помнишь, как усердно посещал я театры. — Коротко сказать, поверь же, моя милая радость, при моем характере и моих привычках я имею здесь ровно столько же комфорта, сколько когда-нибудь имел его. Не могу же я жалеть, что и здесь не поганю, как никогда не поганил своего рта шампанским. А впрочем, оно есть здесь. И деньги на то, чтобы пить его, у меня есть.
Однако, пора отправлять письмо на почту. Хотел писать детям, но отлагаю до следующего раза.
Целую их обоих.
Повторяю: верь, моя милая, я живу здесь хорошо. Одна у меня маленькая забота: дети. Это маленькая. И одна большая: твое здоровье. Будь оно хорошо, — и я совершенно счастлив.
Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая Леленька.
Твой Н. Ч.
570
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
27 апреля 1876. Вилюйск.
Милый мой дружочек Оленька,
Я получил твое письмо от 16 января и приложенные к нему письма детей. Благодарю тебя, моя радость. Благодарю и детей.
Я, по своему похвальному обыкновению, совершенно здоров. Живу хорошо.
Начинается весна. Бродить по земле все-таки приятнее, чем по снегу, хоть мне вообще доставляет мало приятности ходить. Но брожу много. Если лето будет сухое, то есть теплое, то буду
647
купаться. В прошлое лето этого не удавалось мне: вода в реке была холодна. Многие любят это. Но я не охотник до купанья, если в воде нельзя пробыть очень долго. А иное лето это бывает можно. Тогда я купаюсь с утра до ночи, — раз по пяти в день или больше. Что ж, думаю: полезно. И упражняюсь, хоть и скучно.
В прошлое лето я хорошо запасся овощами, чего не удавалось мне прежде. В нынешнее запасусь еще лучше прошлого. Но сам огорода не заводил и не заведу: это мне было бы скучно. Лежать и читать гораздо лучше. С книгами время у меня летит быстро. Как прошла нынешняя зима, я и не заметил.
Пишу лишь несколько строк, чтобы письмо скорее шло к тебе, моя голубочка.
Целую Сашу и Мишу.
Тысячи раз обнимаю и целую тебя, моя радость. Будь здоровенькая и старайся быть веселенькой, и все будет прекрасно.
Твой Н. Ч.
571
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
27 апреля 1876. Вилюйск.
Милый мой дружочек Оленька,
Отправляя ныне к тебе коротенькое письмо с обыкновенными известиями о том, что я здоров и живу хорошо, отправлю в то же время и это, такого же содержания, но подлиннее, и письмо к детям.
Здесь начинается весна. Река еще не вскрылась; но снег на открытых местах большею частью уж сошел, да и в лесу много проталин; на них уж показываются миньятюрные былинки. Когда нет сильного ветра, воздух среди дня уж тепл. Прогуливаться можно уж, не надевая шубы. И я, как напьюсь чаю поутру, ухожу бродить. Возвращаюсь полежать, почитать и покурить и бреду опять. После обеда тоже. Ты знаешь, моя милая голубочка, это мне скучно: я никогда не любил прогуливаться. Но думается мне: не совсем же ошибается гигиена, предписывая людям пользоваться чистым воздухом и делать моцион. Потому принуждаю себя бродить по целому часу раза три в день, размышляя о том: «А не довольно ли уж? Не лучше ли вернуться домой, взять книгу, лечь и читать?» — Богатство и отчетливость моих наблюдений над природой соответствуют, конечно, этой степени заинтересованности моих мыслей ею. Например: я до сих пор плохо различаю лиственницу от сосны, хоть знаю из книг, чем разнится одна из этих пород дерева от другой. Это я говорю к тому, чтобы похвалить себя за свое усердие гулять; очень скучно оно для меня это полезное занятие; но принуждаю себя бродить и брожу.
Кроме этой скуки, которой подвергаю себя, полагая, что она полезна, не случается мне испытывать ровно ничего ни скучного.
648
ни вообще неприятного. Было бы, разумеется, тяжелою скукою разговаривать со здешними — впрочем, добрыми и, в сущности, неглупыми людьми — моими приятелями, чиновниками, если б я сколько-нибудь часто доставлял им и себе удовольствие проводить с ними время. Но когда заходишь к кому очень изредка, то оказывается, что в долгий промежуток набралось достаточно материалов для разговора: зимний мороз сменился весенним теплом, мой приятель купил себе новое пальто или износил сапоги и купит новые; а если у него есть дети, то они заметно подросли. Таким образом, есть о чем поговорить. — Для человека не с такими привычками, как у меня, этого было бы мало. Но для меня и это вовсе лишнее. Поддерживаю знакомства исключительно потому, что не хорошо же было бы вовсе никогда не видаться с людьми, в сущности добрыми и пылающими усердием к приятельству со мною, — должно быть, предполагают они, образованным человеком, с которым, должно быть, полагают они, приятно поговорить. Приятно ли в самом деле? — Чувствуют они: «Какое же приятно? Не о чем с ним говорить; ни о чем умном — ни о картах, ни о канцелярских делах, ни о водке, — не умеет он говорить. Скучно с ним», — чувствуют они бедные; но полагают, что обманываются, чувствуя это, и что на самом деле разговор со мною приятен им. — Впрочем, в сущности, добрые люди. Но видеться с ними, — конечно, чем реже, тем приятнее. И проходит иногда не месяц и не два без того, чтоб я виделся с кем-нибудь, кроме моей прислуги. Ты знаешь, мой друг, я всегда предпочитал книги людям, даже и таким, которые позанимательнее здешних.
На мое счастье, глаза у меня, хоть и до смешного близорукие, не ощущают утомления от книг. И опять тоже хорошо для меня, что я способен перечитывать по двадцати раз одну и ту же книгу. Благодаря тому, недостатка в чтении у меня нет. А это и все, что мне нужно, чтобы время у меня шло приятно.
И идет оно совершенно спокойно, насколько мои мысли и чувства относятся ко мне самому и к обстановке моей личной жизни. Во все те годы, которые прожил я здесь, я не имел ни одной минуты неудовольствия, предметом которого было бы что-нибудь, относящееся лично ко мне. Мысли о тебе и отчасти о детях — иное дело. — Мысли о детях, впрочем, не очень важны для меня по сравнению с мыслями о тебе; дети живут, повидимому, недурно и без меня. А мысли о тебе успокаивать мне в себе не так легко.
Но все-таки живу я спокойно и приятно. Лежу и читаю; лежу и читаю.
Написал Саше и Мише целые четыре листка ученых рассуждений и прекратил эту материю с концом 4-того листка, чуть не на половине фразы, потому что увидел: уж время отдать письмо на почту.
Рассуждаю я с нашими возлюбленными детьми вовсе по-ученому. А они — совершенно еще дети: Саша, например, отказав-
649
шись, вероятно, от надежды выучить меня математике, которая так же и точно в таком же объеме нужна мне, как и тебе, огорчен, повидимому, моим нежеланием просвещаться. Ты извини меня перед ним, если я действительно огорчил его этим отказом. Скажи, если необходимо для его утешения, что ты велишь мне учиться математике и что тебя я не ослушаюсь: буду учиться и напишу курс астрономии. А серьезно: если бы ты велела, то, хоть и знал бы я, что это лишь для смеха, а все-таки послушался бы. Такое мое чувство к тебе: никогда не мог не уступать тебе: «она говорит, то, должно быть, это бесспорно справедливая мысль». И вообще я видел после, что в самом деле твои слова справедливы. — Жаль одного: не умел я с должною ясностью просить тебя, чтобы ты прочла десятка два, три скучных ученых книг; если бы ты прочла их — о, какие бы хорошие романы могла ты писать! — и была бы богата: романы приносят много денег. — У меня, в Петербурге, было, к сожалению, слишком мало времени для должной заботы о том, чтобы ты привыкла думать о себе менее скромно и более справедливо, чем думала и продолжаешь думать ты, моя милая радость. Но ты смеешься над этими моими мыслями. И это единственный важный случай, о котором я полагаю, что я напрасно уступал тебе. Следовало, не смущаясь твоими отказами, позаботиться о развитии твоего таланта. И ты писала бы отличные романы и жила бы богато.
Целую детей.
Целую тысячи и тысячи раз твои ручки, моя милая Леленька, и крепко обнимаю тебя. Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою, и все будет прекрасно.
Твой Н. Ч.
572
А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
27 апреля 1876. Вилюйск.
Милые мои друзья Саша и Миша,
Писал я недавно врозь вам, тому и другому. Продолжение тех писем выходит такое, что, показалось мне, могу я обращаться в нем вместе к вам обоим.
Благодаря отчасти прямому влиянию математики, отчасти усовершенствованию инструментов и способов наблюдения при косвенном ее влиянии естественные науки получили теперь очень сильное и, вообще говоря, полезное преобладание во всей области мысли. — Естественными науками я никогда не занимался; математики я не знаю. Но я с первой молодости был твердым приверженцем того строго научного направления, первыми представителями которого были Левкипп, Демокрит и т. д., до Лукреция Кара, и которое теперь начинает быть модным между учеными. Я, по образу мыслей, ветеран между нынешними учеными, а они
650
передо мною — новобранцы, неопытные рекруты, у которых слишком много неопытного усердия и мальчишеского восторга от новых для них идей, которые почти ни у кого из них еще и не переварились в головах, как должно. Потому очень многое в нынешних модных ученых книгах мне смешно, многое — гадко. Я говорил об этом в давних письмах к тебе, Саша, и в недавних к тебе, Миша. И, мне кажется, можно мне думать, что в этом письме нет уж мне нужды бранить и осмеивать нелепости Дарвина, Геккеля и их учеников.
Есть другая школа, в которой гадкого нет почти ничего (если не считать глупостей ее основателя, отвергнутых его учениками), но которая очень смешна для меня. Это — огюст-контизм. Бедняга Огюст Конт, не имея понятия ни о Гегеле, ни даже о Канте, ни даже, кажется, о Локке, но научившись много у Сен-Симона (гениального, но очень невежественного мыслителя) и выучивши наизусть всяческие предисловия к руководствам по физике, вздумал сделаться гением и создать философскую систему. Степень его гениальности определяется тем, что он, весь век усердно занимаясь математикою, не в силах был ровно ничего сделать для усовершенствования этой науки; что он серьезно гордился, будто великим открытием, крошечным вычислением пропорций между большими полуосями орбит и временами обращения планет около солнца, — вычислением, которое сумел бы сделать даже я, не знающий из математики ничего выше арифметики, и которое со времени Кеплера, конечно, делал, но, как ничтожную вещь, оставлял ненапечатанным каждый астроном, — этот трудолюбивый Огюст Конт, вообразивши себя гением, размазал на шесть томов две-три странички, которые с давнего времени переписываемы были каждым составителем руководства к изучению физики, — переписываемы из Локка, в виде предисловия к трактату. К этому прибавил Огюст Конт кое-какие мелочи из Сен-Симона, и от собственных сил — формулу о трех состояниях мысли (теологич., метафизич., положительном) — формулу совершенно вздорную (правда тут лишь в том, что прежде чем удастся построить гипотезу, сообразную с истиной, очень часто люди придумывают гипотезы неудачные. Ошибка очень часто предшествует истине — только и всего. А теологич. периода науки никогда не бывало; метафизика в том смысле, как понимает ее Огюст Конт, тоже вещь никогда не существовавшая). — Итак, вышло шесть томов, очень толстых и скучных. Следовательно — великое научное творение — ура! И пошло: «ура!» — А в сущности, это какой-то запоздалый выродок «Критики чистого разума» Канта. Творение Канта объясняется тогдашними обстоятельствами положения науки в Германии. Это была неизбежная сделка научной мысли с ненаучными условиями жизни. Как быть! Канту нельзя ставить в вину, что он придумал нелепость (то есть даже и не придумал, а вычитал из Юма, которого, — вот смех-то! — воображает он опровер-
651
гать, перефразируя): надобно же было хоть как-нибудь преподавать хоть что-нибудь не совершенно гадкое. И он решил: «Что ложь и что истина, этого мы не знаем, и не можем знать. Мы знаем только наши отношения к чему-то неизвестному. О неизвестном не буду говорить: оно неизвестно». — Но во Франции в половине нынешнего века это нелепая уступка — нелепость совершенно излишняя. А Огюст Конт преусердно твердит: «неизвестно», «неизвестно». — Но для мыслителей, которым не хочется искать или высказывать истину, это решение очень удобное. В этом и разгадка успеха системы Огюста Конта.
Довольно этого о моих отношениях к мыслям, приобретающим теперь господство в науке. Поговорю об одной из отраслей науки, об истории.

В недавнем письме к тебе, Саша, я излагал в смешном виде свою, от нечего делать, для забавы деланную попытку составить расчет нормального распределения теплоты по разным параллелям. Кстати, поправлю ошибку. Там начерчена четверть года, а в тексте не поправлено выражение, что это половина года. Половина года начертится приблизительно так:
Кроме смеха над архимедовскою допотопностью моих приемов вычисления, то есть крайнею скудостью моих знаний по математике, надобно сказать: дело ведено правильно. Главный результат таков: высчитывая охлаждение, все-таки мы будем иметь: до тропика и, вероятно, довольно много за тропик, — мне казалось, до параллели около 32° или 34°, жар лета все растет с широтою, и, быть может, даже под 40° или 42° градусом нормальный зной наиболее теплых двух-трех недель выше наибольшего тепла под экватором. — Мои средства для вычислений слишком слабы; потому я бросил те расчеты; и теперь не умею припомнить цифр. Но цифры были верны. Я вел дело добросовестно и ясно понимал, как следует вести его. Все так; только — что ж следует из этих верных цифр? — Ровно ничего. Они относятся к шару или эллипсоиду, вся поверхность которого совершенно ровная, твердая и
652
однородная и атмосфера которого неподвижна (например, как если бы вместо атмосферы принять хрустальную покрышку). А как только рельеф суши неправилен, есть море с его течениями и ветер, то — фактическое распределение температуры по параллелям видоизменяется так, что те цифры ни к чему не годятся, и факты должны быть изучаемы только посредством прямых метеорологич. наблюдений.
Потому-то я и смеялся над своею тою забавою, забавляясь ею, и когда она надоела, бросил те листы цифр и чертежей без угрызения совести за убыток, наносимый тем науке: та работа была забава, ни к чему непригодная, кроме моей личной забавы. Я шалил тогда, только; и знал, что я шалю.
Я мог помнить, что эта забава — пустая забава, потому что я задолго раньше того привык знать: Сахара — область более знойная, чем область Амазонской реки; и я твердо помнил, что Сахара и Амазона исследованы не мною. Но если б я был круглый невежда в физической географии, то — я пожелал бы изумить вселенную моими дивными открытиями. И, пожалуй, кое-что удалось бы мне и сказать несколько получше прежних ученых. Например: дело ясное, что повышение границы вечных снегов на Кордильерах от экватора к тропику (в южной Амер.) проявление нормального элемента, а не случайных, местных условий, как обыкновенно полагают. Быть может, то же надобно сказать и о том обстоятельстве, что линия вечного снега на северном склоне Гималаев выше, нежели на южном. Пусть относительно обоих фактов я прав, пусть относительно обоих я ошибаюсь, — я все-таки знал: это факты не очень важные, и горячиться из-за них не стоит. — Но это я знал потому, что я не невежда в физич. географии.
С дарвинистами и огюст-контистами история совсем иная: во всеобщей истории владычествует ученое невежество. Это — хаос всяческой бессмыслицы, нахватанной изо всяческих куч ученого хлама. Правильные понятия о ходе человеческих дел высказывались тысячи раз тысячами мыслителей, — но высказывались они в трактатах о законах личной жизни (морали) или в юридических и тому подобных трактатах. А авторы летописей и исторических монографий не умели пользоваться этими истинами, и в трактатах о всеобщей истории эти истины завалены хламом всяческих односторонностей и лжей, набранных из монографий, летописей, из архивного сора. Разобрать эти груды мусора оказывается до сих пор не по силам еще никому из ученых, пишущих о всеобщей истории. Кое-кто кое-что иной раз поймет повернее своих предшественников, — но поймет мелочь; и вообразит, что это великое открытие, и подымет крик о нем, и пойдет шум по всему ученому миру, и примутся переделывать всё на основании этой новой великой истины. Теперь переделка идет во вкусе Дарвина, то есть Мальтуса. Закон Мальтуса — бесспорная истина. Но точно такая же, как то, что всякий человек должен умереть от нормального
653
хода окостенения хрящей (окостенели связки ребер, дыхание становится невозможно). Правда, так. Но этой смертью едва ли умер хоть один человек от начала жизни людей. Умирают от других причин, а не от этой; и если оказывается иногда что-нибудь похожее на то, все-таки это в сущности вовсе не то: хрящи окостенели, правда; но, во-первых, преждевременно, не по нормальному ходу жизни, а по случайностям ушибов, простуд и т. д.; а во-вторых, окостенение далеко не достигло той степени, чтобы грудной ящик утратил эластичность. И хоть несомненно то, что нормальный конец жизни — нормальная смерть, но случаев нормальной смерти до сих пор не бывало. И толковать «все люди смертны» — значит пустословить.
Мальтус знал, что он пустословит; он знал, почему и для чего он пустословит. А нынешние модные переделыватели всеобщей истории, — во-первых, чуть ли не забывают сами ежеминутно, что они нашли свою мудрость цитированной Дарвином из Мальтуса, чуть ли не ежеминутно каждый из них приходит в восторг от мысли, что это изобретает он сам, что он нечто вроде Архимеда, Коперника, Кеплера и Галилея. А во-вторых, по своему (иногда очень ученому) невежеству не могут они сообразить, кому и для чего нужно то пустословие, которое они разрабатывают. — Гадкая книга Гелльвальда, о которой писал я в недавнем письме к тебе, Миша, украшена посвятительным листом, на котором крупно напечатано: Ernst Häckel in Verehrung und Freundschaft — «Эрнсту Геккелю (посвящается) в знак уважения и дружбы». — Протестовал ли против этого позора себе Геккель? Бедняжке не пришло и в голову, что это такой же позор, как если б ему посвящена была книга о разумности и пользе сжигания ведьм или о наивернейшем способе доказыванья, что 2 × 2 = 5, а не 4. А кое-что, впрочем, удалось, может быть, сказать не подлое и не глупое и этому уроду Гелльвальду, как есть, вероятно, что-нибудь умное и в средневековых трактатах об астрологии: вероятно, астрологи не умели же писать от первой строки до последней все только свою чепуху без перерыва какими-нибудь и верными фактами, попавшими в их головы из Птоломея.
Возвращаюсь к делу. — Та моя забава с задачею о распределении теплоты по земному шару — отголосок моего смеха над собою за мои старинные попытки доказать самому себе, что я не ошибаюсь, считая родиною людей экваториальный пояс. Убедиться в том стоило мне, в мою молодость, многих трудов. Тогда экваториальный пояс был в сильной немилости у географов и историков. Теперь всеми признано: родина людей — там. Я не могу судить, правильно ли помещают эту родину между Ост-Индиею и Африкою или вернее предполагать, что она была на юго-восток от Малакки. Я не знаю геологии. Но я думаю, что то или другое из этих двух предположений справедливо. Какое? — для меня все равно. Все равно было б, если бы оказалось более вер-
654
ным и третье, — родина людей — экваториальная Африка; о Бразилии, думаю я, этого не должно предполагать. — Но все равно, где бы то ни было; достоверно и существенно важно лишь то, что родина людей — где-нибудь под экватором.
Всегда ли наилучшее место для жизни органич. существа его родина? — Может быть, случайные обстоятельства не допустили организму достичь известной частной формы развития в стране, которая, по общему своему характеру, даже и лучше для него, чем его родина. А после эти случайности отстранятся. И тогда выйдет, что, переселившись, существо это разовьется выше, чем на родине. Аравия едва ли родина лошади; Англия, наверное, не родина. Саксония не родина мериносов. Так. Но, вообще говоря, мудрено усомниться в том, что родина организма — страна хороших, а не дурных условий для его развития. И, например, едва ли можно сомневаться, что при равной заботливости о мериносах испанские (или, вернее, мароккские) мериносы давали бы шерсть еще лучше саксонской. Почему ж мароккские мериносы (кажется, вовсе; или, несомненно, почти вовсе) исчезли, испанские стали плохи, а саксонские теперь так хороши, как никогда не бывали испанские? — Это не влияние климата, это не что-нибудь объясняемое какими-нибудь специальными мудростями каких-нибудь специальных наук; это дело «истории» мериносов, и объясняется это простыми соображениями, известными всякому не то что в частности овцеводу, а вообще сельскому хозяину: хороший корм, заботливый уход и т. п.; и наоборот: голод, небрежный уход, и т. п.
Отчего ж под экватором варварство? — А оттого же, отчего в Марокко плохие овцы, да и в Испании не очень хороши. — Вы видите, мои друзья: все, что толкуют о выгодности так называемого умеренного климата для развития, кажется мне вздором. И «умеренный климат» я не считаю заслуживающим имени «умеренного». Это климат теплого лета и холодной зимы. Умеренный климат — по-моему, климат островов Тихого океана. В экваториальной полосе южной Америки, на Загангском полуострове, в Ост-Индии, Средней Африке, много областей с таким же климатом. Я полагаю, такова бòльшая половина всего пространства тех частей материков. Зной в той полосе лишь там, где вечная засуха или, другая крайность, болото. Где не болото и не голый камень или песок, там нет зноя даже в Декане. — Жить в Калькутте, в болоте, одеваясь по английскому климату, пьянствуя и обжираясь мясом, — то, конечно, вывезешь понятие: «в Индии жарко». Вспомните, мои друзья: Гумбольдт, поживши в области Амазонской реки, дрожал в Гаванне при 20° Цельсия. То же свидетельствуют другие разумные наблюдатели: 20° Цельсия — это температура, не чрезмерно холодная лишь в наших закупоренных комнатах, где воздух неподвижен, и лишь в нашей тяжелой двойной и тройной одежде. Это ли здоровый воздух? Это ли здоровая
655
одежда? — Медики теперь начали постигать: нет, это лазаретный воздух, это миазматическая одежда.
«Но работать под экватором тяжело» — теперь постигли, в чем тут штука: южные плантаторы Соедин. Штатов нанимали ученых внушать это северным штатам: «не троньте рабства негров; без них нельзя нам обойтись». — Но есть еще соображение: «работать под экватором тяжело»; — а легко работать где бы то ни было? — Нигде не легче. Я бывало в Забайкалье сматривал, как пилят лес при 25° мороза: посбросано все платье до рубашки, и пот льется градом. Это здорово? — В чем же дело? — Пока люди не заботятся об удобствах своей работы, работать везде трудно. Но легче всего все-таки в комнатной, то есть, приблизительно, экваториальной температуре: в ней дыханье свободнее, и пот улетает быстрее, чем на холоде. — «Но вертикальные лучи» — но для стоящего или идущего человека вертикальные лучи — лучи параллельные горизонтальной плоскости. Вычтем поглощение атмосферой, все-таки будет: наибольшее количество лучистой теплоты тело идущего или стоящего человека получает при не очень большом угле возвышения солнца над горизонтом. — Мое личное наблюдение: здесь, где атмосфера вообще сыровата и туманна, когда сядешь на скамье у реки — у реки даже — откуда и лишняя сырость и лишний туман — под вечер, при 15 или 20 градусах мороза, то в несколько минут щека, обращенная прямо в сторону солнца, начинает быть палима солнцем до боли от чрезмерного зноя; нужно только сидеть смирно и чтобы ветра не было. Нравоучение? — Шляпа с широкими полями; без нее в Забайкалье не редкость солнечные удары; здесь не слышал о них, потому что мало разговариваю; но не удивлюсь, если услышу, что и здесь на сенокосе получаются они.
Время сенокоса — время знойных дней и здесь. А вся работа здесь — сенокос; в нем весь источник жизни. И везде, где не круглый год ровное тепло, время работы — знойное время года.
«Но все-таки, экватор, климат расслабляет мускулы», это и видно из сравнения европейских ворон, ленивых и вялых, с их экваториальными сестрами, райскими птицами, которые всю жизнь проводят летая. А колибри тоже не побойчее ли всех наших птичек того же семейства? И слабы мускулы у обезьян! И вялые существа они! — Но я, вероятно, ошибаюсь, полагая, что эти мысли об экватор, климате еще нуждаются в разъяснении, как было то в мою молодость. Он один истинно хорош для человека; он лучше всякого другого для развития, — для всякого развития: и физического, и нравств[енного], и умственного. Но — цивилизация развилась не в нем. Почему так? — Прежние разъяснения о благотворности греческого, — после франц., немецк. и английского климата не выдерживают критики. Дело зависело не от преимуществ климата (Греция хуже Ост-Индии; об Англии и толковать нечего: она хуже даже Франции, не то что Греции).
656
Однако, пора отправлять письмо. Когда-нибудь буду продолжать. А пока жму Ваши руки и целую Вас, мои милые друзья.
P. S. Дело объясняется не климатом, а историческими событиями.
573
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
14 мая 1876. Вилюйск.
Милый мой дружочек Оленька,
Напишу тебе в этот раз, по обыкновению, лишь несколько строк с неизменными моими известиями о себе: я совершенно здоров и живу хорошо.
Весна здесь почти установилась. Река готова вскрыться. Начинает показываться трава. И я довольно много брожу, — обыкновенно, уж не в зимней одежде; а иной день можно уж быть на открытом воздухе и вовсе только в комнатном платье: это, когда тихо. Ветер здесь и во время летних жаров почти всегда более или менее прохладный. Впрочем, здешние старожилы говорят, что климат теперь много мягче, нежели был в старые годы. То же говорят и о Якутске, и о других населенных местностях здешней области. Может быть, немножко есть тут и правды: осушение болот, производимое якутами хоть и в незначительном, но все-таки не совершенно незаметном размере, может быть, уж и начинает оказывать маленькое действие на климат. Но я полагаю, мнения старожилов здешних и якутских об уменьшении морозов — больше фантазия, чем верное наблюдение фактов. Жители всякой местности должны же хвалиться хоть чем-нибудь. У всех русских есть наклонность хвалиться морозами своей зимы. Здесь уж ровно нечем похвастаться, кроме этого. И здесь любят изумлять не только заезжих, но и самих себя преувеличенными рассказами о своих удивительных морозах. А похвальба удобнее прилагается к старине. — В сущности, здешние морозы хоть и действительно очень сильные и, главное, очень продолжительные, не представляют ничего особенно тяжелого для русских. И что касается до меня, я переношу здешнюю зиму безо всякого вреда здоровью. И разве когда очень сильный ветер, то скучаю продолжать прогулку. — Но, разумеется, весною бродить для моциона приятнее, чем зимою. Но и весной, и летом я хожу гулять только потому, что считаю это полезным для здоровья. По природе я, ты знаешь, домосед до смешной крайности.
Но усердно забочусь о своем здоровье. Заботься и ты, моя радость, так о своем, — и все будет прекрасно.
Целую Сашу и Мишу.
Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая Леленька. Будь здоровенькая и старайся быть веселенькой.
Твой Н. Ч.
42 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
657
574
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
8 июня 1876. Вилюйск.
Милый мой дружочек Оленька,
Я получил твое письмо от 12 февраля. Благодарю тебя за него, детей за приписки к нему.
Со времени отправки прошлого письма моего к тебе прошло, помнится, недели три или, может быть, и побольше. Потому пишу лишь несколько строк, чтобы сообщить тебе обыкновенные мои, хорошие известия о себе: я совершенно здоров и живу превосходно; денег у меня много и все нужное для комфорта я имею в изобилии. Прошу тебя, мой милый друг, не присылай мне ни денег, ни вещей: я не нуждаюсь ни в чем. — Пора отдать письмо на почту. Прибавляю лишь несколько слов.
Очень порадовало меня в твоем письме известие, что здоровье твое хорошо. И чрезвычайно понравилось мне твое намерение ехать по крайней мере на остаток зимы в Крым, когда не представилось тебе возможным провести в нем всю зиму.
Целую детей.
Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя радость. Будь здоровенькая и веселенькая, моя голубочка, и все будет прекрасно.
Твой Н. Ч.
575
И. Г. ТЕРСИНСКОМУ
Вилюйск. 8 июня 1876.
Прошу Вас, добрый Иван Григорьевич, извинить меня за то, что беспокою Вас моею просьбою.
Прошу Вас:
1) Прислать мне какую-нибудь хорошую медицинскую книгу, по которой мог бы я контролировать метод лечения, качества и дозы лекарств, какие буду получать от здешнего доктора. Здесь есть доктор; но старик, на 30 лет отставший от науки и даже не имеющий, сколько мне известно, медицинских книг новее 1850 года. Мне известны из этих книг две: Choulant’s Pathologie издание Richter’a — кажется, Leipzig; кажется 1847 года, и Arzneiverzeiсhniss какого-то венского медика с немецко-венгерскою фамилиею — первую часть фамилии я забыл, — вторая von Izv... не помню, вроде Izvandy или что-то подобное. Издана эта книга в Вене, в 1847 году. Есть ли у здешнего медика еще другие книги? — Не знаю. Но если и есть, то дело ясное: медик, руководящийся в своем лечебном действовании патологиею и «списком лекарств» 1847 года, не может быть допускаем мною к пользованию моих
658
болезней без контроля с моей стороны. Чтобы Вы могли судить о научном достоинстве его книг, приведу один пример: в Arznei Verzeichniss Chininum muriaticum рекомендуется лишь для наружного употребления (!!!), а для внутреннего — рекомендуется хинная корка (это неудивительно для знающего историю хины и ее препаратов: около 1847 года хинные препараты только еще начинали быть изготовляемы; и многие полагали, что они хуже хинной корки; и многие еще не умели разобрать, который из нескольких алкалоидов хинной корки наиболее важен. Автор ArzneiVerzeichniss’a воображал, что лекарственной силы в chininum очень мало; он воображал, что cinchoninum гораздо лучше chininum’a, а хинная корка полезнее и того и другого).
Как лечиться у медика, пользующегося такими допотопными книгами? — Можно у него лечиться, но только контролируя его по книге более рациональной, нежели его устарелые руководства.
Лечиться мне надобно от зоба и от хронического ревматизма.
Пришлите же книгу, по которой мог бы я лечиться. Это первое.
2) Будьте так добр, позаботьтесь о том, чтобы устранена была возможность посылаемой книге не дойти до меня.
Письма от Вас мне не нужно. Простите, что беспокою Вас.
Ваш Н. Чернышевский.
576
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 21 июля 1876.
Милый мой дружочек Оленька,
Я получил твои письма и приписки детей к ним от 13 марта, 29 апреля и 6 мая. Благодарю тебя, моя радость. Благодарю и детей.
И отвечая на то, что ты пишешь, поговорю обо всех нас, по порядку того, в какой степени кем из нас ты озабочена.
Тебя, как видно, очень встревожила мысль, что у меня начинают портиться глаза. Это подумала ты совершенно ошибочно. Факт, который навел тебя (и детей) на такое напрасное предположение, оставался незамечен мною, пока не прочел я о нем в твоем письме от 13 марта; но как я прочел о нем, я понял: да, без малейшего сомнения, мои письма за недавнее время были написаны очень дурным почерком; и, по всей вероятности, с довольно давнего времени он становился все хуже и хуже, пока достиг такой испорченности, что возбудил тревогу в тебе и детях: уж не полуослепший ли выводил эти безобразные черты? — И скажу правду: подосадовать на себя, что сделал тебе лишнее опасение, я подосадовал-таки, но больше, чем бранил себя, похохотал над собой. Что за чудак, в самом деле! — Возможно ли кому другому иметь такие неловкие руки, такой смешной характер! — Ты сама видишь: эти строки написаны красивым ли почерком? Грех было
42*
659
бы похвалить: «красивым», — но все-таки, таким, что следует тебе не усомниться: «да, он очень зорко видит выводимые им некрасивые, угловатые черты, чудак». — Вижу их зорко, моя милая. Когда я смотрю с такого расстояния, какого требует природное близорукое устройство моих глаз, мое зрение очень ясное, а крепкое оно — всегда, на всяком расстоянии. Чрезмерно плох был мой почерк в прежних письмах, верю тебе тем охотнее, что, прочитавши о твоем беспокойстве, попробовал написать несколько строк по вошедшей у меня в привычку небрежной манере держать руку, перо и бумагу; — вышли строки, действительно, безобразного почерка. Дело тут не в зрении, а неловкости рук и небрежности характера.
О неловкости моих рук вспомни, моя милая, какие, например, любезности нашим с тобой детям выделывали мои руки, когда дети были малютки: возьму малютку за ручку, приласкать, — малютка заплачет: я стиснул ему ручку. И хоть бы сильный был я когда-нибудь, еще не так нелепо было бы, что мое прикосновение к ручке малютки мнет ее. Нет, сила у меня всегда была гораздо меньше обыкновенной силы мужчины моего роста. Но избыток ловкости вознаграждал, и с изобилием излишка вознаграждал малютку за недостаток силы в рукопожатии любезного родителя. — В детстве я не мог выучиться ни одному из ребяческих искусств, которыми занимались мои приятели-дети: ни вырезать какую-нибудь фигурку перочинным ножичком, ни вылепить что-нибудь из глины; даже сетку плести (для забавы ловлей маленьких рыбок) я не выучился: петельки выходили такие неровные, что сетка составляла не сетку, а путаницу ниток, ни к чему не пригодную. — Выучиться писать ровным, красивым почерком я старался очень усердно; всякий другой с половиной того усердного труда сделался бы замечательно искусным каллиграфом. А мой почерк, в самое лучшее время своей красивости, все-таки был плох, плох. И какова бы ни была степень его сносности для чтения, он поддерживался на этой очень невысокой степени только тем, что я писал. — Ты помнишь — почти каждый день с утра до ночи, за исключением коротеньких перерывов на еду и на чай. А писал я для печатанья, для наборщиков; от них постоянно слышал упреки: «пожалуйста, старайтесь писать поразборчивее», — и совесть побуждала исполнять, по мере возможности, это справедливое требование людей, которые теряли в своей работе время из-за дурного качества моего почерка. — После, за Байкалом, я тоже исписывал очень много бумаги, почти каждый день без пропуска. И со мною жили товарищи, читавшие мои сказки (то были почти все только сказки; некоторые были хорошие; но — время шло, содержание их ветшало, и, я бросал в печь одну за другою). Товарищи посмеивались над моим почерком, и это напоминало мне, что и такой некрасивый почерк поддерживается у меня на своем уровне некрасивости лишь при заботли-
660
ности мо[е]й не давать ему испортиться. Здесь иногда я принимаюсь писать сказки; но это не долгие периоды, а — месяца два, много три; а между ними — сначала были полугоды, а после и целый год, а вот, напоследок, и года полтора, я полагаю, — такого времени, что я не имел охоты писать для бросания в печь. — И постепенно утрачивалась от недостатка практики и та крошечная доля искусства выводить буквы не совсем безобразные, какая была прежде в моих пальцах. А кроме того, с каждым годом развивалась у меня склонность отлагать писанье писем к тебе и к детям до последнего часа перед отправлением почты. И, бросившись, наконец, за письменный стол, я тороплюсь, и — выходит почерк еще хуже того, чем мог бы выйти.
В том и все. Поверь, так. А зрение мое тут нимало не виновато. Оно остается превосходное.
Я близорук до смешной, редкой степени близорукости. Но такой я с той поры, как помню себя; — с той поры, когда еще не учился читать. — Ребенок лет четырех, я не знал в лицо тех из детей, игравших со мною, с которыми не приходилось брать в игре друг друга за руку. — Полтора аршина расстояния от моего глаза, и я уж не различал и тогда черты человека, на которого смотрел; как теперь, так и тогда, я узнавал людей на таком расстоянии уж только по росту, осанке, походке (о нынешнем, я говорю это, подразумевая: когда я без очков). Близорук очень, да. Но родился такой, вероятно; и, по крайней мере, такой с тех пор, как помню себя. И нисколько [не] хуже того не стала до сих пор моя близорукость. — Судя по физиологическим трактатам о глазах, нет и вероятности, чтобы близорукость человека моих лет стала увеличиваться. Улучшаться в этом отношении глаза людей моих лет могут; и часто бывает, что действительно улучшаются. Так скажут тебе медики, если спросишь. Но я не хочу говорить, чего не думаю: относительно моих глаз едва ли следует полагать, что их близорукость уменьшится (улучшится): должно быть, степень выпуклости хрусталика в них сформирована так неподвижно твердо, что не уступит улучшающему ее у близоруких влиянию годов пожилого возраста. — Это о близорукости. Острота и крепость зрения дело совсем иное. То — от формы хрусталика и других твердых оболочек глазного яблока и от степени солености глазных влаг. — Крепость и острота зрения (на расстоянии, какое определилось устройством формы его и степенью солености его влаг, — близоруком или неблизоруком) зависит от прозрачности тех влаг и, главным образом, от качества волокон глазного нерва. В этом отношении мои глаза превосходные. На расстоянии, на котором я вижу ясно, я вижу так ясно, как немногие. Например: на нежной гравюре я различаю такие тонкие штрихи, такие крошечные неровности в их ширине, такие миньятюрные шероховатости в слоях краски, каких не различают большая часть людей иначе, как через сильную лупу. Но главное: мои глаза до сих пор
661
не знают усталости ни от чтения, ни от письма по 16, 17 часов в сутки, сутки за сутками, сплошь. — Когда живешь, как обыкновенно живут, то невозможно, чтобы чтение и письмо шли так сплошь: видишься с людьми, разговариваешь с ними. И за Байкалом так сплошь это шло у меня не часто и не подолгу. — Здесь часто и подолгу. Здешние люди — как везде, есть дурные, есть хорошие; но — все они совершенно чужды всяких качеств, по которым люди могут быть не скучными для меня собеседниками. — Иной раз у меня бывает терпение видеться с ними. Но скоро это проходит, и я не вижусь решительно ни с кем, кроме слуги, не умеющего говорить по-русски, потому — не собеседника, разумеется; — не вижусь ни с кем по целому месяцу. И сплошь все время, — если это зимой, когда я позволяю себе прекращать прогулки, — сплошь все время читаю и пишу или (таких месяцев бывает больше, я уж говорил) читаю и читаю, все только читаю и читаю. И все-таки глаза мои ни разу еще не утомлялись. А если хоть чуть утомились, — то, разумеется, я не делал бы так, давал бы зрению отдыхать. Конечно, я хочу и сумею всегда заботиться о сбережении моего зрения, насколько нужна эта заботливость. Но пока, — и, я полагаю, довольно надолго вперед, — мое зрение чрезвычайно крепко.
Прибавлю неизменное известие о себе: я совершенно здоров и живу хорошо.
Обо мне ты заботишься больше, чем о себе. Потому я с того и начал, о чем говорил.
О тебе, моя милая голубочка, я прочел с радостью, что ты решилась провести лето на Кавказских минеральных водах. Сами по себе они принадлежат к числу очень хороших. — Но устроены были они до сих пор из рук вон плохо. Говорят, в нынешнее лето прежние дурные порядки там заменены хорошими. Думаю, что хоть немножко правды тут есть и что пользоваться водами на Кавказе теперь уж не вовсе неудобно. А когда так, то польза от них тебе, я надеюсь, будет: они хороши, очень хороши.
Только возобновлю мою просьбу к тебе: на зиму поезжай в Италию. — По климату, чем южнее, тем лучше ее хорошие уголки. Но ты любишь только русское. Не знаю, много ли русских нашла бы ты где-нибудь на южном краю полуострова, или — по климату, еще лучше, — в Сицилии. О Сицилии думаю, однако, что в Палермо или в Катанее русских немало. О Южной Италии еще тверже полагаю, что там много русских в Неаполе и немало в Салерно (по климату Салерно лучше Неаполя).
Но если бы ты захотела испытать, быть может, ты нашла бы, что мы, русские, конечно, в сущности не дурные люди, но не мы одни такие. Итальянцы во многом плоховаты; — как и все во многом, и мы, русские, тоже. Например, о нас. У нас много пьяных; у нас много грубых разговоров на улицах. А все-таки нас можно любить. — Об итальянцах говорят слишком много дур-
662
ного; французы и немцы, — справедливо, а англичане, еще справедливее, — находят невежество и неопрятность их тяжеловатыми для перенесения себе. Но это улицы грязны; а на том юге, зачем же тесниться там, где много домов и подле домов грязь? — Домик вдали от городской и сельской грязи, — между полями и рощами, можно найти опрятный или такой, который легко сделать опрятным. А невежество? — Оно у итальянцев такое, которое более вредно для них самих, чем тяжело для их гостей. Они хоть и темные невежды, деликатны в обращении с людьми, которые не обижают их своим тщеславием. Французы, немцы, англичане через меру чванятся перед ними. Без того имели бы меньше причины толковать о их недостатках, будто бы тяжелых для просвещенного человека. Безграмотны итальянцы, — в особенности южные, — это так. Но природного ума и житейской опытности у них не меньше, чем у кого бы то ни было; стало быть, хоть они и безграмотные, разговаривать с ними можно без скуки. Тем больше, что охота говорить у них неистощимая; и уменья говорить у них столько, сколько нет и у самих французов. — Но ты не знаешь итальянского языка? — Поживши с ними два месяца, будешь уметь. А на первое время, — везде в Италии и в Сицилии множество французов и всяческих других иностранцев, говорящих по-французски. Да и между самими итальянцами французский язык распространен больше, чем у русских; а у русских мало ли? — Стало быть, в Италии уж и вовсе очень немало.
Это о Южной Италии и Сицилии. А если не хочешь испытать разлуки с русским разговором, то в Средней и Северной Италии везде столько русских, сколько может желать самая русская душа; чуть ли даже не больше, чем столько. — Во Флоренции, например, целые тысячи русских. Около Лаго-Маджоре тоже. В Ницце (нужды нет, что это ныне французский город: климат в нем уж итальянский) такое множество русских, что, надобно полагать, туземцы уж начали забывать говорить на своем языке (которого у них и не было никакого: не то они французы были по языку, не то итальянцы, — до присоединения Ниццы к Франции), — вероятно, говорю я, начали они уж говорить по-русски. А не шутя, сотни коренных жителей Ниццы уж привыкли понимать и кое-как иной раз и сказать, что говорится часто, — или даже и вести всякий обыкновенный разговор по-русски. — Ницца и Лаго-Маджоре недурны по климату. Но Флоренция гораздо лучше.
Между прочим: видишь, почерк стал хуже, чем на первой странице. — Небрежность характера начала немножко одолевать мое намерение отличиться перед тобой в качестве каллиграфа. — А взгляни на письмо к детям: там почерк еще гораздо хуже. — А глаза у меня, ты согласишься, все те же; не могли ж испортиться в несколько часов. — В письме к детям я немножко торо-
663
пился; только. А поторопился бы побольше, то вышли бы узоры еще более своеобразной красивости.
А теперь эти узоры выведены в письме к детям такие, каких лучше и на свете не бывает. Я перечитывал то письмо и делал поправки между строками. Торопился, чтоб успеть отправить на почту, — все больше торопился, — и дошли мои узоры до совершенства. Взгляни на поправки между строками в том письме: хуже никогда, вероятно, не удавалось стать моему почерку. А вот пишу опять немножко поразборчивее, обуздывая чрезмерную ловкость моих пальцев в выделывании узоров.
Возобновляю речь об Италии. — Ты видела южный берег Крыма. — По отношению к красоте горных видов Южная Италия и Сицилия лучше. Часто говорят иначе, отдавая предпочтение Крымским горам. Напрасно. Это англичане и французы, заехавшие на дальний от обыкновенного круга поездок юго-восток, хвалятся перед своими соотечественниками своим уменьем находить и оценивать не виданные другими красоты природы. Похвалами итальянской природе никого не удивили б они, а описаниями Крыма производят эффект. — Крымские горы хороши, очень хороши, я не спорю. Но южно-итальянские и сицильянские много лучше. — Относительно очаровательности природы на итальянской стороне Альпов и говорить не считаю нужным. Но зима там, хоть много лучше крымской, все-таки гораздо хуже южно-итальянской. Около Ниццы она самая плохая в том (северно-итальянском) поясе. На берегах Лаго-Маджоре получше. Около Лаго-ди-Комо еще получше. Около Лаго-ди-Гарда еще помягче. — В Тоскане она порядочная: Апеннины защищают долину Арно от холодных ветров, успевающих перелететь в долину По и притоков По через Истрию и северную Далмацию или низвергающихся с Альпов. — Красота природы в Тоскане более нежная, чем эффектная.
Но хоть в Тоскане и очень порядочный климат зимой, холода вовсе нет только в Сицилии. Она была бы лучше всего для твоего здоровья, эта, в самом деле, прелестная Сицилия. — Она вся, кроме разве Мессины да Марсалы, где нечто вроде одесского наплыва всяческих иностранных купцов, имеет характер деревенской — грубоватости, правда, но и простоты. Даже и Палермо, хоть огромный и великолепный город, совершенно деревня по нравам жителей. Я полагаю, что Палермо может с успехом заменить для русской души любую самую маленькую и глухую Ивановку или Сосновку. Я полагаю, что хоть в огромном городе и не может не быть множества воров, но в Палермо замков нет; а если у кого и был когда куплен замок, то или пружина испорчена, или ключ затеряли, игравши, ребятишки, — и замок лежит, в качестве украшения, на парадной этажерке. А воры как же? — По русскому деревенскому обычаю, воровать не умеют; да и не нужно: бродят по улицам и тащат домой, что валяется на улице.
664
Презабавное оно, это Палермо. И попробуй: увидишь, славно в нем жить. То есть не в нем самом, а подле, на даче.
Однако, пора отправлять письмо на почту. О детях буду писать в другой раз.
Целую их. Пишу им.
Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую твои руки, моя милая Лялечка. Будь здоровенькая, и все будет прекрасно. — Целую тебя.
Твой Н. Ч. .
577
А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
21 июля 1876. Вилюйск.
Милые мои друзья Саша и Миша,
Продолжаю мою беседу с вами. — Прежде всего поправлю две из ошибок в моих прежних письмах.
Я говорил, что в так называемом умеренном климате во время (следовало бы выразиться точнее: в часы) важнейших (летних; сенокос, уборка хлеба) полевых работ зной едва ли меньше, чем под тропиками, и едва ли не больше, чем под экватором (в местностях, топографически сходных). Понятно было, что речь идет лишь о тех странах умеренного климата, где хорошо родится хлеб, а не об Исландии, например, хоть она, по благосклонности географов, почти вся пользуется умеренным климатом, подобно целой половине Сахары. — Но вот что: ясно, что я пренебрегаю изотерами. По какому праву? — Об этом надобно было, а я забыл, сказать.
Я нахожу, что не только изотеры, но и все подобные им линии — пустая ученая забава. (Конечно, следует прибавить: почти вовсе, но не совсем же пустая; особенно изотерма и еще больше того изохимена точки замерзания — важны; — изохимена эта даже очень — изохимена нуль градусов — даже очень важна; но и она, тем больше всякая другая, не выдерживает по своей важности сравнения с ботаническими линиями температурных поясов.) Объясню это на изотере, которая подвернулась под предмет речи. И, как сумею, покороче. Я изорвал много листов, на которых начинал это письмо: объяснение выходило длинное, длинное; а сущность дела непомерно скучная, это я сам понимаю. Но я много работал для своих ученых надобностей над разбором путаницы, которой затемняет исторические вопросы мнимо-ученое невежество климатологов; этим извиняется, если я на этом листке буду говорить, — хоть и гораздо короче, нежели было на изорванных мною, — длинно все-таки до утомительности вам.
Реальный смысл изотеры относится к тому слою земли, где сглаживаются все колебания температуры за всё течение лета. Это менее глубоко, нежели слой, относительно которого имеет реаль-
665
ный смысл изотерма, — слой постоянный во весь год температуры, — или, точнее, верхний из слоев, в которых неизменная температура. — Но все-таки это глубоко, слой изотеры. И чем дальше от экватора, тем глубже. На флору он не имеет влияния: если и достигают до него корни какого растения или, точнее говоря, большого дерева, существование этого дерева обусловливается maximum’aми и minimum’ами колебаний температур воздуха. Одна ночь или один час ночи (это о minimum) или один день, один час дня (это о maximum) погубит дерево, если этот градус много отдалился от крайнего градуса переносимого деревом. (Нет, maximum действует не так быстро, как minimum: чтобы погубить дерево maximum, нужно много часов; но все-таки только часов.) Изотера не поможет. И для дерева довольно одного такого случая в двадцать или тридцать лет, чтобы порода этого дерева или исчезла в той местности, или (если она драгоценна людям и поддерживается ими искусственно) была плоха и, по всей вероятности, служила во вред (экономический), а не в пользу местному населению. — Итак, ботанического значения изотера не имеет. А животные безусловно вне всякого соприкосновения с ее влиянием. Даже и в глубине пещер нет изотеры. Там изотерма. Но где изотерма, там могут ли дышать животные? Я полагаю, там или углекислота, или какой-нибудь газ еще хуже того (да, почти во всякой пещере; но бывают и исключения, конечно). — А для людей, где реальное соприкосновение с изотерой? — Разве когда роют они колодезь. В домах действуют суточные колебания температуры наружного воздуха; они слабее в компактном воздухе, но по быстроте своих периодичностей те же самые. — Довольно, я полагаю. Изотера никакого климатологического значения не имеет (но маленькое абстрактно-термологическое имеет). Переносить ее, будто нечто реальное, на поверхность земли бессмыслица, противоречащая фактам. И чем дальше от экватора, тем громаднее размер этой обычной у климатологов бессмыслицы. Для параллелей Средней Италии он уж колоссален. (Изохимена нуль градусов важна только в абстрактной термологии; в реальной жизни даже и она ничтожна перед линиею появления льда в период — хотя бы одной ночи — в minimum зимнего времени. Это все-таки остается сказано не более сильно, чем следует по справедливости: да, бессмыслицу делают климатологи.) Это выходит, однако, чрезмерно длинно. Брошу. — Поправлю вторую ошибку. Она гораздо хуже первой.
Я говорил, что лучи солнца горячи и при прохладности воздуха. И в пример сказал, что я ощущал боль от зноя в щеке, обращенной к солнцу, при скольких-то градусах холода. Термометра у меня нет. Я определил градусы по впечатлению. — Какую достоверность имеют подобные определения? — Ни малейшей. — Снег не таял; потому что было ниже нуля. Вот все, что достоверно. — Кстати, не вздумайте, мои милые, прислать мне термо-
666
метр. На что был бы он мне? — То же о книгах по климатологии и даже вообще по естествознанию. — Я не натуралист.
Я поправил две ошибки. Помню в тех письмах еще несколько. Ищите и поправляйте сами. Конечно, уж есть и еще будут ошибки и в этом письме. То же и о них, которых не догадаюсь увидеть при перечитывании написанного.
Я не натуралист. Но с молодости твердо держусь того образа мыслей, которого стараются держаться корифеи естествознания, — большинство из них не очень-то успешно, хоть усердно стараются.
Изложу в нескольких словах мои общие понятия о природе.
То, что существует, называется материею. Взаимодействие частей материи называется проявлением качеств этих разных частей материи. А самый факт существования этих качеств мы выражаем словами «материя имеет силу действовать» — или, точнее, «оказывать влияние». Когда мы определяем способ действия качеств, мы говорим, что мы находим «законы природы». — О каждом термине тут ведутся споры. Но реальное значение этих споров — нечто совершенно иное, чем серьезное сомнение относительно фактов, обозначаемых сочетаниями слов, в которые входят эти термины. Это или пустая схоластика, щегольство грамматическими и лексикографическими знаниями и талантами, и силлогистическими фокусами; а если не так, то: в оспоривающих эти термины и эти сочетания терминов (эти или равнозначительные им) управляет словами какое-нибудь не научное, а житейское желание, обыкновенно своекорыстное; а у защищающих эти термины и их сочетание — охота вести спор об этих терминах не больше, как наивность, не догадывающаяся, что спор — или пустословие, или должен быть перенесен от этих терминов и их сочетаний на анализ реальных мотивов, по которым нападают на эти термины и эти их комбинации противники их.
Пример, как должен быть веден спор.
А. — Вы утверждаете, что материею называется то, что существует. Это неосновательно. Я называю то, что существует (следует какое-нибудь другое слово; положим «субстанция»).
Б. — Это будет спор о словах. Называйте, что вам угодно, как вам угодно. Только будем условливаться, что вы понимаете под употребляемым вами словом.
И если натяжка, нравящаяся этому А., будет иметь реальный смысл, — например, если под словом «Субстанция» он хочет понимать лишь, положим, газы, отрицая реальность капельно-жидкого и твердого состояний, то надобно будет сказать ему: хорошо, только вы спорите не против того, что было говорено мною о смысле слова «материя», а против реальности капельно-жидкого и твердого состояний. Спора об этом вести не стоит. Он пустословие. Если вы того не понимаете, обратитесь к чтению книг о физике. — А если (как у Спинозы) субстанция — все существующее, то на-
667
добно сказать: «Извольте, г-н А., будем употреблять слово субстанция, если вам оно нравится. Но помните, что вы приняли для него определение, по которому оно обозначает все существующее».
Это о споре, которого не стоит продолжать, потому что он относится лишь к словам.
А вот другой вид спора — спор не о словах, а о чем-нибудь реально важном.
А. — Вы говорите, что материею называется то, что существует. Я не знаю, существует ли что-нибудь.
Б. — Э, да вы скептик. Продолжайте. И мы увидим, из каких мотивов происходит ваш скептицизм. Скептицизма вашего я разбирать не буду. Но мотивы его анализирую.
А. — Я не знаю и того, скептик ли я.
Б. — Продолжайте. Того, что вы не знаете, скептик ли вы, я разбирать не буду. Но мы увидим, и я анализирую мотивы, по которым вы сказали, что вы не знаете, скептик ли вы.
Кстати о скептицизме. Это слово ныне в моде у натуралистов. Но они сами не понимают, о чем они говорят, толкуя о своем скептицизме. Никто из них не скептик. Последний серьезный скептик был Паскаль. Это было у него, бедняжки больного и к тому же запуганного и одураченного его родными и друзьями, — янсенистами, патологическое состояние души. — Янсенисты были, конечно, менее шарлатаны, чем иезуиты, но и они были хороши. Прочтите у простяка Паскаля историю его —сестры, кажется, или кузины, что ли, — ребенка, посредством которого янсенисты дурачили публику.
Но о скептицизме, когда придется, после. — Продолжаю пример, как должен быть веден тот спор.
А. — Я не знаю, существует ли что-нибудь. Я не знаю даже и того, говорю ли я или нет, что я не знаю, существует ли что-нибудь; это потому, что я не знаю, существую ли я.
Б. — Продолжайте. — И все одно и то же «продолжайте», — пока из-под маски скептика выкажется лицо — обыкновенно, обскуранта. — Тогда и пойдет разговор о системе, защищаемой мнимым скептиком. Не о том, например, существует ли нечто, или должно ли это нечто считаться материальным или нематериальным, или должно ли оно называться субстанциею или как-нибудь еще иначе, а — просто-напросто о том, шарлатаны ли, или нет, были янсенисты. (Это если спор был бы с Паскалем и если бы Паскаль в те часы, когда идет разговор, не нуждался больше в какой-нибудь лавровишневой воде для успокоения нервов, чем в разоблачении шарлатанства родных и друзей, расстроивших его нервы своими экстатическими фокусами. — Но Паскалей ныне, кажется, нет ни одного между натуралистами, — ни по силе гения, ни — это хорошо, что в этом отношении нет, — по патологическому состоянию души. (Разве Уоллэс, Wallace. Но, во-первых, Уоллэс и его компаньоны по спиритизму остаются здоровы, а Паскаль весь из-
668
мучился; во-вторых, Уоллэс не первоклассный гений, Крукс и вовсе не особенно гениален (а Вагнер и Бутлеров — научная мелюзга). В-третьих, спиритизм — далеко не так нелеп, как янсенизм. В нем лишь один из догматов, которых много в янсенизме. И спиритизм — желание видеть занимательные фокусы, дурачиться. Янсенизм — это не кукольная комедия, а страшно серьезная трагедия, в которой шарлатаны действуют не по самобытному влечению к обиранию денег мелочными суммами, — вроде прежних делателей золота — как действуют медиумы; нет, в янсенизме шарлатаны были только прислугою людей, имевших тенденции Торк[в]емады. — Прочтите переписку Лейбница с тогдашним главою янсенистов (Арно, что ли) — этот янсенист готов задушить Лейбница, который всеми силами ума старается извинить себя, что не переходит в католичество, и всячески хвалит католичество. Янсенист твердит свое: ты еретик, тебя ждет ад). Нынешние натуралисты, когда их слово «скептицизм» не пустое слово, хотят, лишь не умеют правильно сказать, бедные, что сбиты с толку теориею световых колебаний, производящих впечатление красного, оранжевого и т. д. цветов. Об этом после. Но и теперь вы видите, мои друзья, что неуменье понять какой-нибудь отдельный вопрос оптики — дело мелочное. — Не знать, как звали пра-пра-бабушку Нумы Помпилия, вещь очень возможная. И откровенно скажу: я этого не знаю; и, полагаю, вы не знаете. Но от этого, — впрочем, очень прискорбного, — пробела в наших знаниях далеко до надобности повергаться в отчаяние за науку ли вообще, или в частности за римскую историю, — за разум ли человеческий вообще, или за наши личные — большие ли, маленькие ли, но все-таки какие-нибудь умственные и нравственные силы. Мимоходом скажу, что натуралисты напрасно и воображают, будто световые колебания эфира превращаются в цветовые впечатления. Цветовые впечатления — это те же колебания, продолжающие итти по зрительному нерву, доходящие до головного мозга и продолжающие совершаться в нем. Превращения тут никакого нет. Потому нет и неразрешимости в вопросе: как происходит это превращение? — Ответ прост: оно не происходит никак, потому что его нет; оно — фантастическая гипотеза, противоречащая факту и потому фальшивая, долженствующая быть брошенной. — Это мимоходом. Возвращаюсь к главному предмету речи.
Естествознание изучает материю и способы действия существующих в ней качеств. О материи оно старается узнать факты; в изучении способов ее действия оно старается находить формулы законов природы.
Из вопросов, которые относятся к узнаванию фактов о существующем (о веществе, материи), скажу мои мысли только по двум, оставляя другие, быть может и более важные вопросы этого рода до другого раза. — Вся ли материя одна и та же материя или существует несколько веществ совершенно разных? — Это первый
669
вопрос. Второй: исчерпывается ли вся классификация различных состояний одного и того же вещества теми тремя, о которых говорит физика: газообразным, капельно-жидким и твердым (и разными степенями перехода из одного между этими тремя в другое между ними)?
Первый вопрос, как находят достоверным или правдоподобным решать химики, так я и принимаю их решение. О той поры, как изгнаны из науки алхимические фантазии и подобные им фантазии о невесомых жидкостях (теплороде, электричестве и т. д., как об особых телах), в ученых нет, сколько мне кажется, склонности выдумывать по этому вопросу какой-нибудь вздор, и рассуждают они об этом не безошиб[оч]но, разумеется; без ошибок никакое дело не обходится, если оно очень обширно, но рассуждают, как прилично рассудительным людям. — Нашли они вот столько-то тел, которых не могут разложить, — говорят они: вероятно, есть и другие такие же тела, которых они еще не нашли; а из найденных ими некоторые, которых они еще не сумели разложить, вероятно, будут разложены ими или их преемниками. Все это правильно. — Хотите, чтоб я посмеялся над собой? Я люблю это, и мне давно хочется доставить себе это удовольствие. — Откровенно говорю вам, друзья мои: очень огорчило меня то, что линии азота найдены в спектре таких звездных ли туманов, туманных ли звезд, чего ли другого такого, в таком спектре, где линий очень мало, и все они принадлежат веществам такого разряда, как водород, — веществам, по степени своей вероятной способности не поддаваться разложению, стоящим очень высоко над разрядом тел, разложение которых считают правдоподобным и даже близким химики (например, та группа металлов, один из которых железо; или та (другая), в которой золото, платина, иридиум). Я ожидал, что разложат азот, как разложили воду.) Водяные пары сходны с азотом в том, что не очень-то стремятся входить в химические соединения; в этом отношении азот подобен золоту или по крайней мере серебру. — А спектральный анализ, кажется, свидетельствует, что он нечто имеющее очень высокую степень первобытности, как водород.
Есть гипотеза у химиков, что все простые тела — разные степени сгущения одного и того же материала. Водород, в этой гипотезе, считается (или, по крайней мере, до спектрального анализа, открывшего какой-то очень легкий другой газ в солнце, — так, что ли? — и называется это helium (гелиум), что ли? — или я перезабыл? — говорю: водород считается или прежде считался (в той гипотезе) или первобытным веществом, сгущение которого — все другие так называемые простые тела, или хоть первою степенью сгущения другого газа, еще более легкого, которого мы в его первобытном, несгущенном состоянии не знаем. — Так я изложил гипотезу? или не сумел припомнить ее хорошенько? Все равно, когда-то я порядочно понимал эту гипотезу, и она казалась
670
мне правдоподобной. — Но даже относительно такой широкой гипотезы, для моего образа мыслей «да» или «нет» — пусть будет, как находят специалисты. — В мой образ мыслей входят, как существенные черты его, лишь истины гораздо более простого характера и гораздо более широкого объема; истины, подобные постулятам геометрии, то есть основным фактам существования, рассматриваемого со стороны качества иметь какое-нибудь протяжение (это качество можно назвать, пожалуй, пространственность). — Эти широкие и давно всем известные истины, не видоизменяясь сами, принимают, как обогащение своего содержания, всякое новое достоверно доказанное открытие. В пример приведу один из фактов, приобретенных наукою после той давней поры, когда установился мой образ мыслей.
Что такое солнечный свет? — Во время моей молодости считали наиболее правдоподобным, что он производится электричеством. И я склонялся считать эту гипотезу очень вероятной. Теперь достоверно найдено: это свет раскаленного тела. — Так, когда так. Это знание очень важное. Но для моего образа мыслей индиферентно то, что прежде мы не имели, а теперь приобрели это знание. Это похоже на то, что никакие успехи геометрии не изменяют основного понятия о трех измерениях пространства.
Пора отправлять письмо на почту. Жму ваши руки, мои милые друзья. Будьте здоровы.
Ваш Н. Чернышевский.
(Так как не успел я написать о втором вопросе в этот раз, то скажу коротко: исчерпывается; теплород и другие невесомые жидкости уж брошены. Остается «невесомый» эфир; но его невесомость — нелепость. Он или не существует, или относится как-нибудь, положительно или отрицательно, к силе взаимного притяжения материи. Я расположен думать, что вещество междузвездного пространства имеет обыкновенные качества газа, и только всего; и что особого «эфира» нет нужды предполагать; имя, пожалуй, можно и сохранить, но будем помнить — это нечто одноразрядное с водородом, кислородом, — всего вероятнее, просто-напросто это тот же водород или что-нибудь очень близкое к водороду по своим физическим качествам (химические могут быть не такие; у кислор[од]а не те же они, как у водорода; у азота опять иные. Но физические — те же самые.)
578
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 19 августа 1876.
Милый мой дружок Оленька,
Пишу лишь несколько строк, как обыкновенно делаю, когда письмо отправляется через довольно большой промежуток времени после прежнего. Не помню чисел, но кажется, что в прошлый раз
671
почта отправлялась около середины июля и что, таким образом, с моего прежнего письма прошло больше месяца. Летом обыкновенно и бывает здесь так: почта ходит редко, потому что ехать ей трудно; колесного пути отсюда до Якутска нет, и ездят верхом. Это и для здешних привычных к верховой езде людей все-таки тяжело; и, разумеется, необходимо щадить почтальонов, посылать почту лишь по мере неотлагательной надобности.
Лето здесь было сухое, хорошее. Я усердно пользовался им и продолжаю пользоваться: с утра до ночи провожу время на открытом воздухе. Скучно это мне, любящему кабинетную жизнь. Но полагаю, что это хорошо в гигиеническом отношении, потому одолеваю свою леность прогуливаться и брожу по опушке леса и по берегу реки. Брожу и хвалю себя за заботливость делать полезное для здоровья, хоть оно и нисколько не нуждается в заботливости о нем. Оно у меня превосходное.
Заботься ты о своем здоровье столько же, и порадуешь меня, моя милая голубочка.
Живу я хорошо. Денег у меня много. И всяких надобных вещей тоже. Прошу тебя и детей, не присылайте мне ничего.
Напоминаю тебе, моя радость, постоянную мою просьбу: отправляйся на зиму в Италию.
Целую детей.
Крепко обнимаю и целую тебя, моя радость, тысячи и тысячи раз. Будь здоровенькая и старайся быть веселенькой, и все будет прекрасно.
Твой Н. Ч.
579
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 15 сентября 1876.
Милый мой дружочек Оленька,
Я получил твои письма от 2 и от 17 июня. Благодарю тебя за них, моя радость. Саша тотчас по окончании своих экзаменов известил меня об этом своем успехе особым письмом от себя; число на нем он, как достойный сын милого родителя, умудрился не отметить.
Я совершенно здоров и живу очень хорошо. Прошу тебя и детей: не присылайте мне ни денег, ни вещей; у меня большие запасы всего и денег много.
Возвращаюсь к твоим письмам.
Хорошо, что Саша разделался с экзаменами. И приятно, что он сдал их очень успешно. Как-то будет устраиваться теперь его карьера?
Поздравляю Мишу с переходом в 6-й класс.
Ты говоришь: детям приятно, когда я пишу им. Эти твои слова заставят меня, вероятно, писать им чаще, нежели делал я прежде.
672
В этот раз пишу и обоим им вместе и каждому особо. Все это вместе составило бы, вместе с письмом к тебе, больше лота; потому, вероятно, придется вложить письма к ним в другой конверт, если не удосужусь найти почтовых марок.
Ты растолкуй детям, друг мой, что если я редко писал им, то не по недостатку охоты рассуждать с ними об ученом вздоре, а просто потому, что не был уверен, нужна ли им эта скучная корреспонденция. Я знаю о себе, что я способен утомлять учеными рассуждениями не то что юношей, а пожилых людей, записных ученых.
Теперь о том, что важнее всего на свете для меня, о твоем здоровье, моя милая голубочка.
Ты отправилась на Кавказские воды. Это прекрасно. Это радует меня. Но хоть Кавказские воды хороши, удобства жизни на них, я полагаю, еще не устроены так хорошо, как, например, в Карльсбаде. Я говорю о Карльсбаде потому, что ты пишешь: ты пила карльсбадскую воду. А при пользовании минеральными водами очень важна удобная, приятная обстановка жизни. На следующий сезон не было ли бы полезно для тебя предпочесть Карльсбад Кавказу? Ответ требует медицинского знания, которого у меня нет. — Прошу тебя основательно посоветуйся об этом с медиками. В Карльсбаде ты, быть может, провела бы время приятно: там много хороших развлечений; и местность кругом богата прекрасными ландшафтами, для прогулок по которым все приспособлено очень удобно и мило. И еще важнее ландшафтов: общество там более разнообразное, более живое, чем на Кавказе, и — это самое лучшее преимущество — более просты те люди, менее чопорны, менее способны надоедать, более способны быть приятными знакомыми. Твои медики, я полагаю, знают, что для человека с таким живым темпераментом, как у тебя, скучное общество — большая помеха здоровью, хорошее и приятное общество — большое подспорье леченью. Попроси их хорошенько взвесить все эти соображения и подумать: не будет ли для тебя, — как ни хороши сами по себе Кавказские воды, — Карльсбад полезнее Кавказа?
И кстати, что пришлось заговорить о том, что тебе скучны твои знакомства. Извини, если я несколько оскорблю твою привязанность к родной стране и родной нации. Русские — хорошие люди; их любят и чужие, когда привыкнут жить с ними; тем больше нельзя не любить их нам с тобою, русским же. Они прекрасные люди. Но они еще недавно стали цивилизоваться, и в их обычаях еще много остается такого, от чего стараются они отвыкнуть, но не все успевают отвыкнуть. Я говорю о чопорности, о неуменье проводить время приятно для самих себя и для других. Русские балы — это, по отзывам иноземцев, не балы, а выставки нарядов; как бывало везде триста лет тому назад, так отчасти остается у нас и теперь. Когда не бал, а просто соби-
43 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
673
рается много людей провести вместе вечер в чьем-нибудь салоне, хозяйка и хозяин не умеют занимать гостей, гости не умеют вести между собой разговор: все натянуто, неловко, утомительно. Это опять-таки — старинный московский церемониал взаимного оглядывания нарядов, а не собрание людей, думающих лишь о том, чтобы приятно шло время. Или возьмем театры. — Театр везде немножко выставка нарядов. Но не в такой же степени, как у нас, публика других стран собирается в театр не для слушания спектакля, а для щегольства нарядами. — Что в многолюдных собраниях, то и в свиданиях между знакомыми: церемонии, чванство, и потому — утомленье, скука. Нет народа, совершенно избавившего себя от этих недостатков. Но чем старше нация в цивилизации, тем меньше осталось у нее церемонной скуки. И общество итальянцев, французов, даже немцев менее утомительно, более простодушно, чем русское. У англичан склад обычаев иной, чем у континентальных наций; без привычки к нему английское общество покажется чопорнее, утомительнее русского. Но то совсем иной склад обычаев. На континенте от Лиссабона до Москвы и Казани и, пожалуй, хоть до Амура, обычаи в сущности одни и те же у всех людей образованных сословий. Разница лишь та, что в одной стране эти хорошие обычаи более привычны, в другой менее. Итальянское общество точно такое же, как русское, только более русского привыкло держать себя так, как желает держать себя и русское общество.
Потому итальянские знакомые менее утомительны, более приятны, чем русские.
К чему все это? — А все к тому же, о чем я постоянно прошу тебя: тебе надобно проводить зимы в Италии. Значительная часть твоего нездоровья происходит от утомления обществом. В итальянском обществе ты будешь отдыхать от скучности русского. Ты сама знаешь: это очень важная польза.
Но главная, ничем незаменимая для тебя польза проводить зимнее время в Италии, — это климат. Снова стану говорить о нем. — В прошлом письме я сделал большую ошибку, слишком дурно отозвавшись о зимнем времени в Ницце. Ниццу чрезмерно хвалили. И когда медики получше разобрали климат Ниццы зимой, они стали жестоко нападать на него для опровержения прежнего излишнего предубеждения в его пользу. У меня и осталось от этих нападений воспоминание, что он плох. Да, не хорош. Но все-таки лучше, нежели зимний климат в Ломбардии, о котором я говорил снисходительнее, чем о нем. Ницца зимою едва ли не лучше даже и Флоренции, не только ломбардских местностей, которые я перечислял. Впрочем, по ходу моих рассуждений эта ошибка не относится к сущности дела: я в том письме вел все к тому, что ни Северная, ни Средняя Италия не имеет зимой удовлетворительного климата: пусть Ницца не хуже, пусть и лучше Флоренции, все-таки в Ницце и во Флоренции зимой холодно.
674
Тепло лишь в Южной Италии, а еще лучше, почти совсем хорошо — в Сицилии. Португалия, начиная с Лиссабона, и южный край Испании еще лучше: то уж вовсе хорошо. Но — то далекие места. И можно, если показалось бы тебе слишком далеко ехать туда, удовольствоваться Сицилиею, или даже хоть Южной Италиею. — Крымом нельзя удовлетвориться: крымская зима менее хороша, чем даже ломбардская. Летом в Крыму жарче, нежели в Палермо; зимою холоднее, чем в Милане или Венеции.
Порадовала ты меня тем, что сказала: Крым понравился тебе, и ты нашла, что жить там было полезно тебе. Решись же попробовать пожить зимою в Сицилии; — понравится лучше Крыма и будет уж в гораздо большем размере полезно. Прошу тебя, моя милая голубочка: сделай это, решись, отправляйся с Кавказа по окончании курса вод прямо в Южную Италию или Сицилию.
Не мог ли бы ехать с тобой Саша? — Писать свою кандидатскую диссертацию мог бы он и там. Это такая работа, которую одинаково удобно исполнить где бы то ни было. А если бы новизна и живописность местности, разнообразие новых впечатлений, приятность итальянских обычаев, южная манера проводить время без дела, — если бы все это и отвлекло его от работы над диссертациею, убыток был бы не велик для него: полгодом позже кончил бы, только и всего. А зато приобрел бы побольше знания жизни, что важнее всяких диссертаций.
Как же сделаешь, моя милая Лялечка? Поедешь на зиму в Южную Италию? — Пожалуйста, моя голубочка.
Целую детей. Письма к ним вышли так объемисты, что вкладываю в другой конверт те листы.
Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя радость. Будь здоровенькая и веселенькая, — а чтобы быть такой, поезжай в Южную Италию; — пожалуйста, порадуй меня, исполни мою просьбу.
Целую тебя, моя Лялечка.
Твой Н. Ч.
580
А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
Вилюйск. 15 сент[ября] 1876.
Милые мои друзья Саша и Миша,
Возобновляю мою беседу с вами об ученых вещах.
В прошлый раз я сделал характеристику моего образа мыслей по отношению к естествознанию. Она была не длинна, — всего пять, шесть строк. Но можно, не уменьшая полноты ее, формулировать ее еще гораздо короче. Например, так:
То, что существует материя. Материя имеет качества. Проявления качеств — это силы. То, что мы называем законами природы, это способы действия сил.
43*
675
Это мой образ мыслей. Но мой он лишь в том смысле, что я усвоил его себе. Лично мне ровно ничего не принадлежит в его разработке. В мое молодое время, когда формировались мои понятия, натуралисты, за немногими исключениями, были враждебны этому образу мыслей, и я приобрел его не от них, а наперекор им. Теперь почти все они стараются держаться его. Но вообще они еще плохо усвоили его себе.
В прошлый раз я хотел, сделав общую характеристику моего образа мыслей, изложить мои понятия о важнейших из специальных вопросов естествознания и успел коснуться двух: 1, однородна ли материя? — я отвечал: химики рассуждают об этом правильно; 2, можно ли допустить, что эфир — невесомое вещество? — я отвечал: нельзя, потому что ничего невесомого не существует и не может существовать.
Не знаю, вздумается ли вам, чтоб я продолжал такой обзор специальных вопросов естествознания. Если захотите, то буду. Не захотите, то не нужно.
А что касается до моих личных склонностей, то естествознание никогда не было предметом моих ученых занятий. Я всегда интересовался им лишь настолько, насколько того требовала какая-нибудь надобность разъяснить какое-нибудь обстоятельство по какому-нибудь предмету моих ученых работ, прямым образом относившихся исключительно к нравственным наукам, а не к естествознанию.
Надобности эти состояли не в том, чтобы естествознание помогло разъяснению дела, а только в том, чтобы устранить затемнение дела, производимое неудачными аналогиями, заимствованными из естествознания, или фальшивыми понятиями натуралистов, или невежеством специалистов по данной отрасли знаний. Например, историки постоянно переносили и продолжают переносить на понятие о нации понятия о росте и увядании дерева. Никакие ботанические аналогии ровно ничего не могут разъяснить в истории. Все они — чепуха. Но чтоб устранить эту глупую аналогию «нация растет и увядает, как дерево», надобно же иметь понятие, что такое «дерево». И окажется, пожалуй, что иное дерево не имеет никакой физиологической необходимости когда-нибудь «увянуть». Дуб или сосна увянет когда-нибудь, если и не будет сломана ветром. Но что за необходимость увянуть когда-нибудь той индийской смоковнице, которая разрастается в целую рощу? — Правда, аналогия нации и с нею — тоже чепуха. Но доказать говорящему чепуху, что из их же собственной чепухи выходит чепуха совсем иного характера, нежели они утверждают, это иногда годится, хоть для смеха над ними.
Вообще естествознание достойно всякого уважения, сочувствия, ободрения. Но и оно подвержено возможности служить средством к пустой и глупой болтовне. Это случается с ним в очень большом размере очень часто; потому что огромное боль-
676
шинство натуралистов, как и всяких других ученых, специалисты, не имеющие порядочного общего ученого образования, и поэтому, когда вздумается им пофилософствовать, философствуют вкривь и вкось, как попало; а философствовать они почти все любят. — Я много раз говорил, как нелепо сочинил свою «теорию борьбы за жизнь» Дарвин, вздумавши философствовать по Мальтусу. Приведу другой пример.
До сих пор остается во мнении натуралистов «непоколебимою истиною» так называемый «закон Бэра». Он выражается, вы помните, так:
«Степень совершенства организма пропорциональна его дифференциации».
Бэр — великий ученый; далеко не равный Дарвину, с которым чуть ли не спорит, отрицая чуть ли не одно только то, что совершенно справедливо у Дарвина: трансформизм; но хоть и не равный Дарвину, все-таки великий ученый. Великий, да. И его «закон», как теория Дарвина, имеет в себе кое-что совершенно справедливое: организм моллюска менее дифференцирован, чем организм рыбы; дифференциация в млекопитающем еще больше, чем в рыбе. Это так. Но почему ж бы это считать не случайным совпадением фактов, а законом природы? — Потому, говорит Бэр, что при разделении функций между разными органами каждая функция будет совершаться лучше. — Так? А это почему ж так? Ни зоология, ни ботаника, ни физиология не в состоянии объяснить, почему так. Откуда ж узнал Бэр, что это так? — Из книги Адама Смита. Там доказывается, что для успешности, например, выделки гвоздей, булавок и игральных карт полезно, чтобы отдельные фазисы производства, например, булавки, были разделены между разными работниками. — О булавках это, положим, правда. Но что из того следует, например, о глазе млекопитающего? — Вот что:
Зрение — чувство сложное. Мы видим 1, очертание фигуры; 2, цвет.
Если работник делает и стерженек и головку булавки, одно дело мешает другому; надобно разделить их по разным людям.
Глаз млекопитающего, когда видит цвет фигуры, то не отвлекается ли этим от наблюдения формы фигуры? Когда глаз не различает цветов, то не более ли способен он наблюдать очертание фигуры? — Вы знаете, есть люди, не различающие некоторых цветов; этот порок глаз, вы знаете, называется дальтонизмом. Если дальтонизм абсолютный, то глаз видит все предметы одноцветными, например, серыми. Глаз такого устройства не наиболее ли хорош? — По закону Бэра, да.
Что же такое закон Бэра? — Неудачная формула, без критики перенесенная из политической экономии в зоологию и ботанику. — А реальный закон, наполовину выражаемый, наполовину искажаемый этой неудачной формулой, в чем же состоит?
677
Относительно ботаники я не знаю. Но относительно зоологии, дело просто.
Как скоро в организме есть нервная система, главная норма для определения степени совершенства этого организма — степень развития нервной системы. А степень развития нервной системы легко ли определить анатомическими или вообще морфологическими способами? Нет, это во многих случаях труд, еще превышающий наши силы. Но функции нервной системы наблюдать легко; и сущность достоинства нервной системы данного животного — в этих функциях. Выше ли дифференциирован организм слона или лошади, чем организм барана или коровы? — Нет, я полагаю. Но лошадь умнее барана; лошадь организм более совершенный. Это главный критериум. Придаточный критериум: степень способности всего остального организма служить требованиям нервной системы. Из двух пород лошадей, равных по уму, та порода совершеннее, которая имеет мускулы более сильные и неутомимые. — О мускулах это лишь так подвернулось мне под перо. Второстепенных критериумов много, не одни мускулы; тоже и способность желудка переваривать пищу, и способность органов движения передвигать организм (у лошади это будет степень крепости копыт) и степень здоровости всего организма (это вообще будет, я полагаю, степень устойчивости крови в нормальном своем составе) и т. д., и т. д. — Но все это критериумы физиологические, а не морфологические, которые одни захватываются законом Бэра и которые находятся, правда, в связи с физиологическими, но прямого значения ровно никакого не имеют ни для кого, кроме живописцев и всяческих других любителей артистического созерцания.
Это пусть будет примером того, как вообще думаю я о нынешнем состоянии естествознания. Оно — путаница здравых научных понятий с понятиями, которых без разбора нахватались натуралисты откуда случилось.
И пока довольно о естествознании. И конец этому письму к вам обоим вместе. Если успею, напишу еще по письму каждому врознь. Не успею, то до следующей почты.
581
А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
Вилюйск. 15 сент[ября] 1876.
Милый мой друг Саша,
Поздравляю тебя с окончанием курса. Твоя маменька пишет, что ты сдал экзамен с большим успехом, чуть ли не с блеском. Что ж, это хорошо. А еще лучше того, твоя скромность: сам ты ничего об особенной успешности твоих экзаменов не пишешь. — Экзамены — формальность, ровно ничего не доказывающая, это я говорил тебе прежде и повторю, — хоть теперь это уж и не лю-
678
безно с моей стороны, — а все-таки повторю: они — формальность, успех или неуспех в которой не имеет серьезного научного значения. Но воспоминание об успехе в деле, — пусть и формалистическом только, — всегда приятно и для самого получившего успех, и для его родных. Потому при всей индифферентности моей к свидетельству экзаменационных цифр и фраз все-таки мне приятно, что они у тебя очень хороши.
Ты пишешь, что осенью думаешь кончить диссертацию на степень кандидата. О содержании ее я не могу судить, разумеется. Помнится мне только, что я читывал, будто «теория числ» одна из самых важных частей высшей математики и чуть ли не одна из тех, которые наиболее нуждаются в разработке. — Но диссертации на степени это опять лишь формальности. Чрезмерно долго работать для исполнения формальности было бы, я полагаю, не расчет; полагаю, и ты так же думаешь. Пусть диссертация будет хороша, — и довольно того. Если у тебя в мыслях есть большие, долгие исследования по предмету твоей диссертации, то из-за них едва ли надобно отсрочивать завершение дела о кандидатстве: диссертация может обойтись и без них, а они могут составить предмет особых мемуаров для помещения в бюллетенях ли Академии наук, для другого ли какого подобного сборника, для отдельной ли книги. Наука бесконечна; в ней всегда бывает по поговорке: дальше в лес, больше дров; а исполнение житейских формальностей должно быть хорошим, но не должно быть предметом чрезмерной работы.
Относительно выбора житейской карьеры ты еще ничего не решил, говоришь ты, но думаешь, что склонишься быть или строительным инженером, или горным инженером. Обе карьеры хороши. О том, которая предпочтительнее, я не могу судить. Я и никогда не знал хорошенько, а теперь еще меньше знаю, каковое специальное состояние разных отраслей инженерства в русской жизни. Сколько помнится по прежним моим, не близким и, вероятно, довольно ошибочным впечатлениям, горное инженерство в русской жизни не имело такого широкого применения, как инженерство строительное, занимающееся дорогами, мостами и всяческою гидротехникою. Мне воображается, например, будто бы я слыхивал, что развитие горного искусства во Фрейбурге представлялось русским горным инженерам как нечто идеальное, не существующее и даже недостижимое русскому горному делу. А в те же годы строилась Петербурго-Московская железная дорога русскими инженерами так хорошо в техническом отношении, как нельзя было бы лучше требовать и от английских инженеров. Тут было, я полагаю, немножко хвастовства; но, вероятно, не очень много; в техническом отношении, Пет.-Моск. дорога построена, кажется, действительно очень хорошо. С той поры строительное инженерство в России стало, я полагаю, еще лучше. Улучшилось ли горное, не знаю. Это о научном достоинстве того и другого
679
дела. А с житейской стороны, мне воображается, что в строительных инженерах русская промышленность более нуждается, чем в горных, и что поэтому деятельность хорошего, честного инженера по железнодорожному делу обеспечена вернее и шире, чем по горному делу. Но так ли? — не знаю. А главное, выбор той или другой карьеры — результат личных склонностей и личных знакомств. Какие они у тебя, не знаю и не могу судить. Уверен только в том, что какой бы выбор ни сделал ты, ты сделаешь его основательно и хорошо.
Каким порядком приобретаются формальные права на деятельность инженера, — посредством ли экзаменов только, или, кроме экзаменов, требуется диплом о слушании технических курсов в продолжение определенного времени, — я не знаю. Но, каковы бы ни были формалистические условия этого, реальные технические знания все-таки важнее всего для хорошей деятельности техника. — Я говорил, что не знаю, до какой степени высоко научное развитие горной техники в России. Но каково бы оно ни было, каменноугольные и железные шахты и штольны не только в Англии, но и во Франции, в Бельгии, на Рейне, в Штирии имеют размеры, каких нет, я полагаю, в России. И, вероятно, изучение горного дела в тех странах дает инженеру более серьезную опытность. О строительном инженерстве, я тоже полагаю, что при всей высокости техники у нас, не только наши, но и немецкие, французские, даже дивные австро-итальянские альпийские железнодорожные сооружения и даже тоннели сквозь Мон-Сени и Сен-Готар при всей их колоссальности далеко уступают техническим совершенством английской железнодорожной техники. Я полагаю, даже парижские концы французской сети дорог далеко не должны выдерживать, — и сомневаюсь, могли ли бы выдержать такое количество таких быстрых поездов, какое выдерживают дороги между Ливерпулем и Манчестером, северно-английскими или уэльскими каменноугольными копями и гаванями тех мест и, в особенности, лондонские концы английской сети дорог. — Не знаю, окажутся ли у тебя денежные средства на изучение инженерной техники в местах ее наибольшего развития. Но если б это было возможно, это было бы хорошо.
Я все говорю о технической стороне инженерства. Ты, повидимому, наиболее заинтересован научной, математической стороной его. Разумеется, и мне, совершенному невежде в обоих отношениях, все-таки ясно, что математические формулы и теоретические исследования дают инженеру наибольшую силу даже и в разрешении чисто технических задач. Мне помнятся примеры, — кажется, английские и немецкие, — как инженеры, сильные в математике, строили мосты с затратой лишь одной трети материала, более прочные мосты, чем какие проектировались рутинными инженерами, требовавшими на постройку громадные массы камня и железа, лишь в ущерб прочности моста, стеснявшие ре-
680
ку и обременявшие полотно постройки. Тем еще больше очаровывали меня способы сооружений, небывалые, находимые при помощи формул, — вроде трубчатых мостов или расширения пролетов между арками через замену рутинной линии арки другою, более близкою к математическому идеалу линии натурального изгиба. — (Так, что ли? Линия арки — это перевернутая вверх линия натурального изгиба? — Впрочем, если я, как я сам полагаю, не понимаю, в чем тут дело, ты не трудись объяснять мне: все равно не пойму, что такое линия арки. Да и на что мне понимать это? — Это вовсе не мое дело.) — И мне воображается, будто бы инженерные формулы вообще требуют еще теоретических усовершенствований. Все так, относительно высокой цены теории. Но мне кажется, ты с достаточною силою чувствуешь ее. И потому я налегаю на важность наглядного знакомства с техникою, практического изучения инженерных фактов.
Впрочем, я все это пишу только для того, чтобы ты видел мое усердие. А я знаю, что ты сам понимаешь отношения теории к технике в инженерстве в тысячу раз яснее, чем я, в теории дошедший до знания четырех правил арифметики, а в практике до уменья отличать известняк от песчаника, но не дошедший до уменья различать железо от стали. Серьезно говорю: иногда ошибаюсь, не умею разобрать железо от белого чугуна или стали. Хороший же советник по инженерной части. Смех. Но усердие всегда похвально.
Жму твою руку, мой друг.
Твой Н. Ч.
582
М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
Вилюйск. 15 сент[ября] 1876.
Милый мой друг Миша,
Ты хочешь, чтобы я написал тебе «о средних веках» и, в частности, «о папстве, о борьбе пап с императорами», а дальше из новой истории о иезуитах. — Изволь.
Не знаю, много ли успею написать. Потому для начала возьму ту из твоих тем, с которой можно покончить в меньшем количестве строк, тему о иезуитах.
Значение иезуитов не ничтожно. Но вообще его преувеличивают.
Иезуиты — преемники доминиканцев. Их важность, как и важность доминиканцев (и других нищенствующих орденов, например, францисканцев), только в том, что папы (или, точнее, римская курия) специально покровительствовали им в ущерб орденам менее воинствующего характера (например, бенедиктинцам, вообще смирным и сравнительно честным), а еще более в ущерб белому духовенству и специально в ущерб епископам. (Ты
681
знаешь, приходские священники, хоть и безбрачные, у католиков не монахи, а тоже, как у восточной церкви, мирское белое духовенство и епископы при посвящении в сан перестают быть монахами, перечисляются в белое духовенство; это у них, как у нас; а многие у них и производятся в епископы не из монахов.)
За что курия покровительствовала иезуитам? — За то же, за что доминиканцам: они были специальными слугами курии. Францисканцы, обижаясь перевесом доминиканцев, а после иезуитов в милостях курии, иногда ослушничали по досаде (помнишь, второй, кажется, генерал франц[исканц]ев даже открыто восстал на курию и был предан проклятию). Но эти ссоры были редки. И вообще франц[исканц]ы были несравненно усерднее к папе, чем белое духовенство или даже и бенедиктинцы, хоть монахи. Но доминиканцы и иезуиты никогда не были во вражде с куриею и во всех делах, важных для нее, служили ей с безусловным повиновением. (Историки говорят о ссорах иезуитов с папами; это они говорят вздор, обманутые комедиею.)
Итак, история иезуитов — история усердных агентов курии; важность их — важность любимых агентов курии. Только. Самобытного значения они не имели. Они хвалились, что имеют его. Это лишь хвастовство. Их противники говорили о них, что они господствуют над куриею. Это клевета на них для оправдания курии — «Курия не виновата, это дурное дело сделали иезуиты»; да, они, но во вкусе курии, с ее одобрения, почти всегда по ее приказанию, и всегда, хоть для своей, но вместе с тем и для ее пользы. Это лакеи, не больше.
Но лакей бывает иногда умнее барина. Да. И даже часто, если лакей выбирается из сотни кандидатов, по конкурсу, за умственные достоинства, он будет умнее хозяина, когда хозяин выбирается по другим соображениям, а не по конкурсу умственных способностей.
Папа выбирается обыкновенно — по расчетам кардиналов господствовать над ним. Генерал иезуитов выбирается за ум. Он часто умнее папы. Но он только лакей курии. Потому-то курия и не опасается того, что иезуиты выбирают своего генерала за ум: они выбирают на лакейскую должность. — А что если умный лакей начнет вертеть барином? — Курия этого не боится: папа без кардиналов — ничто. По громким фразам, папа властелин. Да, но между громких фраз о его власти вставлены в законах курии маленькие оговорки, делающие то, что власть папы ограничена коллегиею кардиналов. Папа — это нечто вроде венецианского дожа. Это давно так; в средние века бывали папы более самостоятельные. Но то было до иезуитов.
Сделаю оговорку. Сравнение с вене[цианским] дожем неудачно. У папы все-таки очень много самостоятельной власти. Но нет нужды: он и коллегия кардиналов — одна душа; не поссорятся и
682
никакому, — не то что иезуиту, а хоть бы самому сатане — не удастся сделать через папу что-нибудь вредное для коллегии кардиналов.
Это об исторической важности иезуитов. Теперь о их правилах. Правила эти — обыкновенные лакейские правила: барин — выше бога; законы божеские ли, человеческие ли — все это пустяки сравнительно с приказаниями, желаниями или выгодами барина. — Так характеризуют иезуитов их противники. И это не клевета на них, это правда. Но специально иезуитского в этих правилах нет ничего; это общие правила лакейства; специально иезуитское у иезуитов лишь то, что они лакеи римской курии, а не какого-нибудь другого лица или коллегиума лиц или сословия.
По специальному характеру их властелина, папы или римской курии, к числу их обязанностей принадлежит быть преподавателями, иметь школы, писать книги. И вот приходится им излагать свои правила изустно и печатно. Это их невыгода сравнительно с другими лакеями, которым нет необходимости раскрывать тайны своих сердец перед аудиториями и читающею публикою. Оттого и лежит на иезуитах явное для всех пятно гадости. А те немые со шнурками для удавления пашей, которые были когда-то у султанов, руководились точно такими же правилами, как иезуиты. Но по счастию для своей репутации были немые. — А кто те паши, которых, правдой ли, неправдой ли, усмиряют иезуиты? — Это епископы. Да, специально — епископы. Католические государи, министры, вельможи могут иногда бывать противниками папы (курии) по какому-нибудь особенному делу. Но вообще государи, министры, вельможи заняты делами, от которых папе (курии) ни вреда, ни пользы: войнами или заботами о сохранении мира, всяческими другими государственными делами, индифферентными для курии. Иезуиты могут бывать иногда врагами какого-нибудь правительства католич[еской] страны. Но вообще они — должны угождать католич[еским] правительствам для поддержания милости этих правительств к их барину, курии. Отношения их к епископам не те. Как ни придавлены епископы куриею, их усердие к ней — вымученное, невольное, озлобленное. Их постоянно надобно обуздывать, чтоб они не взбунтовались против папы (курии); и для этого подле них вертятся в качестве надсмотрщиков и гувернеров иезуиты.
В чем же сущность дела? — Сущность дела — технический вопрос о том, какую организацию имеют агенты римской курии; сущность дела, интересная только для самой курии, да для ее постоянных противников, угнетенных, почти постоянно безмолвных перед нею, но негодующих в душе на свое унижение, католических епископов.
А у всей остальной публики, и в том числе у ученых, болтовня о иезуитах — пустая болтовня о лакеях, когда дело вовсе не в лакеях, а в барине, в римской курии.
683
Так. Это понимают лишь немногие. Но все умные правители знали это всегда: иезуиты — не больше как агенты папы или, что то же, римской курии. Это офицеры папской армии, только и всего. И командует этой армиею не их орденский генерал: он лишь помощник начальника штаба; а начальник штаба — какой-нибудь кардинал, чаще всего тот кардинал, который носит титул «государственного секретаря» (в последние годы это был кардинал Антонелли; генералы иезуитов при нем — Ротан, а потом — как его имя? Бекс? — могли хвалиться своею важностью, могли пускать пыль в глаза чужим, профанам, но Антонелли держал их в ежовых рукавицах). Так было и всегда, с той лишь разницею, что иногда папа бывал умный; тогда командовал армиею не начальник штаба, а главнокомандующий, управлял папа, а не государств[енный] секретарь.
Само собою, мой друг: характеристики многосложных событий и запутанных отношений всегда выходят несколько чрезмерно резкими. Я выставил иезуитов как совершенное ничтожество. Это чрезмерно. Они имели и имеют, — я с того и начал — некоторую важность. Но она невелика.
А шум о них? — шум толпы профанов, не знающих, как идет дело за кулисами.
Вот и все в сущности. Но мне хочется воспользоваться случаем, чтобы высказать правильные, — мало кому совершенно ясные, — понятия о знаменитом подлом правиле, которое приписывается иезуитам и действительно принадлежит им, но не ими выдумано и принадлежит не им одним, а всем тем людям, которые любят поступать дурно, — всем негодяям: «цель оправдывает средства», подразумевается: хорошая цель, дурные средства. Нет, она не может оправдывать их, потому что они вовсе не средства для нее: хорошая цель не может быть достигаема дурными средствами. Характер средств должен быть таков же, как характер цели, только тогда средства могут вести к цели. Дурные средства годятся только для дурной цели; а для хорошей годятся только хорошие.
Например. Если цель — воровство; то — обманывать людей, которых вор хочет обокрасть, это может вести вора к успеху в его деле, воровстве. Но если цель — честно управлять порученным имуществом, то управитель, когда скрывает правду от хозяина, вредит успешности своего управления имуществом. Или: если цель — ограбить Лангедок, тогда резать альбигойцев — средство, могущее вести к успеху в грабеже страны, где живут альбигойцы. Но если цель — благосостояние Испании, то жечь протестантов и изгонять мавров никак не ведет к достижению цели; и все знают: не удалось инквизиторам это средство осчастливить Испанию.
Да, мой милый, историки и вслед за ними всякие другие люди, ученые и неученые, слишком часто ошибаются самым глупым и гадким образом, воображая, будто когда-нибудь бывало или
684
может быть, что дурные средства — средства пригодные для достижения хорошей цели. В этой их глупой мысли нелепость внутреннего противоречия: это мысль подобная таким бессмыслицам, как «четное число есть нечетное число», «треугольник имеет четыре угла», «железо имеет корень, стебель и листья», «человек существо из семейства кошек» и тому подобные нелепые сочетания слов. Все они годятся лишь для негодяев, желающих туманить ум людей и обворовывать одураченных. Средства должны быть таковы же, как цель.
Целую тебя, жму твою руку, мой милый.
Твой Н. Ч.
583
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 25 сентября 1876.
Милый мой дружочек Оленька,
Начну обыкновенным моим известием о себе: я совершенно здоров и живу очень хорошо.
Подумываю немножко о детях. Много думать о них нечего. Миша переходит из класса в класс; — прекрасно, и только всего. Саша кончил курс; — тоже прекрасно и, в сущности, тоже только и всего. Правда, представляется вопрос: как удастся ему устроить свою жизнь? — Но как-нибудь устроится она, и, по всей вероятности, недурно. И заботы об этом у меня очень мало. — Повидимому, он склонялся к решению быть горным инженером. Что ж, и это хорошая карьера. В прошлом письме я рассуждал с ним о горном инженерстве, насколько знаю эти вещи, то есть очень мало. И кстати, прибавлю для шутки: похвались перед нашим ученым сынком, что по части математики и зависящих от нее практических искусств ты имеешь больше учености, нежели я; и в доказательство тому поправь описку, которую, помнится, сделал я в том письме к нему: знаменитая Фрейбургская (как я написал) горная академия действительно знаменита, но она — не Фрейбургская, а Фрейбергская. К числу моих неоспоримых достоинств принадлежат два: перепутывать имена и делать описки. В том письме к Саше я говорил, что железные дороги представляют для инженеров в России больше занятий, чем горное дело. Но, само собой разумеется, я не придаю этому своему рассуждению никакой важности, а высказывал свои мысли о разных отраслях инженерства единственно для того, чтобы не оставить без ответа мысли, высказанные Сашею. Как ему покажется наилучшим решить выбор своей карьеры, так будет лучше всего и по-моему. Уверь его в этом, друг мой.
Но казалось бы мне полезно для него, если бы вздумали вы с ним: пусть он провожает тебя — на эту зиму в Южную Италию, а на следующее лето в Карльсбад. Никакие школьные занятия и
685
никакие работы над кандидатским ли, магистерскими ли или докторскими диссертациями не дают молодому человеку столько пользы, как путешествия. Я положительно советовал бы Саше провожать тебя.
Ты полагаешь, что теперь я возобновлю свое упрашиванье, чтобы ты ехала на зиму в Италию. Разумеется, да: опять и опять буду вести речь об этом моем желании. О детях я думаю немало, но сравнительно с тем, сколько думаю о тебе, очень мало.
Я несколько раз писал тебе, моя милая голубочка, что жить в Италии — не дороже или, справедливо будет сказать более сильно, — дешевле, много дешевле, чем в России. Конечно, в первое время, по незнакомству с местными условиями и обычаями, все новоприезжие в какой бы то ни было чужой город имеют лишние расходы. Но, осмотревшись, ты увидишь сама, что жизнь в Италии дешевле, чем в России. А чтобы скорее ознакомиться с местными условиями, ты купишь себе какой-нибудь хороший Guide, путевую книгу. Кажется, теперь есть такие книги об Италии и на русском языке; может быть, и порядочные (хоть в этом я сомневаюсь). Пусть какая-нибудь из этих книг и считается хорошею. Все-таки она плоха по сравнению с хорошими французскими, тем более немецкими путевыми книгами. Не знаю, отвыкла ли ты от немецкого языка. Если да, то купи себе французскую книгу.
Каким путем ехать, — через Австрию по железным дорогам или из Крыма, из Одессы морем, — об этом я не могу судить. Знаю только, что осенью Черное море бурно. Опасности эти бури не представляют никакой, если пароход хороший. О зиме не помню, бурная ли она на Черном море; полагаю, не обходится и она без бурь. Весной и летом Черное море спокойно, и поездка по нем — милая, приятная прогулка. Средиземное море даже и осенью не очень бурно. — Железные дороги австрийские, я полагаю, хороши. Венгерские хороши ли, не знаю; полагаю, плоховаты. Тоже плоховаты, я думаю, и некоторые из итальянских. Но все ж гораздо менее плохи, чем некоторые из русских, хоть и похуже хороших русских. — Во всяком случае, морем ли, железными ли дорогами, поездка до Южной Италии — путь непродолжительный и удобный.
Я говорю все о Южной Италии. Климат Южной Испании и, в особенности, Южной Португалии еще мягче. Но те страны имеют репутацию скучных захолустьев, удобства к жизни в которых устроены еще очень неудовлетворительно. Дурная молва о них в этом отношении, без сомнения, преувеличена. Но то правда, что там живут чудаки, мало заботящиеся о комфорте. Щеголять они любят, но и наряды у них грязноваты: мыло и вода это — глупость, полагают они. И, кажется, от всех от них на десять шагов разит деревянным маслом и чесноком. Кроме этих своих оригинальностей, они народ хороший, — с тою, разве, оговоркою, что ни португальцев, ни испанцев не стоит называть народами, это не
686
народы, а дрянненькие народишки, вроде мордвы. Смеюсь я над ними; грех это: в сущности, они хорошие люди.
Еще лучше даже Южной Португалии, лучшего по климату уголка Европы, южный берег Средиземного моря, — Египет, Алжирия. Но люди в Египте — омерзение. В Алжирии французы устроили сносную жизнь в тех местностях, где живут сами многолюдными колониями. Кругом этих городов с их дачами продолжается турецко-арабская гадость. Да и в самом городе Алжире половина, населенная туземцами, отвратительна. Но климат зимою прелестный везде в Алжирии, где не бесплодная пустыня.
Я полагаю, вопрочем, что и Южная Италия совершенно восстановит твое здоровье и что поэтому тебе нет необходимости ехать в страны, где жизнь менее комфортабельна.
Это о твоих поездках на зиму. Очень возможно, что после зимы в Южной Италии тебе не осталось бы надобности лечиться. А если бы одной зимы было мало для такого укрепления здоровья и понадобились бы летом опять минеральные воды, то, по всей вероятности, ты сделала бы хорошо, если бы предпочла Карльсбад Кавказу.
Воды на Кавказе, быть может, даже лучше, нежели в Карльсбаде. Но и о воде, которой пользуешься ты на Кавказе, надобно сказать: она хороша, если она продается без фальши, не разбавленная простой водой. Кажется, на Кавказе был в употреблении этот обман. И, быть может, он продолжается; потому что количество воды, даваемой некоторыми из наиболее хороших источников, очень незначительно, так что недостаточно для удовлетворения требований, и чтобы продавать, сколько желают посетители, прислуга разбавляет целебную воду простой. В Карльсбаде, я полагаю, этого обмана нет; потому что наилучший целебный источник там — очень обильный родник; он дает гораздо больше воды, чем можно израсходовать; большая часть ее льется через край, течет дальше ручьем, как обыкновенная речка. Там избыток воды. А на Кавказе, кажется, недостаток в ней.
Климат той части Богемии, где Карльсбад, летом хорош. Местоположение Карльсбада очень красиво. На Кавказе оно еще лучше: но остается неприс[пос]облено к удобству жизни, к приятности прогулок. А кругом Карльсбада все устроено превосходно, и прогулки там — завлекательное удовольствие. Это очень важно. В пользовании минеральными водами половину пользы приносит не сама вода, а хорошая сельская обстановка жизни, с постоянными прогулками и хорошими развлечениями под чистым небом; в Карльсбаде всего этого много и все это хорошо.
А расходы там — я не знаю, но, полагаю, несравненно меньше, чем на Кавказе.
На этот раз довольно. Я полагал, что почта отправлена будет еще нескоро. Потому не приготовил писем к детям. Прошу их простить мне мою леность, заставившую меня все отлагать со дня на
687
день приготовить письма к ним. Успею написать до отправления почты, то напишу им; нет, то нет. Ученые рассуждения не стоит писать в нескольких строках. Напишу, то напишу опять много страниц.
И — целую моих милых Сашу и Мишу.
Крепко обнимаю тебя, моя милая радость, и целую тысячи раз твои руки. Будь здоровенькая и старайся быть веселенькой, и все будет прекрасно.
Твой Н. Ч.
584
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 7 октября 1876.
Милый мой дружочек Оленька,
Вот опять представился случай послать письмо к тебе. Мне кажется, я говорил тебе, что это бывает здесь, как придется: иногда новое отправление почты бывает нескоро после прежнего, иногда скоро. Почтовый срок сам по себе нечастый: лишь один раз в два месяца. Но, кроме этого, бывают случаи приезда сюда, отъезда отсюда чиновников и казаков. С каждым таким состоящим на службе лицом тоже посылается почтовая корреспонденция, — из Якутска, когда это лицо едет сюда и отсюда, когда оно едет в Якутск. Разумеется, чаще, нежели чиновники, это бывают казаки. И когда казак привез сюда почту, он — когда поедет с здешнею почтою отсюда в Якутск, это опять определяется, смотря по обстоятельствам: если в Якутске находят возможным, то дают этому казаку разрешение отдохнуть здесь от трудной дороги двое, трое суток, а если нельзя, то — нельзя, и казак должен ехать обратно, отдохнув здесь лишь несколько часов. Как быть? Страна здесь малолюдная, число не только чиновников, но и казаков очень ограниченное, и поэтому служба их — не безделье; о, нет, много приходится им трудиться! — Это все я говорю к тому, чтобы объяснить, отчего мои письма к тебе состоят иногда лишь из нескольких строк; служащий привез почту и тотчас же едет назад, прося поскорее приготовить почтовый чемоданчик: ему велено спешить в Якутск, он там необходим, там оставалось очень мало казаков, когда его отправляли сюда.
Так вот и в нынешний раз: привезена почта, и надобно казаку, который привез ее и возьмет с собою здешнюю корреспонденцию, спешить обратно к своей службе в Якутск.
Потому и пишу тебе, моя милая голубочка, лишь несколько строк.
Я по своему прекрасному обычаю совершенно здоров. Живу очень хорошо. Денег и всяких необходимых мне вещей у меня много, и ничего мне не нужно. Прошу тебя и детей, не присылайте мне ничего.
688
Было у меня начато письмо к тебе, прежде чем узнал я о том, что пришла и отправляется почта. Были начаты тоже письма к детям. Если успею дописать их до отъезда казака, то отправлю их в другом конверте; а нет, то до следующей почты.
Пожалуйста, мой милый дружочек, заботься о своем здоровье; в нем все мое счастье.
Целую детей.
Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя радость.
Твой Н. Ч.
585
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
19 октября 1876. Вилюйск.
Милый мой дружочек Оленька,
Я совершенно здоров, живу очень хорошо и имею в изобилии все, что нужно для комфорта. — Каково-то поживаешь ты, моя милая голубочка? — И, в особенности, каково твое здоровье, и заботишься ли ты о нем так, как надобно?
У меня над всеми мыслями господствует та, что тебе необходимо проводить зимы в теплом климате, — в Южной Италии, в Сицилии или в Андалузии. — Умоляю тебя, исполни эту мою просьбу.
Возьми с собою Сашу. Путешествие было бы для него полезнее всяких кабинетных занятий математикою. — О том, чтобы ехал с тобой также Миша, я не говорю с такою настойчивостью, как о том, чтобы сопровождал тебя Саша: для Миши, быть может, было бы невыгодно прерывать гимназический курс. Даже и это, не знаю, так ли: путешествия очень полезны для умственного развития юношей; и очень возможно, что выгодами поездки с тобой перевешивались бы для Миши те проволочки в окончании курса, которые были бы неизбежны в этом случае. Я расположен думать, что это было бы так: путешествие полезнее, чем гимназия. Но решительного мнения не могу иметь; дело много зависит от обстоятельств и личных качеств юноши. А вопрос о пользе путешествия для Саши не представляет ничего сомнительного: с формальностями ученья он разделался, получил кандидатский диплом, и ему совершенно удобно провожать тебя.
Кстати, о кандидатстве и учености Саши. — Я пишу ему свои мысли об этих его достоинствах. Но, быть может, не бесполезно высказать то же самое мнение ученым языком. И, выражаясь языком неученым, я скажу тебе, для твоих бесед с Сашею, что та ученость, которая приобретается посредством школьных занятий, вообще — не больше как школьные пустяки, большую часть которых надобно выбрасывать из головы, чтоб она не оставалась засорена вздором и чтоб очистилось в ней место для серьезных знаний. Это вообще обо всяких факультетах и о студентах всяче-
44 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
689
ских университетов. — О Саше, в частности, и его математике; мне кажется, что математика в Петербургском университете преподается в схоластическом вкусе: так я сужу по характеру математич. книг, присланных мне Сашею: они писаны будто бы какими-то допотопными учеными, и наука в них загромождена кучами и целыми горами мелочного вздора, не нужного ровно ни к чему, кроме щегольства профессоров на конкурсах тем, что их ученики нахватались множества познаний (это французские книги; а у французов школьники экзаменуются с пышным парадом и получают чуть ли не те самые награды, какие давались в средние века героям-рыцарям на турнирах). — Если Саша прислал мне именно такие книги, то ясно: в Петерб. университете они считались наилучшими в свете. А те умные люди, специально занимавшиеся математикою, которых случалось мне знать в моей молодости, презирали эту схоластическую методу забивать головы юношей грудами мелочей, не служащих ни к чему. — Саша, по-видимому, еще остается чрезмерно увлечен уважением к учености профессоров математ. факультета Петерб. университета. Я не сомневаюсь, что между ними есть дельные и достойные почтения ученые. Но — все они люди мелкого ученого сорта. И если Саша хочет серьезно работать над математикою, ему следует бросить под стол лекции и книжонки этих мелких ученых и начать изучать труды тех математиков, которые были действительно умными людьми и работали действительно для науки, а не для увеличения куч ученого хлама пустыми рассуждениями о мелочах. Я в математике невежда и не знаю, кто из нынешних математиков заслуживает имени серьезного, великого ученого, но из людей, о которых я слыхивал в мою молодость, целою головою выше всех новых ученых по математике был Лаплас (новыми я называю всех являвшихся после Ньютона). Труды Ньютона, быть может, уж имеют лишь историческое значение. Но Лаплас, я полагаю, остается и до сих пор наилучшим руководителем человека, желающего дельно заниматься математикою. — Важно не то, что какие-нибудь мелочи у Лапласа устарели; важен дух серьезности и дельности, проникающий все его работы, важна ясность и сила мысли его. — Ты перескажешь Саше из этого, что найдешь нужным, и перескажешь словами более снисходительными к его увлечению схоластическими пустословиями мелочных ученых, которых он, повидимому, считает великими в науке людьми.
Но пусть восхищается Саша какими ему угодно учеными, и пусть работает в каком ему угодно вкусе над своею милою наукою: важно лишь то, чтобы удалось ему зарабатывать кусок хлеба себе. А это, я надеюсь, устроится же как-нибудь.
Но пока он еще имеет досуг сопровождать тебя в путешествии.
Надоедаю я тебе, моя милая голубочка, постоянным повторением все одной и той же просьбы; но пока ты не исполнишь ее, не перестану ее повторять.
690
Пожалуйста, мой милый друг, решись проводить зимнее время в теплом климате.
Позаботься о своем здоровье, порадуй меня: в нем все мое счастье, в твоем здоровье.
Целую детей. Пишу им.
Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая Лялечка. Будь здоровенькая, и все будет прекрасно.
Твой Н. Ч.
586
А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
Вилюйск. 19 октября 1876.
Милый мой друг Саша,
Вздумалось мне, что я виноват перед тобой, отказавшись изощрять мой ум по твоему желанию математикою, и чтобы загладить эту свою тяжкую вину перед — не тобою только, но и перед наукою, вздумал я продолжать математич. труды Паскаля, Ньютона, Лапласа и Гауса. Предметом открытий, которым решился я обогатить математику, взял я ту задачу, которую ты предложил мне: в каких случаях сложение членов арифметических прогрессий дает сложные числа? — Труд вышел, объемом своим равняющийся своему научному достоинству, и, занявши недели три у меня, он все еще не пришел к концу. Когда кончу, сообщу тебе великие открытия, совершенные мною. Да, кроме смеха, в те дни упражнялся я в сложении и вычитании, чтобы доставить тебе удовольствие посмеяться над моим усердием решить задачу, которая едва ли удоборазрешима при нынешнем состоянии математ. знаний, но, разумеется, не представляет трудностей для меня, не ушедшего в математике дальше арифметики. Понятно, что такой ученый не мог не сделать великих открытий.
Но, отлагая смех над собой до сообщения тебе моих открытий, предложу тебе серьезный вопрос: ты взял предметом своих исследований законы делимости так называемых фигурных чисел; мне воображается, будто бы я читал, что кто-то из великих математиков прошлого века — Яков Бернульи? — открыл «общий закон» фигурных чисел. Что такое «общий закон», я не умею понять, разумеется: я круглый невежда в математике. Но мне воображается, что если это «общий закон» их, то формула его охватывает и частные законы делимости комбинаций фигурных чисел; и я спрашиваю тебя: нынешние математики помнят ли труды Якова Бернульи? — И известна ли тебе та работа его, которая относится к предмету твоей работы? — А из этого вопроса я вывожу другой: каково было научное достоинство тех трактатов, по которым ты занимался в университете математикою?
Не прими этого вопроса за обиду тем ученым, которые были твоими руководителями в математ. трудах. Быть ниже Якова Бернульи не значит быть плохим математиком. — И не вздумай,
44*
691
что я полагаю, будто бы у какого-нибудь старого гениального математика можно найти готовое решение какой-нибудь задачи, которая в нынешних курсах мат[емати]ки объявляется еще не разрешенною. Нет, я полагаю, что формулы, раз найденные кем-нибудь, переписываются из одного курса в другой, подобно знаменитым задачам: «летело стадо гусей, встретился им гусь, говорит: здравствуйте, сто гусей; они отвечают: мы не сто гусей» и т. д., — или задача «Гиэрон просил Архимеда» и т. д. — То, что можно переписывать машинально, переписывается аккуратно и не забывается. Но ум, но дух! — Я полагаю, что не только Яков Бернульи, но и Архимед пришел бы в ужас от бестолковщины любого рутинного трактата, например, о теории функций. Да, я полагаю, и Архимед воскликнул бы: «О, как плохо знает автор этого трактата смысл моей работы о шаре и цилиндре! О, как этот автор сумел выбросить всякий смысл из моей формулы, переписывая ее!» — Возвращаюсь к фигурным числам. — Я полагаю, что формулы, относящиеся к ним, переписываются в рутинных курсах из работ великих математиков очень аккуратно, но что формулы эти в рутинных курсах загромождены грудами вздорных толкований и пустячных выводов и что поэтому смысл формул может оставаться незаметен человеку, работающему над наукою по руководству рутинных трактатов. Так ли, не знаю; этот предмет для меня — китайская грамота. Но приведу пример из того, что могу понимать при всей скудости моих знаний. В числе математических книг, присланных мне тобой, есть геометрия. Однажды мне вздумалось: а сумею ли я вспомнить, как доказывается, что поверхность шара равна четырем большим кругам? Стал я вспоминать, вздумал проверить себя, правильно ли вспомнил? — взял ту геометрию и едва мог найти теорему о поверхности шара, столько там мелочных, пустых теорем и лемм и короллариев: целый лес сухого хвороста. — А посмотрю, когда так, что толкует эта книга о Пифагоровой теореме, — вздумал я. И опять оказался целый лес хвороста, в котором и не доберешься до единственного живого места, до Пифагор. теоремы. — Теперь воображаю: каков хаос в головах бедных французских школьников, учащихся по этой геометрии (она — французская), и какие знания из геометрии сохраняют они через год после выдержания экзамена. Я воображаю: помнятся им какие-то простые и звездчатые пятнадцатиугольники и восьмнадцатиугольники, и какие-то эллипсы, вписанные в какие-то двойные и тройные круги, — и в этой путанице пустяков спутались их понятия о Пифагоровой теореме, которая чуть ли не одна изо всех теорем о линейных фигурах заслуживает серьезного внимания. И снова о фигурных числах. Само собою, я не имел ровно никакого понятия о качествах арифметич[еских] прогрессий; но, посидевши над ними несколько недель, я не мог не увидеть, что основанием всему служит ряд натуральных чисел; не знаю, правильно ли я выражаюсь; я хочу сказать: единственная основная
692
прогрессия — прогрессия, знаменатель которой единица; свойства всех других прогрессий проистекают из свойств этой прогрессии:
знаменатель 1 1 1 1 1 1 1 1 . . .
прогрессия 1 2 3 4 5 6 7 8 . . .
суммирование членов 1 3 6 10 15 21 28 36 . . .
Я спрашиваю тебя: не затемнен ли этот основной закон в рутинных трактатах сотнями всяческих формул? — Полагаю, сильно затемнен. А все дело в нем. — Говоря серьезно: куда ж мне пытаться анализировать закон делимости ряда натуральных чисел? — Я знаю, эта задача очень высокого математ. анализа. Я понимаю: это нечто более запутанное, нежели любая трансцендентная функция. Но для меня ясно, что все дело должно состоять в анализе этого ряда чисел. Я спрашиваю тебя: у Фермата или Якова Бернульи, или у кого другого из подобных им нельзя ли найти таких приемов анализа этой прогрессии, которые при всей своей элементарности важнее всяческих частных формул с короллариями, какими, я полагаю, наполнены рутинные трактаты о фигурных числах? — Само собою, мой милый: я предлагаю вопрос тебе, а для меня — ответ на него бесполезен. Я не знаю и не хочу знать из математики ничего, кроме первых четырех правил арифметики.
Извини, если огорчил тебя неуважительными замечаниями об ученых, достойных всяческого почтения и имеющих лишь один недостаток: недостаток гениальности. Но иногда одна устарелая, до смешного элементарная страница гениального мыслителя вроде Фермата или Паскаля важнее целых квартантов обыкновенного почтенного ученого, набитых ученейшими формулами. — И до следующего письма, в котором сообщу тебе свои удивительные подвиги по делу анализа фигурных чисел, если не брошу до той поры в печь старательно разграфленные листы, испещренные рядами цифр, — листы, в изобилии валяющиеся теперь на моем столе.
Будь здоров, мой милый.
Жму твою руку.
Твой Н. Ч.
587
М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
[19 октября 1876 года.]
Прости, что и к этому разу я не успел написать подробного изложения моих мыслей о вопросе, интересующем тебя, о борьбе пап с императорами в средние века. Постараюсь приготовить это к следующему отправлению почты, а теперь сделаю лишь несколько руководящих заметок.
693
Русские учебники всеобщей историй — экстракты из немецких. Немцы, натурально, преувеличивают важность немецких дел. Потому и в русских учебниках борьба пап с императорами слишком выставляется на первый план. Впрочем, она и в самом деле все-таки важный факт. Но лишь как составная часть факта более важного: стремления немецких императоров упрочить свою власть над Италиею и сопротивления итальянцев их военным нашествиям.
Папа был один из государей средней Италии. Обыкновенно он имел расчет отстаивать свою независимость: но иногда какой-нибудь соседний государь был более страшным ему неприятелем, нежели немецкий император. Тогда он помогал императору, чтоб император защищал его. Ничего особенного тут нет: так всегда приходится лавировать маленьким владетелям в делах между более сильными. Так лавировали владетели Савойи, Монферата, Сполето и проч. и проч.
Когда папа находил расчет быть на стороне итальянцев против немецких нашествий, он не был сильнейшим противником немцев даже и в средней Италии, не говоря уж о том, что главное сопротивление немцам было не в средней Италии, а в Ломбардии и в Неаполе. — В средней Италии важнее папы были государи тосканские, после — тосканские города. И самый город Рим был важнее папы. Но один из мелких противников немцев, папа, все-таки не был совершенно ничтожен. Только: не совершенно ничтожен. Но очень, очень неважен.
С Генрихом IV сильно сражались Матильда тосканская и Роберт Гискар; а Григорий VII прятался под их покровительство. Без них ровно никакой задержки Генриху IV он не в силах был оказывать. Не то что с немецкой армиею, с городом Римом он не мог совладать. Но писать бумаги, это было по его части. Он все и писал их. Они были полны проклятий Генриху. Только кто обращал на них внимания? — Никто. Ни даже епископы. Кому из епископов вздумается, что выгодно ему воевать против императора, публикует буллы папы; помирится с императором, публикует, что папские буллы незаконны. Это даже епископы. Еще меньше церемонились с папою светские государи. Но знаменитая сцена в Каноссе? — Генрих был в это время неопытный юноша. Он буквально принял за серьезное решение хитрую оговорку немецких своих врагов: «помирись с папою, тогда и мы с тобой помиримся». И поехал мириться с папою. А цель его немецких врагов была — просто-напросто удалить его из Германии. И когда он помирился с папою, они все закричали: «Он унизил себя, такой человек недостоин занимать императ. престола». Вообще ровно никакого вреда в Германии не приносили Генриху проклятия Григория VII, ровно никакой пользы не делали ему требования примирившегося с ним Григория VII, чтобы немцы перестали воевать против Генриха. — И в каких обстоятельствах унизил себя
694
Генрих сценою в Каноссе? — Когда он явился в Италию, войско Матильды не было собрано. Она и Григорий перетрусили, бежали в горы, спрятались в недоступную горную крепость. Чего было трусить Генриху? — Но он был опрометчив и безрассуден. Да и не понимал, что подвергает себя унижению; он думал, он исполняет обыкновенные формальности церковного покаяния (эти формальности держались очень долго: когда Генрих IV французский был принимаем в лоно церкви папою, папа подверг его представителей таким же унизительным церемониям; это было уж в конце XVI века. А для людей XI века тем меньше казалось унизительно подобное церковное покаяние). Но немцам был нужен новый предлог кричать и воевать против Генриха, и они подняли шум о сцене в Каноссе. — И задолго ли перед тем Генрих II (баварец) валялся в ногах у своих баварских епископов, упрашивая их — дело великой важности! — согласиться на учреждение нового епископства? — Валяться в ногах, не только тогда, но и после, долго после, охотники были люди, для народа, для формальности. Вспомни, сын Карла VII французского (будущий Людовик XI) бежит от гнева отца за границу, к герцогу Бургундскому. Герцога нет в столице. Беглеца встречает герцогиня Бургундская и валится ему в ноги. — После возвращается в столицу и герцог. — И тоже валится в ноги, — кому? — человеку, который, на самом-то деле, трепещет герцога: ну что, если герцог отошлет его назад к разгневанному отцу? — Вспомни другой факт: Черный принц берет в плен короля французского и прислуживает ему за столом, как лакей. — Сама по себе сцена в Каноссе была не важное унижение. Но немецкие противники Генриха нашли нужным поднять шум о ней во вред Генриху. Только в том и важность ее.
А она — единственное доказательство важности Григория VII. Это аргумент фальшивый. Григорий VII хотел воспользоваться враждою немецких государей против императора и шумел, шумел, но ошибся в расчете, и Генрих IV, когда понял, что дружба с Григорием не стоит медного гроша, гонял его, как зайца, по всей Италии. Это в сущности очень жалкая фигура, Григорий VII-ой. Претензий у человека много, а силы нет, и результат — полнейшая зависимость от Матильды и от Роберта Гискара.
Победить папу, — Григория ли VII Генриху IV-му, или какого другого из следующих какому другому из немецких императоров никогда не было нисколько трудно. Иное дело удержать в повиновении немцам Италию. Италия подымается против немцев, и папа вылезает из трущобы, куда спрятался, и опять шумит, проклинает. Это, просто, смех. Ровно никому в сущности нет охоты уважать его проклятия, но как агентом пользуются им, кому из итальянцев охота воевать с немцами или кому в Германии охота воевать против императора.
Кроме Григория VII, только еще об одном папе говорят очень
695
много, это об Иннокентие III. Но просмотри историю Иннокентия III серьезными глазами и увидишь: то же самое, ровно никому не было охоты слушаться Иннокентия III, и все его претензии были неудачным шутовством. — Но Альбигойский крестовый поход? — Да, это была большая война. Но войну эту вел Симон Монфор, чтобы завоевать себе царство. Когда Симону Монфору выгодно, то он говорит, что он полководец папы, а когда папа вздумает предписать ему что-нибудь не входящее в собственные его расчеты, то он отвечает папе: не суйся в мои дела.
Однако, довольно на этот раз.
Жму твою руку.
Твой Н. Ч.
588
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 30 октября 1876.
Милый мой дружочек Оленька,
Я получил твои письма от 20 июля из Эссентуков, и от 10 августа из Саратова, как мне кажется (ты не отметила, откуда именно пишешь), и приписки детей к ним. Благодарю тебя, моя радость. Благодарю и детей.
Я совершенно здоров. Живу очень хорошо.
Ты ждешь, дальше будет: «прошу тебя ехать на зиму в Южную Италию». Да. Ты видишь, ты не ошибалась. Но более длинное развитие этой моей просьбы отлагаю до другого раза, чтобы здесь заняться ответом на твои письма.
Ты пишешь: ты решила, что дети должны располагать собою, как им самим кажется лучше; ты стеснять их не хочешь. — Это и единственное разумное отношение родителей к детям, по моему мнению, точно так же, как по твоему. В том, что таково твое отношение к ним, я всегда знаю вперед, по всякому вопросу обо всяком не безрассудном желании Саши или Миши. А они, повидимому, юноши более или менее рассудительные.
Если иной раз кто из них спрашивает у тебя, как посмотрит их отец на какое-нибудь дело, ты, разумеется, никогда не затрудняешься угадывать мой взгляд; он всегда тот самый, как твой.
Радует меня то, что ты, моя голубочка, решилась побывать на кавказских водах. Что они принесут тебе пользу, это можно было вперед знать наверное, и я твердо надеялся на это. — Но, мой милый дружок, умоляю тебя, продолжай пользоваться водами каждый сезон до совершенного восстановления твоего здоровья. От природы оно у тебя очень хорошее, и надобно ему снова стать таким, каково оно от природы. И посоветуйся с медиками хорошенько: не был ли бы для тебя Карльсбад лучше Кавказа. Я писал тебе, почему я расположен думать, что он был бы для тебя полезнее. Сами по себе карльсбадские минеральные источники, быть может, и не более хороши, чем кавказские. Но они изобиль-
696
нее количеством воды; потому, я полагаю, там нет фальши, не подмешивается к минеральной воде простая, больше, чем следует прибавлять ее по рецепту медика. А на Кавказе это делалось прежде. — Ты пишешь: в нынешний сезон публики на Кавказе было мало. Я полагаю, это потому, что она перестала иметь доверие к тому, что ванны делаются из минеральной воды, не разбавленной простою больше, чем говорит прислуга и предписал медик. Полагаю, что и другая сторона курса вод на Кавказе, — комфорт жизни, тихие развлечения, — тоже не соответствуют справедливым желаниям публики. Когда-нибудь кавказские воды будут устроены не хуже Карльсбада. Но теперь пока публика, очевидно, находит: Карльсбад полезнее Кавказа.
В этом публика права, я думаю. Но из твоего письма видно, что она на Кавказе еще не решилась отказаться от нелепого и тяжелого полуварварского щегольства нарядами, от чопорного, скучного чванства, — от этих слабостей, которые делают нас, русских, шокирующими друг друга и смешными для иностранцев, которые, правда, и сами подвержены тем же глупым склонностям, но все-таки далеко не в такой степени, как мы. Я полагаю, в Карльсбаде, где русские лишь маленькая доля публики, публика менее щеголевата, чванна и скучна, чем на Кавказе.
Разумеется, все это лишь предположения. Верны ли они, я не могу судить. Но очень правдоподобно, что большой ошибки в этих моих мыслях нет.
Посоветуйся с медиками, друг мой: не лучше ли тебе на следующий сезон ехать в Карльсбад. — В том, что ты исполнишь мою просьбу возобновлять леченье минеральными водами каждый сезон до совершенного восстановления твоего здоровья, я не сомневаюсь.
Тебе понравилось мое искусство распоряжаться кушаньем. Смеяться полезно тебе. И я всегда был охотником хвалить себя за разные свои искусства. Потому расскажу, как пользовался я водою в нынешнее лето: это был тоже курс вод, хоть и не курс леченья, потому что лечиться мне не от чего. — В прошлые годы занимался я летом над лужами, как копаются в них русские деревенские мальчики. Здешним детям это искусство неизвестно. Потому не только дети, но и взрослые недоумевали сначала; понявши, стали дивиться и хвалить. Это поощрило меня нынешним летом расширить размер применений моего искусства и трудолюбия. То я копался в илистом песке маленьких луж маленькой щепкой. Нынешним летом избрал предметом моих трудов огромную лужу, чуть не целое море, и орудием для «борьбы с природой» — ныне в моде у ученых «борьба с природою», — я взял лопату. — Река сбыла; лужа отделялась от реки грядой песка в несколько сажень ширины; вода в луже стояла почти в ровень с этим валом; вода в реке была сажени на три или на четыре ниже: берег в том месте — крутой песчаный откос. Внизу откоса полоса пло-
697
ского прибрежья, очень узенькая; тут ходят люди, когда вода в реке низкая. Другой возможности пройти вдоль реки нет: выше крутого песчаного подъема непроходимый кустарник. — Предвидишь ли, что вышло? — Я не предвидел.
Взял я лопату, дотронулся до узенького хребта перешейка между лужей и рекой. Вода из лужи, — огромной и глубокой лужи, — хлынула вниз, размыла песок перешейка почти до уровня реки. Я смотрел и восхищался успехом. Прохожие смотрели и хвалили. — Через несколько дней от дождей в верховьях реки вода стала прибывать, — влилась в промытую лужей канаву; вышел широкий и глубокий канал, соединяющий необозримую лужу с рекой. И всякий путь сообщения вдоль реки пресекся. Надобно подыматься на крутой песчаный обрыв, — песок сыплется из-под ног путника; путник — продолжает ли восхищаться моим трудолюбием, которое хвалил неделю перед тем? — после, взобравшись на обрыв, путник должен пробираться вокруг лужи по грудам хвороста, через чащу кустарника. Стало мне стыдно перед этими бедняками-якутами. Но вода сбудет, надеюсь я. И хожу глядеть: сбывает ли; нет, так до самой осени, когда вода и в луже, и в реке, и в моем канале замерзла, канал оставался широк и глубок, не было прохода якутам вдоль берега, и мучились они, обходя лужу по хворосту через кустарник.
Я полагаю, что и прежде они считали меня человеком почти вовсе глупым. Теперь, вероятно, окончательно решили: он глупее всякого ребенка. — Впрочем, я не спрашивал, как они судят. Здешние русские много хохотали.
Подобных эпизодов я делаю довольно много разными моими житейскими искусствами. Но отложу другие до другого раза. Скоро отправится почта. Пора кончать письмо.
У меня было приготовлено по письму к Саше и к Мише. Прибавлю по нескольку слов и положу одно письмо в этот конверт, другое в другой, потому что оба те письма вместе с этим составили бы больше лота, а конвертов со штемпелем у меня целая куча, но все они однолотные, а почтовых марок теперь нет под рукой.
Письмо к Мише ученое. Ты объясни ему, я опровергаю ошибочные взгляды, господствующие почти во всех исторических книгах (дело относится к истории). Потому я выражаюсь очень решительно, иначе не годилось бы вести спор, когда споришь почти один почти против всех историков. Только в этом смысле и надобно понимать Мише мои слова; в таком смысле: господствующие между историками взгляды слишком преувеличивают важность папской власти в средние века (дело идет о средних веках и о папе). А того, что папа имел порядочно большую силу, я нимало не отрицаю.
Письмо к Саше — мое совершенно ребяческое упражнение в математике, которой я вовсе не знаю. Ты объяснишь ему, я делал
698
эти жалкие, невежественные упражнения в сложении и вычитании лишь для угождения ему. Он вздумал предложить мне задачу, требующую громадных знаний в математике, и я не знаю, удоборазрешима ли она при нынешнем состоянии высшей математики. Полагаю, неудоборазрешима. Но ему угодно было, чтоб я разрешил ее. Я и разрешил с таким же успехом, с каким исполнил бы на скрипке какую-нибудь скрипичную пьесу, трудную и для хороших скрипачей.
Пора отправлять письмо.
Крепко обнимаю тебя, моя радость. Будь здоровенькая и старайся быть веселенькой, и все будет прекрасно.
Целую детей.
Тысячи и тысячи раз целую твои глазки и руки, моя милая Лялечка.
Твой Н. Ч.
589
А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
[30 октября 1876 года.]
Милый мой друг Саша,
В прошлом письме я говорил, что изложу тебе удивительные открытия, которыми успел я обогатить математику, трудясь над разрешением предложенной тобою мне задачи. Исполняю обещание доставить тебе этот материал для смеха.
Следовало бы излагать мои открытия тоном, соответствующим их достоинству, — забавным. Но это было бы слишком длинно. Буду писать серьезно. Это короче.
Задача была: какие комбинации фигурных числ дают в своих суммах числа сложные?
Фигурные числа — это суммирования арифметических прогрессий, имеющих первым членом единицу. Я начал с того, что разлиневал лист и написал на нем, сколько поместилось, таких прогрессий. Таблица имела такую форму:
Знаменатели прогрессий
1
1
1
2
3
3
6
4
10
И так далее
2
1
1
3
4
5
9
7
16
3
1
1
4
5
7
12
10
22
И так далее
699
Ты видишь: в каждой паре строк верхняя строка, — строка членов прогрессий, — написана мелкими цифрами, а нижняя, — строка суммирований или фигурных чисел, — написана крупными цифрами. Этою разницею шрифта облегчалось и составление таблицы и ее рассматривание. В таблице поместилось 40 прогрессий с знаменателями от 1 до 40; каждая прогрессия доведена была до того члена суммирования, дальше которого суммирование дало бы цифру больше 2 000. Я хотел перепробовать все комбинации фигурных чисел до суммы 2 000. Само собою, это оказалось работою такой обширной, что, утомившись ею, я бросил ее, не исполнив и одной десятитысячной, я полагаю, доли этого громадного количества комбинаций. Но при самом составлении таблицы я заметил между прогрессиями связь, которой я, невежда в математике, прежде того не знал.
В первых членах прогрессий формировать таблицу оказалось легче по вертикальному направлению, чем по горизонтальному, и, формируя ее так, я понял, что основная прогрессия только одна; та, у которой знаменатель единица. Все другие — производные от нее: к данному члену ее, например к 3-му, прилагается предыдущий член ее, — в данном случае второй, — сумма будет член данного вертикального столбца в следующей прогрессии (знаменатель которой 2); к сумме опять прилагается предыдущий (2-ой) член основной прогрессии; получается член данного столбца для следующей прогрессии (знаменатель которой 3) и т. д.; и то же самое по всем столбцам членов.
Точно то же и по всем столбцам суммирования или фигурных числ. К данному, например 8-мому, суммированию основной прогрессии прилагается предыдущее, то есть 7-ое суммирование ее, получается суммирование данной колонны (8-ой) для следующей прогрессии и т. д.
Не знаю, ясно ли я выражаюсь. Поясню рядом примеров. Во-первых, беру отдельно строки членов; после возьму, тоже отдельно, строки суммирований.
1 2 3 . . . . . . Члены основной прогрессии. Формируются из двух соседних членов ее, 2-го
5 = 3 + 2 и 3-го,третьи члены следующих прогрессий. Другой пример:
7 = 5 + 2
9 = 7 + 2 7 8 . . . Члены основной прогрессии
восьмой член прогрессии, знаменатель которой 2 . . . . . . . . . . 15 = 8 + 7
тоже, в прогрессии, знаменатель которой 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 = 15 + 7
тоже, знам[енатель] 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 = 22 + 7
» » 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 = 29 + 7
700
Теперь примеры формировки суммирований:
1 2 3 4 . . . . 7 8 . . . . . . . . . . места суммир[ований] 18
знам. 1 | 1 3 6 10 . . . 21 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
2 | 16 = 10 + 6 . . . . . . . 49 = 28 + 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 | 22 = 16 + 6 . . . . . . . 70 = 49 + 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 | 28 = 22 + 6 91 = 70 + 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
это 4-ое суммирование это 7-ое суммирование
19 . . . . . в основ[ной] прогр[ессии]
190
361 = 190 + 171
532 = 361 + 171
703 = 532 + 171
А это, 19-ое
Ты скажешь: «это азбука». — Да, мой милый. Но для меня это было новым открытием. Кроме азбучного, что может понять в математике человек, не знающий ничего дальше арифметики? — Продолжаю.
Итак, я понял: решение задачи сводится к анализу суммирований основной прогрессии, то есть к анализу суммирований натурального ряда числ. Я принялся за этот анализ и успел сделать его. От подробностей моих хлопот над ним избавляю тебя. Достаточно будет сообщить тебе результат. Вот он:
Эти суммирования — числа площадей, то есть числа двух измерений; поэтому надобно разлагать их, каждое, на два фактора. И я достиг этого: разложил.
Пишу ряд суммирований, — крупными цифрами; над ним мелкими цифрами натуральный ряд чисел, из которого происходят эти суммирования, а внизу строки суммирований пишу, тоже мелкими цифрами, под каждым суммированием два его фактора.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 210
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11 13 13 15 15 17 17 19 19 21
Ты скажешь: «факторы найдены верно; только не было надобности искать их: они прямо даны общею формулою суммированья арифметических прогрессий». — Да. Прямо даны ею. Но я сообразил это, лишь когда, помимо этой формулы, нашел их. Анализировать формулы, даже самые простые, как эта, у меня вовсе нет привычки, потому нет и уменья.
Продолжаю. Рассматривая ряд факторов, я не мог не увидеть, что у каждых двух соседних суммирований есть общий фактор.
А в производных прогрессиях все суммирования формируются через приложение к соответствующему суммированию основной прогрессии, предыдущего ее суммирования. Потому все суммирования, находящиеся в одном вертикальном ряде, имеют общего делителя; этот делитель — тот фактор, который у соответствующего суммирования основной прогрессии общий с предыдущим
701
ее суммированием. — Пишу крупными цифрами колонны суммирований и над каждой колонной мелким шрифтом пишу общего делителя всех цифр этой колонны.
1 1 3 2 5 3 — делитель всех цифр колонны
знаме 1 суммирования 1 3 6 10 15 21 и так далее
натели 2 ,, 1 4 9 16 25 36
прогресс- 3 ,, 1 5 12 22 35 51
сий 4 ,, 1 6 15 28 45 66
Ты скажешь: «Совершенно правильно. Только не следовало трудиться доискиваться до этого: это опять-таки прямо дано общею формулою суммирования арифмет. прогрессий». — Прямо дано ею, да. Но опять-таки: я сообразил, что это прямо дано ею лишь тогда, когда доискался до этого. — И хочешь смейся, хочешь прими серьезно: в моих математических трудах ты имеешь совершенно верные допотопным подлинникам образцы тех приемов, какими люди добирались до решения математических задач раньше времен изобретения алгебры. Неуклюжие это были труды и потому очень мало успешные. Но это были труды.
Продолжаю. — Итак, я сладил с одним из элементов суммирования, с числом членов прогрессий. И я стал рассматривать другой элемент — количество единиц в последнем из суммируемых членов.
Прежде всего мне удалось заметить: суммирование всегда делится на 5, если последний член суммирования имеет последним своим знаком цифру 9. Не знаю, ясно ли я выразился. Поясню примерами.
Прогрессия с 1 — Девятый член ее 9. Сумма первых девяти членов 45.
знаменателем Девятнадцатый член ее 19. Сумма первых 19 членов 190.
,, 2 — Пятый член 9; сумма 25.
Десятый член 19; сумма 100.
Это, — лишь только уж это, — навело меня на мысль: «тут есть что-то сходное с формулою суммирования прогрессий; она говорит: «приложи к последнему члену первый»; — а первый член моих прогрессий — единица. Из сложения 9 и 1 всегда выйдет, по этой формуле, одним из факторов суммы число 5». — И, сделавши пробу на нескольких случаях, я увидел: да, последний член плюс единица, — это прямо фактор суммы, если сложение последнего члена с единицею дает нечетное число, и удвоенный фактор, если то сложение дает число четное. — Не знаю, ясно ли я выразился. Поясню примерами.
Прогрессия с знаменателем 4. — Пятый член 17; плюс 1, это = 18. А сумма первых пяти членов 45. Факторы 5 и 9. Второй фактор = 18 разделенное на 2. Шестой член 21; плюс 1, будет 22; деленное на 2, это будет 11. А сумма шести членов 66; факторы 6 и 11.
702
Теперь и оказались у меня найденными два закона делимости комбинаций фигурных чисел.
Когда комбинируются фигурные числа, состоящие из одинакового количества членов, то все эти слагаемые фигурные числа имеют одного делителя, и сумма их имеет этого их общего делителя своим делителем.
Итак, всякие комбинации суммирований трех первых членов всех прогрессий делятся на 3, потому что в каждом из этих суммирований есть фактор 3.
Вот ряд суммирований трех первых членов прогрессий и факторы суммирований
знаменатель прогрессии 1 2 3 4 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
сумма 3 первых членов 6 9 12 15 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 3 3 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
факторы (двойная строка) 2 3 4 5 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ясно, что всякие комбинации этих числ будут составлять суммы, сохраняющие своим фактором число 3.
Если фактор состоит из более простых факторов, то, разумеется, он подходит под закон простых факторов, из которых состоит.
Например, суммирования двенадцати первых членов имеют одним из двух своих факторов число 6, состоящее в свою очередь из факторов 2 и 3.
Вот ряд их с их факторами. Верхний фактор везде у них 2 × 3.
знамен[атель] прогрессий 1 2 3 4 5 . . . . . . . . . .
суммир[ования] 12-ти первых членов 78 144 210 276 342 . . . . . . . . . .
6 = 2 × 3 6 6 6 6 = 2 × 3
Факторы суммирований 13 24 35 46 57 . . . . . . . . . . . . .
Ясно, что все эти суммирования во всевозможных своих комбинациях с суммированиями трех первых членов будут давать суммы, имеющие делителем 3.
Итак: имеют делителя 2, всякие комбинации всех суммирований четного числа членов арифмет. прогрессий: 4, 6, 8, 10 и т. д. (Когда только два члена, это еще не прогрессия, как я узнал из объяснений, которые ты сделал, предлагая мне задачу. Я действительно не догадывался об этом, как и вообще ничего не знал об арифмет. прогрессиях, кроме того, что смутно, — лишь смутно, — помнил формулу их суммирования. Без твоего объяснения меня, вероятно, изумляло бы и надолго сбивало бы с толку то, что суммирования двух членов не подходят под правила других суммирований). — Продолжаю.
Имеют делителем 3 всякие комбинации суммирований 3 членов, 6 членов, 9, 12, 15 и т. д. членов.
Имеют делителем 5 всякие комбин[ац]ии суммирований 5 членов, 10, 15 и т. д. членов.
703
Это закон о первом из двух факторов суммирований, о числе членов прогрессии или числе рядов фигурного числа. — Второй фактор: сумма первого и последнего члена, разделенная на два (если может делиться; если же нет, делитель переносится на первый фактор; когда идет дело о делимости суммирований, эта необходимость переносить делителя на первый фактор при нечетности суммы первого члена с последним производит то, что в двойной строке факторов по обеим ее линиям идут вперемежку с нечетными числами четные числа, деленные на два. Когда я писал выше о законе факторов, я заменял эти четные числа, деленные на два, числами, составляющими результат деления).
Итак, второй фактор — сумма первого и последнего членов, то есть, в разбираемых прогрессиях, начинающихся единицею, последний член плюс единица, — сумма, остающаяся неразделенной, когда она число нечетное (то есть в данных прогрессиях, когда последний член четный) или разделенная на 2, когда она число четное (в данных прогрессиях, когда последний член — число нечетное).
Закон об этом факторе параллелен закону о первом факторе, и когда дело идет лишь об равных суммах сложения первого члена с последним (то есть в данных прогрессиях, у которых у всех первый член одинаков), — когда дело идет о равных последних членах, то закон о втором факторе имеет и выражение такое же простое, как тот закон:
всякие комбинации прогрессий, у которых последний член равен,имеют делителем второй фактор каждого из слагаемых, потому что у всех слагаемых второй фактор одинаков.
Вот примеры из таблицы, которую составил я, соединяя в одну строку все суммирования, имеющие одинаковый последний член (таблицу эту довел я до 61 в последнем члене).
Последний член 19. Второй фактор (1 + 19 = 20; сумма четная, потому подвергающаяся делению на 2) будет 10. Цифры суммирований:
знаменатель прогрессии 1 число суммируемых членов 19 сумма их 190
2 10 100
3 7 70
6 4 40
9 3 30
Все суммы делятся на 10, всякие комбинации их будут делиться на то же число.
Другой пример. Последний член 53. Фактор (53 + 1; сумма четная: деленная на 2, будет 27).
Знаменатель 1 число суммируемых членов 53 сумма 1431 = 27 × 53
Прогрессии 2 27 729 = 27 × 27
4 14 378 = 27 × 14
13 5 135 = 27 × 5
26 3 81 = 27 × 3
Ясно: все комбинации этих сумм будут иметь делителем 27. — Мимоходом замечу: не знаю, правильно ли употребляю слово
704
«комбинация» в смысле соединений через сложение. — И мимоходом: в этом и ответ на мысль, которую ты, вероятно, имеешь: «К чему такое длинное изложение посредством слов и примеров, когда можно было бы в десять раз короче выразить то же самое формулами, при которых не было б и нужды в примерах?» — Знаю. Но куда мне соваться писать формулы, когда я не знаю хорошенько даже и смысла терминов? Хоть формулы в данном деле и были бы просты до последней крайности, я мог бы сбиться с толку в составлении их.
Итак, выражение закона о втором факторе так же просто, как о первом, когда речь идет о комбинировании сумм с равными последними членами. Но когда надобно применить этот закон и к кратности фактора, счет по последнему члену, конечно, выходит несколько сложнее, потому что второй фактор — не сам по себе последний член, а последний член + первый член (в данных прогрессиях: + 1).
Примеры. Простой фактор 11. Следовательно, последний член 10.
Кроме того, 21 + 1 деленное на 2 тоже 11; потому имеют фактором число 11 также и суммы, имеющие последним членом число 21.
Кратные факторы: 11 × 2 = 22. — Последний член 43; (43+1) : 2 = 22
11 × 3 = 33. — Последний член 32; (32 + 1 = 33).
Приведу эти суммирования:
Последний член 10 знаменатель 1 число суммир[у-10 сумма 55 = 11 × 5
прогрессии емых] член[ов]
,, ,, 10 ,, 3 ,, ,, 4 ,, 22 = 11 × 2
,, ,, 21 это число попадается во многих прогрессиях.
табличка примеров не поместилась бы на этой странице; и чтобы легче было обозревать таблицу всю вместе, перепишу на следующей странице и первые строки ее:
Последний член 10 знаменатель 1 число суммиру-10 сумма 55 = 11 × 5
прогрессии емых членов
10 3 4 22 = 11 × 2
![]() 21 1 21 231 = 11
× 21
21 1 21 231 = 11
× 21
21 2 11 121 = 11 × 11
фактор 11 21 4 6 66 = 11 × 6
21 5 5 55 = 11 × 5
21 10 3 33 = 11 × 3
фактор 33 32 1 32 528 = 11 × 48
![]() 43 1 43 946 = 11
× 86
43 1 43 946 = 11
× 86
43 2 22 484 = 11 × 44
43 3 15 330 = 11 × 30
фактор 22 43 6 8 176 = 11 × 16
43 7 7 154 = 11 × 14
43 14 4 88 = 11 × 8
43 21 3 66 = 11 × 6
фактор 55 54 1 54 1485 = 11 × 135
Ясно, что всяческие сложения этих суммирований будут давать суммы, имеющие делителем число 11.
45 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
705
43
Вот какие открытия сделал я, мой милый. — Ты скажешь, — но нет, еще погоди судить: ряд моих открытий еще не весь тут; прибавлю еще одно, и тогда суди.
Вот оно финальное и феноменальное открытие:
Оба удивительные закона, открытые мною, были открыты мною относительно сложения. Но оба они принадлежат к правилам и для сложения, и для вычитания.
Потому все, что говорилось о делимости чисел, получаемых комбинированием через сложение, относится и к комбинированиям через вычитание. Для примера пусть это будет показано на числах той таблицы, которая на этой странице:
Первые четыре числа: 55 + 22 + 231 + 121 = 429 = 11 × 39
следующие три числа 66 + 55 + 33 = 154 = 11 × 14
429 + 154 = 583 = 11 × 53
но точно так же и 429 — 154 = 275 = 11 × 25 делится на 11.
Это открытие относительно вычитания сделано мною всего девять или десять минут тому назад, в те мгновения, когда я писал первые слова оценки, которую сделаешь ты моим прежним открытиям. Подивись же моей сообразительности: целые недели занимался я сложением и не догадывался, что в подобных случаях все относящееся к сложению применяется и к вычитанию.
Согласись же, что не напрасно прервал я начатую на той странице твою оценку моих открытий. Теперь я могу знать ее еще вернее прежнего. Ты скажешь: «Открытия хороши. Но вместо того, чтобы делать их, следовало прочесть первые страницы алгебры: на них все эти открытия уж сделаны». — Так. Но в одном из прежних писем я говорил тебе, мой милый, почему я не могу, в угождение тебе, заняться математикою: она отвлекла бы меня от моих занятий. Переменять предметы занятий мне поздно. А для тех отраслей знания, над которыми постоянно трудился я с моей молодости, математика бесполезна. Возвращусь когда-нибудь к этой теме. А теперь пока продолжаю историю моих забавных стараний угодить тебе усилиями разрешить предложенную тобой задачу, далеко превышающую размер моих совершенно ничтожных знаний по математике.
Я говорил: я хотел перепробовать все комбинации всех суммирований арифмет. прогрессий до границы их сумм в 2 000. Очень скоро я убедился, что в таком размере работа не только до чрезмерности обширна, но и не может иметь никакого смысла на рабочем столе человека, не имеющего никаких понятий о приемах высшего математического анализа. — Комбинируя через сложение суммирования прогрессий, я получил уж и при комбинированиях по 3 непрерывный ряд всех чисел, начиная с очень невысокого предела. И как же не сообразил я этого раньше, подивился я.
706
Суммирования трех первых членов дают весь ряд чисел, делящихся на 3, начиная с числа 6. А суммирование четырех первых членов первой прогрессии (знаменатель 1), это 10 = 3 × 3 + 1. Итак, сложение этого числа с теми суммированиями, даст весь ряд чисел, имеющих форму 3n + 1, начиная с 6 + 10 = 16. Это комбинации по 2 суммирования. Сделаем комбинации в 3 суммирования, прилагая к предыдущему ряду опять 10, будем иметь все числа, форма которых 3n + 2. — Кстати, заметь, мой милый: даже таких формул я не сумел написать без ошибки.
Следовательно, как скоро мы берем комбинации фигурных числ по 3, мы имеем дело со всеми без всяких пропусков числами натурального ряда чисел, и задача о делимости комбинаций фигурных чисел переходит в задачу о законах делимости чисел натурального ряда их. — Не знаю, умел ли я выразиться ясно. Поясню цифрами:
ряд суммирований первых трех членов
прогрессий, в порядке возрастания знаменателя: 6 9 15 18 21 24 27 . . . . .
их комбинации с суммою первых 4 членов
прогрессии, имеющий знаменателем 1; +10 = 16 19 25 28 31 34 37 . . . . .
прилагаем эти 10 еще раз +10 = 26 29 35 33 41 44 47 . . . . .
соединяя все три ряда, имеем: 6, 9, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28 и т. д.
Начиная с 24, идет полный ряд всех чисел, без всякого пробела.
Как анализируют натуральный ряд чисел? Я не имею понятия об этом. Знаю только элементарнейшее правило расстановки простых чисел факторами по натуральному ряду чисел: начиная с числа 3, на каждом третьем месте ставить фактор 3; начиная с 5, на каждом пятом месте ставить фактор 5 и т. д.
Сведение хорошее. Но, когда кроме этого сведения, не имеешь ровно никаких, то за анализ натурального ряда чисел можно и не приниматься.
Итак, заботу о комбинированиях более чем двух фигурных чисел я отложил.
Стал комбинировать по 2 числа, через сложение. О комбинировании через вычитание мне и мысли не приходило в голову.
Стал я линевать листы и упражняться на них в сложении. У меня было намерение послать тебе таблицу, которую сделаю. Урезывая размеры ее, довел я ее до такого маленького объема, что не поленился сделать и проверить ее. Но колонны цифр были все еще так многочисленны и потому тесны, что цифры разных колонн не разделялись ясно для глаза. (Это было на одном развернутом листе большого формата почтовой бумаги.) Как быть! Призвав, для подкрепления своему мужеству, на память себе поступки моряков, выбрасывающих часть груза в волны океана для спасения, на пользу человечества, остальной доли груза, я стал вычеркивать
45*
707
колонну цифр за колонной с соответствующими вычеркиваниями в горизонтальных рядах, и получил, наконец, таблицу в таком размере, который разборчиво поместился на развернутом листе. Те листы побросал я в печь, этот еще цел у меня. От усердных моих трудов над ним он перепачкан чернилами. В таком виде он не годится тебе. А переписывать его — на это не достанет времени до отправления почты. Потому лишь опишу тебе эту таблицу и скажу два-три слова о выводе, который, как мне кажется, следует из нее.
Я комбинировал в этой таблице десять первые, — то есть, за исключением двух первых, не принадлежащих к прогрессиям, — восемь первые суммирования первых десяти прогрессий; то есть:
6, 10, 15 . . . 55; 9, 16, 25 . . . 100; и т. д., до 33, 64, 105 . . . 460
Это 8 × 10 = 80 суммирований. Я хотел видеть, какое количество из их 80 × 80 = 6 400 комбинаций или, за отброскою сходных, из их 80 × 81 : 2 = 3 240 комбинаций по 2 числа будут составлять числа сложные и какое количество — числа простые. Комбинации четных с четными и нечетных с нечетными не для чего было вводить в таблицу: все они числа четные. Пришлось писать лишь комбинации нечетного числа с четным. Из 80 чисел ровно по 40 было и четных и нечетных. Это дает 1 600 комбинаций.
Из них оба слагаемые имеют одинакового фактора, который переходит и в их сумму в 636 случаях. — Слагаемые не имеют одинакового фактора, но сумма их оказывается числом сложным в 373 случаях. — Итого сумма оказывается числом сложным в 1 009 случаях. А в остальных 591 комбинациях сумма — число простое (конечно, слагаемые тут не имеют общего фактора).
Наименьшие факторы комбинаций, цифры которых сложные числа, идут до числа 23 (например, в комбинации 297 + 370 = 667 = 23 × 29).
Производим крибрацию первых 1600 нечетных чисел из натурального ряда 1, 3, 5, 7 . . . . . . . . . . . 3 199;
будем иметь: 1 600 : 3 = 533. Итак, 533 числа имеют фактором 3.
Остается 1 067. Делим на 5, имеем 213 или 214. Берем 213. Итак, из неимеющих фактора 3 будут иметь фактор 5 по крайней мере 213 числ. Остается 1067 — 213 = 854. Делим на 7, имеем 122. Итак, из неимеющих факторами ни 3, ни 5 будут фактором 7 иметь 122 числа. Остается 854 — 122 = 732 числа. Делим на 11; частное будет 66 или 67. Берем 66; по крайней мере, столько числ, не имеющих факторами ни 3, ни 5, ни 7, будут иметь фактор 11. Остается 732 — 66 = 666 числ. Делаем то же для фактора 13. Это будет 666 : 13 = 51 или 52. Берем 51. Остается 666 — 51 = 605. Таким же способом выключаем те числа, у которых наи-
708
меньший фактор 17. Это будет 605 : 17 = 35 или 36. Берем 35. Остается 605 — 35 = 570. То же делаем с фактором 19. Это будет 570 : 19 = 30. Остается 540. Делаем то же с фактором 23. Это будет 540 деленное на 23 равно тоже 23 или равно 24. Берем 23, как частное. Остается 540 — 23 = 517 числ, не имеющих факторами ни 3, ни 5, ни 7, ни 11, ни 13, ни 17, ни 19, ни 23. Прилагаем количество самих факторов = 7, имеем 517 + 7 = 524.
Кажется, основание для сравнения взято мною правильное. Там оставалось 591 число, а здесь выходит только 524 числа из 1 600 нечетных числ.
Мне кажется, о комбинациях моих 80 числ можно сказать: те из них, которые, комбинируясь сложением по 2, дают числа нечетные, дают гораздо большее количество простых числ, чем давали бы 1 600 числ, взятых наудачу, которые, если бы были взяты наудачу в границах от 1 до 232 = 529, дали бы, вероятно, лишь около (524 или 525 простых числ, или, расширяя пределы, по неточности этого вероятия, положим) от 510 до 550 простых числ.
Так ли сообразил я? — Не знаю. И если соображение правильно, то что из него следует? — Не знаю. — А взглянув на предыдущие строки, вижу, что не умел правильно определить границ, в которых надобно брать числа наудачу. Это не от 1 до 529, а от 6 + 9 = 15 (наименьшее число в моей таблице нечетных комбинаций) до 415 + 460 = 875 (наибольшее число в ней).
Я говорю: количество 591 простых числ в ней чрезмерно. Я мог по недосмотру отметить иной раз сложное число как простое. Но таких ошибок можно предположить разве две или три, и они ничего не значили бы при громадности той разницы 524 и 591.
Пора отправлять письмо на почту. Буду ли продолжать эпопею моих дивных торжеств над трудностями математич. анализа для человека, незнающего алгебры? — Надеюсь, до следующей почты сумею рассудить: эпопея едва ли не бесконечна, когда автор ее учится азбуке, сочиняя ее; потому нечего и стараться продолжать ее; — брошу свои таблицы в печь и тем отниму у себя возможность продолжать смешить тебя.
Целую тебя, мой милый.
Жму твою руку.
Твой Н. Ч.
590
М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
30 окт[ября 1876.]
Милый мой друг Миша,
Буду продолжать мой ответ на твой вопрос: как я смотрю на роль папы в средние века и, в частности, на борьбу пап с императорами.
Не знаю, покончу ли в этом письме с общею стороною во-
709
проса; потому теперь же сделаю хоть маленькую заметку о той стороне его, которая, кажется, в частности, представляется тебе особенно интересной, о борьбе пап с императорами.
До Генриха IV никакой борьбы не было. Когда император бывал далеко от средней Италии, там часто бывали ослушания против его распоряжений, присылаемых без войска. Так бывало тогда повсюду: когда господин далеко, то плохо слушаются его. Потому императоры, от Карла и до Барбароссы, да и после, все свое правление проводили в разъездах (с огромною военною свитою, похожею на маленькую армию), когда не были в походах собственно так называемых, а являлись мирными правителями; тогдашний мир был порядочно похож на затишье в непрерывную войну, — затишье от изнуренья сил до восстановления сил (как теперь после ряда битв несколько времени война длится без больших сражений, пока войска пополнятся и ремонтируются). Итак, когда император был далеко, в Риме и около Рима не очень слушались его; как не очень слушались в Саксонии, когда он был далеко от нее, и в Швабии, когда он был далеко от нее. — В Баварии императоры Саксонского и Франконского домов бывали реже, чем в других частях Германии, потому баварские герцоги большею частью держали себя будто независимые, хоть нимало не отрицали своей подвластности императору. Но он далеко, — на Рейне, — то что ж за охота слушаться его на Изере и Инне? — Тибр от Рейна много дальше, чем Инн; да и Альпы на дороге. Быть ослушными на Тибре еще легче, чем на Инне.
Но это пока император далеко. Но он приезжает (мирно, со свитой, не говоря уж о походах с армиею) в среднюю Италию — ослушники смиряются, и он прощает или наказывает их, как вздумает. В числе ослушников бывал и римский епископ. И его император наказывал, как хотел. Совершенно то же отношение, как к архиепископу миланскому, майнцскому, кёльнскому. — Так было до Генриха IV. — После Гоэнштауфенов тоже нечего найти в смысле особенной важности папы по отношению к императору. Ссоры бывали. Но император — хочет, то интересуется буллами папы против него, а не хочет, то плюет на них (это, например, сменяется одно другим несколько раз в истории Людовика Баварского: захандрит Людовик, посылает к папе: давай мириться; пройдет хандра, говорит послам папы: убирайтесь подальше, на кой чорт мне ваш папа? — Ясно, папа служил Людовику материалом для развлечения от скуки во время хандры).
Из всех сколько-нибудь знаменитых или хоть немножко известных государей во все продолжение средних веков едва ли не один только Людовик IX французский серьезно уважал папу. Но вспомни: все считали его чудаком за это; и даже его свита открыто делала ему насмешливые упреки. Но и у него уважение к папе было лишь в мелочах. А чуть дело поважнее, он щелкал папу по пальцам, и папа прятал некстати протянутую руку.
710
Есть несколько курьезных примеров непонимания историками отношений между государями средних веков и папой; между этими примерами наиболее важные относятся к тому, что какой-нибудь государь объявляет себя вассалом папы. Так делали часто неаполит. короли. Но это была, по их мнению, церковная Церемония безо всякого реального значения. Читай историю отношений Неаполя к Риму. Когда в Неаполе междоусобие, то и папа примазывается тут, и будто бы кто-нибудь из сражающихся за неаполит. престол уважает папу: само собой, при войне всякому союзнику льстят. Но как только кто-нибудь из воюющих за престол одолел соперника, он берет и преспокойно держит папу за шиворот. — В Англии вздумал разыграть церемонию присяги на вассальство папе Иоанн Безземельный. Но припомни, как поступал он и перед тем и после того: он мальтретировал папу, как мог бы мальтретировать разве какой-нибудь мусульманский государь. Что ж его присяга на вассальство? Иоанн считал всяческие клятвы — ребяческою глупостью и хотел обмануть дурака, по его мнению, папу пустой церемониею, чтобы папа помог ему обуздать английское духовенство. — За грош почему не купить и крошечную поддержку? Присягнуть, в чем бы то ни было, Иоанну было не дороже гроша. И сам он не мог же не знать, что папа ему не поможет, что английские епископы и тем более английские светские вельможи никогда не слушались советов папы и отвергнут теперь его вмешательство в их ссору с Иоанном. Серьезные приготовления Иоанна к подавлению их были обыкновенные военные. А вассальство папе было пустым кощунством хитреца, игравшего всяческими присягами с наглостью, дивившею всех даже и в те времена всеобщего бесстыдного клятвопреступничества.
Возвращаюсь к так называемой борьбе пап с императорами. Она кажется историкам имевшею большое значений в истории императоров от Генриха IV до Конрада, последнего Гоэнштауфена. Это около двухсот лет; — только двести лет из тысячи лет средневекового отдела истории. Историки сами видят, что ни прежде, ни после, серьезного вреда никакой папа не мог сделать никакому императору, и когда ссорился с ним, то при всем своем ожесточении оставался противником бессильным, не стоившим внимания. Что ж за чудеса: ничтожество делается силою, и через 200 лет эта сила снова становится ничтожеством? — Объяснение очень просто: эти дивные превращения — иллюзия историков. До Генриха IV власть немцев в средней Италии была довольно прочна. И папа не смеет шуметь. После Италия 200 лет бьется против немцев. И папа шумит. Наконец немцы изгнаны из Италии. Папа может шуметь или не шуметь, как ему угодно, но его шум не относится ни к чему важному для немцев и итальянцев и никому не занимателен.
Этим и ограничусь пока, как предисловием к истории борьбы пап с императорами. Оставляя до следующих писем более под-
711
робное изложение этого частного вопроса, займусь общим вопросом о значении пап в средние века.
Как управитель имуществ богатой римской эпархии, а после и государь довольно большой области, папа имел порядочную-таки светскую силу. Но какой же, однако, был размер этой силы? — Приблизительно такой, как у короля наварского, у маркграфа бранденбургского, у герцога гельдернского, — у государей третьей или четвертой степени по силе. До силы герцога саксонского или владетеля миланского папе было далеко. Перед королем неаполитанским, когда в Неаполе не было междоусобия, папа был фигура очень маленькая, трепещущая и чуть начинавшая ссориться, то хватаемая королем неаполит. за шиворот. Но, впрочем, в своем итальянском муравейнике не последняя фигура. Все равно как герцог гельдернский в своем нидерландо-вестфальском соседстве.
Это отчасти понимают и историки: как светский государь, папа был не из числа государей сильных. Но «он был властелин духовного мира», — полагают они, и «эта власть его была в средние века колоссальною силою», — полагают они. Это пустая иллюзия, мой милый.
Царем католич. церкви папа был объявлен лишь только уж на Тридентинском соборе. Это было подражание факту, установившемуся тогда в устройстве светского правительства Испано-итальянской державы и Французского королевства. Но был ли хозяином во Франции король французский до долгой борьбы французов с английскими королями, хотевшими завоевать Францию? — Нет, лишь в этой борьбе, долго бывши главнокомандующим всех войск, отстаивавших национальную независимость, король Франции стал хозяином всех избавленных от иноземного господства частей Франции. — Ты знаешь, сила франц. короля долго росла и раньше этой войны династии Валуа с Плантагенетами. Но все-таки до нее и после нее большая разница в степени зависимости крупных областных государей от короля Франции. — А в Испании подчинение феодальных областных владетелей королям установилось даже позже, чем во Франции (зато сразу установилось сильнее), это было, ты знаешь, при Изабелле и Фердинанде.
Когда король Франции не был во Франции хозяином нигде за границами своей феодальной территории; когда король кастильский не был хозяином в Кастилии, — каким же образом мог бы кто-нибудь в каком-нибудь отношении быть хозяином во всей Западной Европе? — Духовное господство папы над католич. церковью в средние века — иллюзия. Граф фландрский, граф шампанский, непосредственные соседы феодальной области герцога иль-де-Франсского, носившего титул короля Франции, признаваемого ими обоими за своего короля, не хотели слушаться его. Была ли в такие времена возможность, чтобы архиепископы Германии или Франции серьезно подчинялись папе, который тогда и на словах-то, не только на деле, не был монархом духовного мира, а был
712
лишь президентом в собраниях духовных вельмож? — Когда Тридентинский собор провозгласил его духовным монархом, император, короли, все другие государи католич. мира приняли за правило: в государстве каждого получают законную силу лишь те распоряжения папы, которые одобрит, провозгласит в своем государстве государь его. Это, ты знаешь, в некоторых государствах называлось placet или placitum. Но где и не употреблялось это название, власть утверждать или кассировать папские распоряжения по духовному ведомству все равно практиковалось государями. Например, в Испании при Габсбургах. Возможно ли воображать, чтобы Филипп II мог допускать в своей монархии чью бы то ни было власть, не подчиненную его власти? — Историки склонны иметь такое ребяческое понятие. Но оно просто — ребяческая наивность. Это после Трид. собора. А до Трид. собора каждый архиепископ имел право placet’a относительно папских распоряжений. А епископы каждой метрополии (архиепископского округа) присвоивали себе, — каждый епископ такое право относительно распоряжений своего архиепископа. Всем известна история буллы Льва Х против Лютера: кто из немецких епископов захотел, обнародовал ее. А большинство епископов рассудили: она не годится, и отвергли ее. Таково было средневековое право их. Вспомни историю и того дела, которое подало повод к реформации. Лев Х хочет продавать в Германии индульгенции. Примас Германии, Альбрехт, архиепископ майнцский, отвечает ему: «не позволяю». — Смеет ли спорить с ним Лев Х? — Нет. Он упрашивает Альбрехта. Уступает ему часть выгод от продажи. Тогда Альбрехт решает: «Хорошо, пусть продаются индульгенции». Таково было средневековое право архиепископов: каждый из них по своему усмотрению утверждал или кассировал распоряжения папы.
Это о духовной власти папы в средние века над церковью. Но еще важнее того другая сторона дела: велико ли было в средние века уважение к церкви? — Скажу об этом лишь несколько слов теперь, потому что пора отдавать письмо на почту. Подробности отложу до другого раза.
В средние века, вместо жалованья чиновникам по гражданской части, давали им поместья. Эти поместья были — аббатства, епископства. Кроме того, у многих династий с очень раннего времени было желание для поддержки своего династического могущества оставлять государство нераздельным и вознаграждать младших сыновей богатыми поместьями; опять тоже аббатствами, епископствами. Поэтому важных лиц между аббатами и епископами было множество, и множество было духовных владений, очень богатых и важных. Но неужели эти принцы и вельможи, носившие титул, звучавший по-церковному и управлявшие церковными имуществами, были в самом деле люди духовного сословия в нынешнем смысле слова? И неужели обширные владения, доходами с кото-
713
рых они пользовались, были действительно церковными имуществами в нынешнем смысле слова? — Это лишь недоразумение историков, и пусты их громкие тирады о великом значении церкви в средние века. А отчего так размножились эти мнимоцерковные богатые владения? — Да просто потому, что высшие церковные саны издавна, с III или и II века нашей эры были соединены с обязанностью безбрачия. И вот Меровинги, Каролинги и все следующие династии справедливо рассуждали так: лишь попробуешь поручить какую-нибудь должность человеку женатому или имеющему право жениться, он устраивает, что его должность остается наследственною в его роде, и из должностного места вырастает государство с особою династиею; не лучше ли для нашей императорской, королевской или герцогской династии раздавать должности в нашем государстве людям, не имеющим права жениться? — Законных наследников у такого человека не будет, и после его смерти не отвалится от нашего государства его должностное владение, а останется при нас, да и самым замещением должности мы можем распорядиться тогда снова по нашему усмотрению. — Вот тебе, в сущности, и весь смысл фактов, из которых историки извлекают по недоразумению пышные тирады о благочестии средневековых людей, о могуществе церкви в средние века. — Натурально, бывали и тогда люди с религиозным настроением. Например, Людовик, сын Карла Великого, или после Матильда Тосканская, или еще после Людовик IX. Но тогда их было меньше, чем в прошлом или нынешнем веке. И если в прошлом или нынешнем веке их влияние на ход дел не очень велико, то прежде было еще меньше.
А крестовые походы, а религиозные междоусобия? — Считать эти факты, совершавшиеся под знаменами церкви, делами, происходившими по религиозным мотивам, иллюзия. Эмблемы, знамена были церковные. Мотивы были обыкновенные житейские. — Чтобы не углубляться теперь в разбор истории крестовых походов и тому подобных средневековых фактов, разберу сущность подобных дел в факте, история которого известна всем ближе, чем те давние истории.
Тридцатилетняя война — это религиозная война, говорят историки. Ребяческая иллюзия. — Начало войны — борьба чехов за государственную самостоятельность. — Максимилиан Баварский и Фердинанд одолели. И Фердинанд задумывает стать хозяином в Германии вроде Барбароссы, а Максимилиан Баварский расширяет свое государство и хочет подогнуть под свою власть всех государей юго-западной Германии. Это эпоха самоуправств их армий, армий Тилли и Валленштейна. — В Швеции царствует даровитый воин, который с самого начала правления бьется со всеми соседами для увеличения своих владений. Видит, что в Германии неурядица, которой можно ему воспользоваться: накидывается на Германию. А французы, по давнему своему правилу, желают осла-
714
бить династию Габсбургов и помогают всем ее противникам. С появления Густава Адольфа в Германии дело уж так ясно, что и историки, при всем своем ослеплении иллюзиею религиозных мотивов, принуждены сознаться: да, война как будто не совсем из-за религии: католики-французы помогают протестантам. А протестанты — саксонцы и бранденбургцы нимало не желают участвовать в защите протестантства. И курфирст Саксонский уж успел получить награду от Фердинанда, Лаузиц. — После смерти Густава Адольфа уж ровно никто ровно ничего и не думает толковать ни о католичестве, ни о протестантстве, кроме только одной наивной души в целой Европе, — кроме вдовы, управляющей Гессен-Касселем; и главнокомандующий ее войск Меландер лезет из кожи вон, стараясь растолковать ей, что религия тут ровно не при чем. Она так-таки до конца и осталась ровно ничего не понявшей. Историки видят, ее пример хорош, и усиливаются по возможности подражать ей, стараются не понимать и отчасти успевают в том. Бернгард Саксонский (Саксен-Веймарский), наемник французов, защищает, по их мнению, интересы протестантства.
История средних веков еще более переполнена иллюзиями историков, чем история Тридцатилетней войны.
Продолжение разбора твоего вопроса, мой милый, отлагаю до следующего письма. — Будь здоров. Жму твою руку и целую тебя.
Твой Н. Ч.
Остается еще несколько времени до той поры, когда надобно будет отдать письмо на почту. Прибавлю, сколько успею, к написанному прежде. — Говорят: «крестовые походы, это было религиозное дело». — Да, участвовали тут и религиозные мотивы. Но под их преобладанием совершал свои походы чуть ли не один только Людовик IX. До его походов наибольшую силу религиозные мотивы имели в первом крестовом походе. Но даже и в нем какими мотивами руководились почти все начальники? — Желаниями завоевать себе на востоке обширные владения и отличиться храбростью. Боэмунд и Танкред были вовсе чужды религиозных чувств. Почти все другие тоже. Исключение составлял один какой-то — граф ли тулузский, или граф фландрский? Я не умею хорошенько вспомнить, который из двух этих. — Кто был Готтфрид Бульйонский, избранный королем иерусалимским? — Самый непоколебимый приверженец и самый храбрый боец Генриха IV, отлученного от церкви. Кажется, от его руки получил смертельную рану анти-король, Рудольф Швабский. Так ли, справься; я не ручаюсь, что не обманывает меня память. Но то достоверно, что когда Генрих IV брал штурмом Рим, за стенами которого оборонялся от Генриха папа, Готтфрид отличился лучше всех штурмующих; и, кажется, первый из них взошел на стену. Это воитель за веру: — он мог быть благородный человек и, кажется, действительно был. Но что он действовал по религи-
715
озным мотивам, верить тому — слишком наивная иллюзия. — Это о предводителях. А о толпах, шедших за ними, сами летописцы свидетельствуют, что почти у всех рыцарей и простолюдинов мотивы были чисто житейские, — иные, дурные, иные, хорошие, но житейские. — О следующих походах даже историки принуждены сознаваться, что это были просто-напросто военные предприятия по обыкновенным мотивам военных предприятий; между важными походами единственным исключением из этого были походы Людовика IX. — Довольно на этот раз.
Целую тебя и жму твою руку, мой милый.
591
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 8 ноября 1876.
Милый мой дружочек Оленька,
Несколько дней тому назад послал я довольно длинное письмо к тебе и два, тоже длинные, письма к детям. — Письма к детям состояли, разумеется, из удивительно ученых рассуждений. А письмо к тебе содержало, разумеется, мое неизменное хорошее известие о себе, что я здоров, как нельзя лучше и желать, и живу очень хорошо. Повторяю это и теперь.
Ты порадовала меня, моя голубочка, своими письмами от 20 июля и от 11 августа, в которых ты говоришь, что курс вод на Кавказе принес пользу твоему здоровью. Но одного сезона мало для совершенного восстановления здоровья. Прошу тебя, моя милая радость, поезжай и в следующий сезон на Кавказ или, что было бы, вероятно, еще лучше, в Карльсбад. А на зиму надобно было бы тебе отправиться в Южную Италию. Надоел я тебе просьбою о ней. Но буду повторять просьбу, пока ты решишься исполнить ее.
Ты одобрила, — значит, и я одобряю, — намерение Саши поступить в Горный институт и намерение Миши поступить в Горное училище.
К следующему разу, быть может, опять приготовлю ученые рассуждения для них и, вероятно, буду иметь время написать длинное письмо к тебе. А на этот раз пусть письмо будет коротенькое, чтобы скорее шло к тебе.
Целую детей.
Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая радость. Будь здоровенькая и старайся быть веселенькой, и все будет прекрасно.
Тысячи и тысячи раз целую твои ручки, милая моя Лялечка.
Твой Н. Ч.
716
592
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
22 ноября 1876. Вилюйск.
Милый мой друг Оленька.
Я получил твои письма от 19 и от 21 сентября. Благодарю тебя за них и детей за приписки к ним.
Ты была опять больна, прочел я в них. Одного курса на водах, как я говорил тебе, было слишком мало для восстановления твоих сил.
Уехала ли ты на зиму в теплый климат? — По крайней мере, собираешься ли в те минуты, когда я пишу? — Умоляю, проводи вперед каждую зиму в теплом климате.
А на лето, умоляю тебя, поезжай пользоваться водами. Умоляю тебя об этом.
И Миша был болен. Жалею бедняжку. Целую его. Целую Сашу.
Я совершенно здоров. Живу попрежнему очень хорошо.
Пора отдавать письмо на почту. Она отправляется раньше, чем я полагал. По почерку ты видишь, я тороплюсь, чтобы не задерживать ее.
Будь здоровенькая, и я буду счастлив.
Тысячи и тысячи раз целую и крепко обнимаю тебя, моя милая радость.
Твой Н. Ч.
593
О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ
Вилюйск. 19 декабря 1876.
Милый мой дружочек Оленька,
Я совершенно здоров и живу хорошо. Денег и всего, что необходимо, у меня много.
Не умею припомнить, сколько времени прошло с отправления прошлой почты. Но, кажется, довольно много. Потому, чтобы скорее шло к тебе это письмо с извещением о себе, пишу, — как обыкновенно делаю при больших интервалах между почтами, — лишь несколько строк. — Если успею, то приготовлю другое письмо, более длинное. Нет, — то отправится к тебе одно это. Разумеется, в сущности — разницы нет. И в длинном письме было бы все только то же, что и в этом.
Ты ждешь прочесть: «Я тревожусь твоим здоровьем; и больше ничем». — Конечно, так, моя милая голубочка. — И дальше будет все только то, что уж писал я тебе столько раз, сколько было в эти годы писем к тебе.
Ты мало заботишься о твоем здоровье. Умоляю тебя, заботься о нем побольше. Проводишь ли ты эту зиму в Южной Италии? — Если да, я перестану тревожиться за твое здоровье.
717
Собираешься ли ты на летний курс вод в Карльсбад? — Если да, то я буду уверен, что твое здоровье восстановится.
Милый мой друг, умоляю тебя, не пренебреги этими моими просьбами.
Целую Сашу и Мишу.
Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая радость, единственная моя мысль, мое счастье, мой милый дружок.
Будь здоровенькая. Целую и целую тебя.
Твой Н. Ч.
* Если, однако, вы спросите меня только о моем желании, то я поехал бы с величайшей радостью и именно на восточный факультет. — Ред.
6
* При помножении 43 на 4, единицы помножены по ошибке на 3. — Ред.
* Если угодно и другую причину приведу: при отсутствии у повозки рессор даже у меня грудь и тело болели от постоянной тряски и ушибов; что же сказать про маменьку? Милостью божией мы здоровы, но очень растрясены тряской в повозке, чего в дилижансе не будет. — Ред.
2 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
17
* Петр, разумеется. — Прим. Н. Г. Чернышевского.
* Исправленная опечатка, было: «котороый».
61
* Иисус, ты мне полководец, ты мне свет, ты царь, ты закон, ты мир, ты мне светоч, ты мне голос. — Ред.
** Пусть будет справедливость или пусть погибнет мир. — Ред.
* Пусть исчезнет ложь, насилие и придет справедливость, или рушатся небеса. — Ред.
** Насилие, ложь, ссора пусть исчезнут, или пусть рушится мир. — Ред.
5 Н. Г. Чернышевский, т. ХIV
65
* Избегай спрашивать, что будет завтра, и пользуйся каждым днем, какой даст жребий (Гораций). — Ред.
** Римлянин, пока не восстановишь храмы и рушающиеся жилища богов и почернелые от дыма изображения, неси кару, невинный, за преступления предков (Гораций). — Ред.
68
* Николай брату Александру. Прошу извини меня сам и проси других братьев и сестер извинить меня. По недостатку времени вынужден написать только такое длиннейшее письмо. Будь здоров. — Ред.
84
* О каких это маменькиных секретных делах говорите вы, папенька, ради которых вас посетил Федор Степанович? Не сватает ли кто мою старшую сестру? — Ред.
95
* Siveris, sinas. — Прим. H. Г. Чернышевского.
* Поди к чорту. — Ред.
* Два противоречия, которые, наконец, объединяются. — Ред.
** Утверждаю. — Отрицаю. — Ред.
* Руками любви, с юношеской страстью я обнимаю природу, пока она не начнет дышать и пылать на моей груди поэта. (Шиллер. «Die Ideale») — Ред.
** Руками любви, с юношеской страстью я обнимаю природу, пока она не начнет дышать и пылать на моей груди поэта. (Шиллер. «Die Ideale») — Ред.
218
* Добрейший папенька, я хотел бы много написать Вам, чтобы Вы знали, что я понимаю и ценю Вашу величайшую доброту ко мне, но нехватает времени и сюда присоединяется много других помех. Напишу после. — Ред.
229
* Словами не могу выразить, сколько я о Вас думаю и как люблю Вас. Будьте здоровы, дорогой папенька, достойный лучшего сына, чем я. Молю бога, чтобы он за Ваше величайшее благорасположение ко мне ниспослал Вам здоровье и всяческую радость. — Ред.
232
* Я думаю, что Вы знаете от ее отца, что она беременна. Теперь выяснилось то, о чем раньше можно было только догадываться. Все обстоит благополучно, как говорят женщины, опытные в этом деле; можно ждать только хорошего. Мы думаем, что роды будут в начале марта, а не в январе, как, может быть, думает ее отец. Да будет милостив бог. — Ред.
17 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
257
* Именно, мне нужно написать статью для «Отеч. записок», которые дают только 20 рублей, но у них 4 листа, а следовательно, для меня предпочтительнее. — Ред.
260
* Эту неделю я был перегружен работой. Затем у Некрасова; поэтому не мог съездить в Лесной. — Ред
263
* Эта подруга моей жены уже не первой молодости. Я думаю, ей 30 лет. Она — бедная и поэтому более благоразумная. Три года тому назад она потеряла брата дяди моей жены; потом была за мать той девушке, о браке которой я говорил раньше. Теперь решила жить уроками немецкого и французского языков. Она благоразумна, как я сказал, и добра. Такого рода отношения заключают в себе только хорошее, поскольку дело касается моей жены. Поэтому я охотно согласился, когда жена попросила у меня, чтобы ее подруга жила в комнате, нам ненужной. Мы оба, я и жена, главным образом то имели в виду, чтобы жена могла предаваться дружеской беседе, когда я занят. Это бывает часто, и раньше жена в это время была в одиночестве. — Ред.
272
* Если кто имеет отца непорочной жизни, чье имя дорого всем хорошим людям — так это я. Если кто имеет отца, подражать которому — высшая радость и добродетель — так это я. О прекрасный отец, ничего я не прощу от бога, кроме того, что быть подобным отцу, хоть отчасти, надеяться быть подобным полностью я и не дерзаю. Блаженны непорочные, как говорит св. писание. Блаженны, у кого друзьями все хорошие люди, кого вечно помнят все те, кто их хорошо узнал. — Ред.
274
* Дело тем более удивительно, что между ними, как мы должны признать, не было ничего грязного. Повидимому, эту женщину привело к браку стремление найти верного покровителя своим сыновьям и дочерям, если с нею самой что-нибудь случится. Почему молодой человек пожелал брак, неясно. Достаточно ясно, что его решение не было продиктовано какой-либо восторженной любовью. — Ред.
280
* Напишите, пожалуйста, дражайший папенька, что Вы думаете об этом моем плане поездки Вашей дочери? Как по-вашему лучше: чтобы она поехала хотя бы одна, раз я не могу ехать в Саратов, или же подождать того времени, когда мы сможем ехать вместе? — Ред.
292
* Т. е. по распоряжению правительства и воле самого дворянства. — Прим. Н. Г. Чернышевского.
* Да, я прибавляю, что если она может ждать денег 2 или 3 месяца, то напечатаем книгу мы сами и продадим уже готовое издание, т. е. продадим все издание целиком, это выгоднее. — Прим. Н. Г. Чернышевского.
28 Н. Г. Чернышевский, т. XIV
433
* Исправленная опечатка, было: «раговора».
478
* Исправленная опечатка, было: «Поэтоому».
** Исправленная опечатка, было: «тлько».
570
* Видвеста — это фантастическая книга; то есть нечто среднее между. «Веда» и «Авеста». То времена, предшествовавшие Зороасту. Вистар — дело явное: видеть video, wissen — прозорливец: фантастическое слово будто бы из языка времен, предшествовавших Зороастру. И все так: ученость? —непомерная. — Прим. Н. Г. Чернышевского.
** Английские стихи (моего изобретения, конечно) нужны для того, чтобы видно было: русский переводчик не знает персидского, и переводил с английского перевода. Прим. Н. Г. Чернышевского.
* То есть это не дни, а суммы теплоты, получаемой всею данною параллелью в данный момент, это я знаю, мой милый: не шути над отцом: ученость!
637
* Не должно клясться словами учителя. — Ред.